Казнь Египетская
Готовится к печати и скоро увидит свет первая книга романа «КАЗНЬ ЕГИПЕТСКАЯ», в которой «Офицерский СоборЪ» продолжает книжную серию «ХХ век в романа Николая Шахмагонова «Казнь Египетская», «Ярость благородная», «К земным звёздам», «Путь к Истине» и «Времена предстоящие».
С героями романа, пролог и первые главы которого мы предлагаем вашему вниманию, а также с сыновьями и внуками этих героев читатели уже встречались на страницах выпущенных в 2007 году романов «Ярость благородная» и «Офицеры России. Путь к Истине» Современный, взвешенный взгляд на события Первой мировой и гражданской войн позволяет понять наше великое, зачастую трагическое прошлое, чтобы вернее увидеть свои задачи в будущем. Главное в романе – осмысление места, которое занимало Русское офицерство в ходе событий прошлого. Перед нами раскрываются трудные судьбы династий защитников Отечества Российского. Это династии Теремриных, Ивлевых, Гостомысловых, Световитовых. Одни берут начало во временя Андрея Боголюбского, другие – в эпоху Иоанна Грозного, третьи – появляются на сцене при Екатерине Великой. Но все они объединены одним – служением Отечеству. Игорь Андрушкевич, принадлежащий к династии, подобной изображенным в романе, заявил на 1- м Съезде кадет России, что в его роду за пять столетий не было такого позора, чтобы кто-то из мужчин не служил России в армейском строю. У многих героев романа есть реальные прототипы, для раскрытия которых ещё настанет время.
Роман по-своему уникален. Наверное, это первая попытка связать вековую историю нашего Отечества судьбами наиболее ярких династий. Роман актуален, многие сюжетные линии его выписаны остро, захватывающе.
Николай Шахмагонов
КАЗНЬ ЕГИПЕТСКАЯ
(главы из романа)
«Война будет, великая война. По воздуху люди, как птицы летать будут,
под водою, как рыбы плавать, серою зловонною друг друга истреблять
начнут. Накануне победы рухнет трон Царский, измена же будет расти и
умножаться. И предан будет правнук твой, многие потомки твои убелят
одежду кровию Агнца такожде, мужик с топором возьмёт в безумии власть,
но и сам опосля всплачется. Наступит воистину казнь египетская!
Из пророчеств вещего Авеля-прорицателя
Государю Императору Павлу Первому.
Клятвопреступление
«Кругом измена, трусость и обман…»
Из дневника Государя Императора
Николая Второго
Генерал Рузских, один из самых активных заговорщиков шайки генералов и адмиралов – клятвопреступников, шёл на последний молебен последнего Русского Императора, свергнутого не без его прямого участия. Все были в храме. Он чуть запоздал. Уже прошёл в храм, тот, кого ещё вчера вся Россия почитала своим Государём, своим Отцом Земным и в котором видела как бы отражение Отца Небесного, уже прошли примчавшиеся на это печальное для Русских и долгожданное для врагов России омерзительное шоу думские питекантропы и не менее мерзкие генералы-предатели. Уже заняли свои места священники, приготовившиеся к исполнению обряда, необычного и непривычного для России.

Рузских специально запоздал. Оторопь брала, когда он видел заплаканные лица офицеров и местных жителей, с ужасом собиравшихся на молебен. Даже генералы Алексеев и Иванов, организаторы злодеяния, были мрачны, но не из жалости к Царю, а от мистического страха за свои судьбы.
Да и сам Рузских при всей своей низости, при всей своей алчной сущности, находился в нервозном состоянии. Нет, нет, да пробивал озноб до самых костей, и причиной его была вовсе не промозглая погода на станции Дно, а что-то непонятное, что-то диктуемое силами, неподвластными ему. Он с утра никак не мог согреться. Пить водку до молебна не решился, а чай не спасал, хотя он хватал крутой кипяток, рискуя ошпариться, и тщетно обхватывал пылающий, казалось бы, стакан.
Март в том году не баловал тёплыми деньками. И весна не сулила радости. Трагичен для России месяц март – сколько преступлений он уже принёс в минувшие годы! Сколько принесёт ещё!
Вот и храм. Вокруг пустынно. Все уже там, за стенами, где тоже, наверное, нет спасения от промозглой погоды, ибо изморозь этого мрачного и смутного дня не задержалась на лицах людей – она проникла в самые души.
Рузских уже поставил ногу на первую ступеньку широкой каменной лестницы, ведущей к входной двери, когда почувствовал на себе чей-то тяжёлый, испепеляющий взгляд. Он поднял глаза – до сих пор он шёл, глядя себе под ноги, словно опасаясь случайно встретиться взглядом со случайным прохожим.
– Что вы творите, иуды, что вы творите, ироды! Ведаете ли, что творите!? Остановитесь, пока не поздно, остановитесь, пока Господь не покарал вас за клятвопреступление, за отступничество от Помазанника Божьего, от Царя нашего Батюшки…
Рузских замер – перед ним был чернец с гневным лицом и жесткими глазами, словно прожигающими его из-под низко надвинутой чёрной шапки.
– Иль забыли клятву соборную шестьсот тринадцатого года? Иль забыли присягу Государеву и клятву на евангелие защищать Помазанника Божьего, не щадя живота своего? Власти захотели, богатств несметных, земли? Будут вам иудины сребреники по глотку, будет земли по глотку – подавитесь…
У Рузского пересохло в горле и потемнело в глазах. Он пошатнулся и упал бы, наверное, если бы не подбежал адъютант, отставший на несколько шагов.
Когда очнулся, никого уже перед ним не было, и он не мог с точностью сказать, был ли вообще кто-нибудь. Спросить у адъютанта не решился, слишком ужасным было то, что произошло. Голос чернеца стоял в ушах – «будет земли по глотку, подавитесь».
Точно в полусне он отстоял молебен, уже не смея радоваться организованному генералом Алексеевым мистическому шоу.
А вернувшись в свой кабинет после молебна Рузских увидел на столе два листка бумаги – на одном была напечатана Соборная клятва 1613 года - клятва пращуров за все поколения своих потомков в верности и преданности Русскому Престолу и вновь избранной Московским Земко-Поместным Собором всея Руси, а на втором – клятва, которую давали Русские воины – все, от солдата до генерала, своему Государю и Наследнику Престола. Он машинально прочитал прожигающие насквозь строки и, не удержавшись на ногах, обессилено опустился в кресло. Но листки с клятвами не отпускали. Они завораживали, они приковывали к себе и Рузских беззвучно шептал то, что было написано, приходя всё в больший ужас от содеянного.
Но, увы, это не было раскаянием, это было животным страхом и предчувствием чего-то ужасного.
«Клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови… Его Императорского Величества и Государства и земель Его врагов, телом и кровью… храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества верной службе и пользе государственной во всех случаях касаться может…

В чём да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключении же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь».
Быть может, в эти минуты ему вспомнилось, как он вместе с генералами Алексеевым, Даниловым и Лукомским, задержав эшелоны с преданными Государю войсками, заманивал Императорский поезд на станцию Дно, как издевался над Государём, требуя отречения, как вершил действия, недостойные не только генерала Русской Императорской Армии, но и вообще любой особи, почитающей себя подобием человека.
Он видел глухой укор в прекрасных, добрых глазах Государя. Он страшился его взгляда, и все преступные действия свои творил с особой разнузданностью, дерзостью и хамством.
Нет, раскаяние не наступило. Уже на следующее утро он снова было тем же хамом и мерзавцем, тем же держимордой, коим был прежде, тщательно скрывая эти дурные качества до тех дней, когда они оказались востребованными шайкой бандитов, именовавших себя государственной думой – жадной стаей, пустившей под откос пусть раненую, но могучую Империю в марте 1917 года. Эта шайка настолько прогневала Господа своей подлостью, что он попустил изъятие из среды Удерживающего – удерживающего от хаоса, анархии, мракобесия и крови. Ведь именно Русский Государь Промыслом Божьим является таковым Удерживающим.
А уже в октябре семнадцатого красная метла смела всю эту шайку, возведённую на высоту государственной власти Рузским и его страшной компанией. И он вместе со всей этой компанией пошёл на борьбу с красными, но на борьбу не за восстановление Православного Самодержавия, а на борьбу, неведомо за что, ведь направляли эту борьбу чёрные силы из-за кордона, направляли всё те же бандитские государственные формирования, которые не раз до того пытались стереть с лица земли Россию. Они известны многими своими подлостями, в том числе и самой близкой по времени, ещё незабытой Крымской войной.
Рузских не раскаялся. Тем более, с ним ничего не случалось, и пусть не завоевал себе своим предательством особых благ, он всё ещё надеялся завоевать их с помощью врагов России. Ничего не случалось с ним, быть может, потому, что Господь милостив, и давал ему последний шанс – этим шансом было известие о милосердном прощении его преступления Самим Государем Николаем Александровичем, которого тщетно именовали бывшим Царём, тщетно, поскольку Царь России даётся от Бога и только Всемогущий Бог может решать, как следует именовать Его Помазанника – Царём или бывшим Царём.
И когда надежд на раскаяние не осталось, свершилось пророчество…
В страшный год гражданской войны генерал Рузских был захвачен в Пятигорске красными комиссарами. Их руками была свершена кара Господняя. Те, кто пытал и истязал генерала, быть может, и понятия не имел о том, что жалкая особь, оказавшаяся в их руках и сразу забывшая про свою спесь, особь, молящая о пощаде, есть высокомерный генерал, дерзнувший хамить Царю и издеваться над Царём в трагические мартовские дни 1917 года.
Понял ли он в последние минуты своей преступной и жалкой жизни, какой грех совершил, бросив первый камень в Помазанника Божьего, а стало быть, и в самого Господа, ибо ещё Дмитрий Ростовский говаривал, что хула на Царя есть хула на Самого Господа. А тут уже не хула, тут хамство, насилие и преступление.
Его приволокли еле живого, уже неспособного даже молить о пощаде к подножию знаменитого Машука. И там набив рот землёю, которую он так жаждал поделить с иноземцами, живым закопали в эту землю, ещё помнившую великого Лермонтова, поручика, стоявшего выше многих генералов не русского, а алексеевско-рузского разлива.
Революции не делаются во имя народа, революции вершатся во имя удовлетворения алчных потребностей того, кто их делает, и их хозяев.
За грехи, великие грехи отступления от Православия, от Самодержавия и от Помазанника Божьего, был изъят из среды Удерживающий!... И наступила Казнь Египетская…
Протоиерей Иоанн Восторгов в неделю мясопустную 25 февраля 1918 года к годовщине революции писал в журнале «Церковность».
«Русская монархия, обвеянная верой и мистическим Божественным помазанием… имела великие задачи, величайшее призвание Божие, величайшее религиозное предназначение, которое заставляло многих служить ей религиозно. Другой власти уж так служить нельзя… Она уповала на дворян, им больше всего давала и преимуществ в жизни, а дворяне её предали и продали, и они-то образовали вместе с интеллигенцией, главным образом из своего состава, такую политическую партию, которая сто лет (с мятежа декабристов – Н.Ш.) развращала народ, боролась за власть и тянулась жадно к власти, не разбирая для того средств, а потом подготовила народное восстание, хотя и сама погибла, по Божьему Суду, под обломками великого падения старого строя.
Монархия опиралась на чиновников, а чиновники оказались наёмниками, и с величайшей лёгкостью все перекрасились и перекрашивались в какие угодно цвета, лишь бы сохранить своё положение. Она опиралась на буржуазию и богатые классы, поддерживая всячески их благосостояние и капиталы, а буржуазия своими деньгами, наживаемыми под покровительством монархии, питала только её врагов.
Она уповала на страшную силу армии, а вожди армии изменили, а офицеры год тому назад, у нас перед глазами катили на автомобилях, увешанных солдатами, студентами и курсистками, при общих кликах улицы, – катили с красными флагами восстания и праздновали… канун собственной, самой страшной своей гибели.
И вот, – свершилось! Суд Божий возгремел.
И Боже, Боже! Какой страшный за этот год свершился Твой Правый Суд. Все получили возмездие и ковали его себе – собственными руками.
И в годовщину революции я раскрываю третью главу таинственной книги. Она имеет надпись: «И окончательная, предопределённая гибель постигнет опустошителей…» (Дан. 9,27).
И наступила казнь египетская!..
Глава первая
Поздние летние сумерки вяло и неспешно густели до того непроглядного состояния, которое можно было бы назвать ночною мглою. Это августовские ночи бывают черным черны, если не вызвездит небо в ясную погоду, если облака закрывают ночные светила. Ночи сердцевины лета зыбки и непрочны, а так бы нужна была именно сейчас тёмная-тёмная ночь. Но нужна была она не для дел злодейских, а для свершения праведного.
Так думал генерал Василий Порошин, осторожно пробираясь пустынными городскими улицами к разрушенному зданию заводоуправления, столь же разрушенного и искорёженного завода, как и вся великая, много страдальная Россия. В едва уцелевшем и заброшенном подвальном помещении заводоуправления был назначен сбор всей его боевой группы.
Город был в руках красных, хотя всё чаще и чаще долетали с востока отзвуки артиллерийской канонады, словно отзвуки отделённого грома, который должен был рано или поздно грянуть над этим городом. Но Порошин не был уверен, что тот гром будет праведным, как не уверен, что делают праведное дело те люди, которые наступают на город и на плечах которых такие родные погоны – отличие доблести, чести и славы русской армии, но погоны, ныне посрамлённые генералами-предателями, свергшими по заказу думских деляг Государя-Императора. Да, они были посрамлены изменой Самодержцу Российскому, забвением праведной веры, неотделимой от повиновения Помазаннику Божьему, а теперь вот и сговором с врагами Святой Руси, готовыми растерзать её и разделить между собой.
Порошин знал очень и очень многое по сравнению и со своими бывшими сослуживцами и с теми, кто становился сослуживцами новыми. Но и он не в состоянии был предвидеть всего того, что ждёт раненную на взлете Россию. Он шёл к месту сбора своего небольшого боевого отряда, чтобы возглавить выполнение задания, вполне ему ясного и понятного – не ясно и непонятно было одно: почему это задание ему поручено не теми, кто сейчас наступал на город, а тем, кто безоговорочно встал на сторону, противоборствующую этим наступающим. Отряд Порошина должен был освободить из наскоро устроенного в городе острога людей, заточённых новой комиссарской властью, которая уже приговорила их всех к поголовному жестокому истреблению. Но удивительным было то, что именно от человека, формально принадлежавшего к этой власти, хотя и находившегося не на первых ролях, исходило поручение, которое предстояло выполнить Порошину.
И вот он, Василия Порошин, генерал Русской армии, пробирался, как тать, по родной земле, по улочкам небольшого города, словно вымершего в далеко ещё не поздний час, чтобы исполнить поручение человека, которого лично знал и по учёбе на спецфакультете Николаевской академии Генерального штаба, и по службе в Регистрационном бюро Генерального штаба. Ему ещё не было понятно, какую роль играет тот человек в новой, поистине бандитской власти, но он верил ему, потому что тот человек был из той же колыбели, из которой вышел он сам. А в той колыбели подлецов и предателей практически не встречалось. Да и задание само свидетельствовало о том, что человек тот радеет об Отечестве и о людях, жизнь коих принадлежала Отечеству.
Порошин был одет в красноармейскую форму. Собственно, к красноармейской её можно было причислить лишь благодаря пентаграмме, приколотой на фуражку, ибо больше никаких знаков различия ещё придумано не было, как не было ни чинов не званий, кроме самых простейших – комроты, комвзвода, начдив... Да и армии-то самой, по существу, не было, во всяком случае, в масштабе всей страны, названной как-то безобразно-странно – республикой. Самодержавие рухнуло, и всё, что теперь оставалось от него на необъятных просторах России, могло легко превратиться в дырку от бублика для коренного населения и в бублик для тех, кто сейчас рвался на эти земли, коварно взгромоздившись на плечи белых армий.
Порошин прибыл на место первым. Вслед за ним, один за другим, с равными, заранее определёнными интервалами, подошли все, кого включил он в этот отряд – все восемь полковников, частью его подчинённых, частью известных ему по службе в Регистрационном бюро генерального штаба. Всех их забросила судьба в этот небольшой город, потому что здесь было расквартировано то учреждение бывшей царской армии, которое осталось на Русской земле, и люди которого предпочли отстаивать границы России, будучи даже не согласны с теми, кто олицетворял новую бандитскую власть.
У каждого была своя судьба, у каждого был свой путь. Порошин твёрдо знал только одно – у каждого из восьми офицеров путь этот был честным. Это особенно важно потому, что дело, которое предстояло сделать, требовало полной самоотверженности и полной преданности истинной Православной России, которая сейчас существовала лишь в сердцах русских.
Они сходились к месту сбора осторожно, тайно не потому что боялись той власти, которая внешне господствовала в этом городе. Они были настолько высоко подготовлены, что, если бы возникла необходимость, справились бы не только со взводом или ротой, но, пожалуй, и с батальоном того сброда, который эта власть тужилась именовать рабоче-крестьянской армией. Армией это ещё не было, ибо сборище из числа дезертиров, бежавших с фронта, отнюдь не по причине своей храбрости, из числа ленивых батраков, покинувших хозяев, да и просто деклассированных элементов, жадных до чужих богатств, не могло быть армией. Тем более, собирал этот сброд под знамёна профессиональный бандит, грабитель и террорист, заброшенный из-за океана с компании подобных ему ублюдков и питекантропов, как их точно назвал спустя многие годы Иван Лукьянович Солоневич.
Порошин знал, что тот человек, который поручил ему столь ответственное задание, действительно собирает силы, способные не грабить, а защищать границы от международных грабителей, идущих вслед за белыми армиями, и он верил, что Россия не может погибнуть, а раз она не может погибнуть, значит, кто-то должен избавить её от этой гибели. И он верил, верил и надеялся, что избавителем будет именно тот человек, который направлял его сегодня на невероятно сложное и ответственное задание.
– Господа офицеры, – вполголоса начал Порошин. – Настал час, когда мы можем послужить России в это сложное и драматическое время. Романтик назвал бы его звёздным часом. Но сегодня не до романтики. Мы идём спасать узников, на спасение коих нас благословляет митрополит……
Он сделал паузу и с удовлетворением отметил, что ни один из офицеров не спросил, кто направляет на это задание и кого необходимо спасти – перед ним были профессионалы, которые привыкли не задавать лишних вопросов. В разведке это не только не принято, в разведке это преступно, ибо каждый должен знать только то, что ему положено знать, а круг того, что знать необходимо, очерчивает тот, кто ставит задачу.
– У вас всё готово? – спросил он у худощавого рослого полковника, не называя его имени.
– Так точно…
Собственно, он бы мог назвать имя, поскольку в отряде каждый знал его брата, полковника Геннадия Порошина, сотрудника Регистрационного бюро генерального штаба, то есть органа, заложившего основы разведслужб будущей армии, призванной отстаивать территориальную целостность России. Он не уточнил, а Геннадий не доложил ему о том, что в импровизированном остроге, где содержались узники, предварительная работа завершена.
А работа была не столь уж необычной для разведчика. Геннадию Порошину удалось завербовать одного из руководителей охраны острога, из числа ублюдков и питекантропов, которые сами себя именовали большевиками и комиссарами. Этот деклассированный элемент был взят под наблюдение, и вскоре удалось получить неопровержимые доказательства о том, что он растрачивает выделяемые подчинённому ему ведомству совдеповские средства. Тратил же он их на личные прихоти, которые, по его развитию, не были уж слишком изощрёнными – всё те же кабаки, всё те же кутежи, все те же деклассированные элементы, лишь внешне принадлежащие к прекрасному полу. Ему разъяснили, что данные о нём, если их показать новой власти, закончатся тем, что шлёпнут его по скоротечному приговору, особо не разбираясь в тонкостях дела – жизнь в то время была даже не копейкой. Жизнь человеческая в то время вовсе ничего не стоила.
Вот и пришлось этому питекантропу сообщать Порошину всю информацию, касающуюся и самому импровизированному острогу, и порядку содержанию узников, и системе охраны.
При следующей встрече Геннадий Порошин изложил план, который заранее до мелочей продумал и обсудил с братом.
– Вам будет сообщено время нападения на острог с целью освобождения узников. Ваша задача: после получения этих сведений перевести узников в цокольный этаж, где замурованы окна, оставить их там, чтобы не пострадали во время штурма.
Питекантроп был крайне удивлён – он рассчитывал, что ему как минимум велят освободить узников, что он сделать, конечно, не мог.
– И всё?
– Нет, ещё не всё… Если сделаете, что сказано, получите хорошее вознаграждение, если нет, то…
– Знаю, знаю – не дурак.
– Да, да, вы правильно понимаете – если вас не ликвидируют ваши начальники, то… – прибавил для пущей важности Геннадий.
– Понял… Сделаю всё, конечно, сделаю… Только дайте информацию и всё сделаю.
– И ещё… Если хотя бы волос упадёт с головы узников, я вас лично достану, где бы вы не пытались скрыться.
– Понял. Всё понял, – повторил питекантроп.
– У вас ведь есть инструкция, как поступать, если узников попытаются освободить? Так вот, если они когда-то освободятся каким-то образом, вы доложите, что выполнили инструкцию в точности. Ну а тела – тела ликвидировали.
– А что, кто-то может освободить?
– Не задавайте лишних вопросов. Слушайте, что вам приказывают и что советуют. Это необходимо для того, чтобы ваше тело не пришлось ликвидировать…
Питекантроп оказался окончательно запутанным. Он твёрдо знал лишь одно – знал, что нужно сделать с узниками, если возникнет угроза нападения. Была, конечно, мысль известить своё руководство обо всём этом, но, поразмыслив, он решил, что если даже начальство помилует его за растраты, то эти странные, неведомо откуда взявшиеся люди, рассчитаются с ним – уж от них пощады ждать точно не придётся. Он так и не понял, будет ли штурм, и каким образом при штурме он сможет сделать так, чтобы ни один волос не упал с головы узников. Сколько ни размышлял, ни к какой разгадке не пришёл. Решил не ломать голову. В конце концов, ему обещали вознаграждение за не очень сложную в общем-то операцию.
Все эти детали были известны генералу Порошину, но доводить их до офицеров нужды не было. Он сказал только о том, что касалось каждого.
– Мы находимся в здании заводоуправления. Из подвала заводоуправления прорыт подземный ход сообщения в подвал дома, в котором сейчас содержатся те, кого нам предстоит спасти. А из подвала острога, в свою очередь, сделан поземный ход в лес, за черту города. Это всё соорудил владелец завода, напуганный революцией пятого года. Наша задача: выдвинуться по ходу сообщения в подвал дома, и через люк проникнуть в комнату цокольного этажа. Узники будут находиться за дверью, которая закрыта и опечатана. Комендант дома считает, что в тёмной комнате хранятся старые личные вещи хозяина, у которого этот дома забрали под острог. С помощью нехитрой операции, заранее продуманной, дверь легко снимается, мы врываемся в помещение, где будут находиться узники, и ликвидируем стражу. Затем, спускаем узников в подземный ход и выводим их за город, в лес. Пути отхода минирует полковник Порошин!
Генерал традиционно спросил, есть ли вопросы. Вопросов не было. Тогда он предупредил:
– Среди узников есть женщины и дети. Это накладывает на нас особую ответственность, – и, взглянув на часы, закончил: – Получите оружие.
Из тайника были извлечены девять кольтов двенадцатого калибра.
– С Богом! Вперёд!
***
Полковника Регистрационного бюро Генерального штаба, а точнее уже бывшего бюро бывшего штаба, Афанасия Петровича Ивлева судьба занесла в уральский город после того, как он хлебнул революционного горя по самую завязку. В этом городе он совершенно случайно встретил однокашника по Воронежскому кадетскому корпусу Геннадий Порошин, тоже в недавнем прошлом служившего в Регистрационном бюро.
Разговорились. Ивлев рассказал о своих злоключениях, поделился мыслями о том, что не лежит душа к службе у белых, поскольку белые под явным и неусыпным контролем офицеров стран Антанты. Тогда-то Порошин и предложил участвовать в сложной и совершенно секретной операции, суть которой раскрыл лишь в части касающейся. – Основную часть операции проводит мой брат генерал Порошин со своими людьми. Я вхожу в его группу, – пояснил Геннадий.
– Какова моя задача? – спросил Ивлев.
– Ты же прекрасно водишь автомобиль.
– Во всяком случае, умею управлять, – ответил Ивлев.
– Так вот, твоя задача завтра утром получить грузовой автомобиль там, где я укажу, и, стараясь не привлекать внимания, выехать из города. К исходу дня ты должен подать автомобиль в точку, указанную на карте. Там тебя будут ждать, – и Порошин назвал пароль и отзыв, который должен будет услышать Ивлев.
– И всё?
– Будешь ждать нас там. Затем уже поставит задачу мой брат генерал Порошин.
– Туманно…
– Поверь, большего сказать не могу, – молвил Порошин. – Но имей в виду: ты будешь участвовать в операции важнейшей, причём, по благословению митрополита Макария. Будь внимателен. Не приведи за собой хвост. Хотя, по нашим данным, большевистские власти об операции не подозревают. И всё же постарайся не привлекать внимания. Не так много в городе автомобилей.
– Я тебе верю, а потому готов, – сказал Ивлев.
В назначенный час он прибыл в рощу за городом. Там его встретил офицер, которого Ивлев прежде знал лишь в лицо. Обменялись паролем и отзывом, но разговаривать не разговаривали. Офицер указал место, где поставить машину, которую тут же замаскировали. По едва уловимым признакам Ивлев определил, что организована круговая оборона рощи. Неподалёку занимал позицию пулемётный расчёт. Ивлеву были любопытны приготовления, но он спросил лишь об одном:
– Какова моя задача?
– Ждать…
* * *
В подземном ходе пахло плесенью. Не только отдавало могильной сыростью, но ощущалось, что одновременно и сыро, и душно – сочетание редкое. Наверное, это хуже, чем в шахте, ведь вентиляционные колодцы, если и были, то лишь в очень небольшом количестве – ведь главная ценность хода, кое где уже от времени превратившегося в лаз, была в его скрытности. Свет фонарика выхватывал крепёжные столбы.
Операция была далеко не безопасной. В этом замкнутом пространстве отряд терял свои преимущества, ибо свои боевые возможности офицеры реализовать не могли. Если бы кто-то узнал о них, мог бы, просто-напросто, взорвать во время перехода и похоронить под землёй в этой братской могиле.
Пробирались долго или только казалось, что долго, но, наконец, генерал Порошин сделал знак, и все остановились. Задачи он распределил заранее. Его брат осторожно приподнял люк, и все поочерёдно поднялись в комнату. За дверью было тихо, но Порошин знал, что ещё не настал обусловленный час, когда в комнату, что находилась за дверью, должны привести узников.
Он, конечно, предполагал, что всё может сложиться иначе, не мог не учесть и того, что питекантроп, с которым велись переговоры, возьмёт да сообщит обо всём командованию. Вот тогда кольты двенадцатого калибра пригодятся как нельзя лучше, ведь придётся самим ликвидировать охрану, причём всю до единого человека. Но это – не лучший вариант развития событий: узники могли пострадать. Правда, и тут можно было рассчитывать на внезапность. Уже стало ясно, что о подземном ходе никто даже не подозревает. Иначе бы им уж наверняка приготовили бы встречу.
Наконец, за дверью послышался шум, прозвучали резкие грубые, издевательские окрики, донеслась площадная нецензурная брань. Порошин подождал ещё несколько минут, пока всё успокоилось. Он пытался предугадать, у которой из стен разместили узников, и где расположилась охрана. В комнате было темно, жестом команды не подашь, но и это заранее предусмотрели. Порошин коснулся плеча своего брата, тот передал условный сигнал по цепочке остальным. Сигнал означал: приготовиться. Теперь можно было применить лишь один принцип – делай, как я.
Удар в дверь, и впереди открылась комната. Порошин предугадал точно. Охранники оказались справа от него. Прогрохотали выстрелы из кольтов, и два или три выстрела в ответ, точнее не в ответ – не в сторону отряда, а по узникам. Но всё произошло в мгновения. Охранники валялись, искорёженные пулями двенадцатого калибра. Была бы шире дверь – ни один бы из них не выстрели. Но…
– Раненых на руки. Быстро, уходим…
И услышал женский голос:
– Это промысел Божий. Я верила…
Пока одни спускали узников в подвал, другие заняли оборону, на случай, если кто-то сунется в помещение. Задерживало то, что мальчик лет пятнадцати и девушка чуть его постарше были ранены. Но перевязывать было некогда. Их спустили в подвал и понесли по ходу. Следом в подвал спрыгнули офицеры отряда. Последним отходил Геннадий Порошин. Он уже слышал топот ног охраны.
Аккуратно затворил дверь, с таким расчётом, чтобы преследователи потеряли ещё какие-то мгновения на размышления, что произошло, и куда делись узники. Затем спустился в подземный ход и привёл в боевое положение загодя установленные мины.
Наверху шум нарастал. Кто-то ругался, кто-то кричал, кто-то командовал. Уже завернув за поворот коленчатого подземного хода, услышал крик:
– Скорей, сюда… здесь подвал… Ход… Ушли гады…
Преследователи не сразу нашли люк, поскольку Порошин опустил его так, что утварь комнаты завалила его. Когда же нашли, кто-то стал спускаться. Впрочем, кто спустился и сколько человек, понять уже было трудно. Преследователям открылись два хода, а потому они наверняка разделились. Тем, кто отправился к заводоуправлению, повезло. Те же, кто направился за отрядом, нашёл свою могилу… Взрыв, приглушённый изгибами хода, прогремел, обрушивая подземное сооружение на большом протяжении. Пахнуло пороховым дымом и гарью. Обрушенный участок скрыл все шумы в подвале дома. Первую часть задачи отряд выполнил.
* * *
Стояла тёплая летняя ночь. Ивлева начинала занимать эта непонятная обстановка. Он пытался рассмотреть хоть что–то впереди, где угадывалась дорога, ведущая в город, но всё было тихо. Да и городские окраины притихли, погасли огоньки домов.
И вдруг, в нескольких метрах от него, там где, как он заметил, был небольшой холмик на опушке поляны, что–то треснуло, зашуршало, и словно из–под земли стали появляться люди.
«Подземный ход? Вот это здорово. Даже я ничего не заметил», – подумал Ивлев и тут же услышал голос Геннадия Порошина:
– Афанасий, ты здесь!? Заводи.
Ивлев прыгнул за руль, и услышал шум, который производили усаживающиеся в кузове люди.
– Осторожно, раненых сюда, на солому. Аккуратнее…
– Вперёд, Гена, вперёд. Садись за руль. Я здесь поеду, в кузове, – послышался голос Порошина.
Ивлев уступил место водителя. Кто–то из офицеров быстро установил пулёмет, укрепив его на капоте. Лобовое стекло опустили.
– Не разучился стрелять? Помню, ты и в корпусе и в юнкерском училище первым пулемётчиком был, – сказал Геннадии Порошин.
– Не волнуйся, – успокоил Ивлев.
По крыше кабины ударили два раза.
– Ну, с Богом! – молвил Порошин, и машина тронулась.
Ехали тихо. Порошин пояснил:
– В кузове раненые… Двое. Паренёк и девушка.
Ивлеву хотелось спросить, кто они, но он спросил:
– Как это случилось?
– Не обошлось без потерь. Собственно, трудно было рассчитывать, что обойдётся, – сказал Порошин. – Но делать нечего. Помедли мы ещё денёк – другой, и спасать было бы некого. Операция не так уж и проста. Нужно было подобрать надёжных людей. Брат взял меня и ещё семь полковников из числа своих прежних подчинённых. Все, как ты понял, разведчики. Задада: освободить группу людей, поверь, очень, очень важных. Ты извини, но я даже тебе не могу назвать их.
– Понимаю.
– Ну а сама по себе операция секрета не представляет. Содержали тех, кого мы спасли, в доме, превращённом в крепость. Усиленные караулы, пулемёты, словом всё необходимое для отражения штурма. Вполне понятно, что любой штурм мог закончиться гибелью тех, ради кого он предпринимался.
– И что же? – спросил Ивлев, мерно покачиваясь в такт вздрагиваниям машины на ухабах.
Разговор был неспешен, поскольку дорога ждала, как видно, дальняя.
Геннадий Порошин рассказал об операции и спросил:
– Ты видел, откуда мы появились?
– Видел…
– Его, как ты понял, мы и использовали.
Порошин некоторое время молчал, а потом сказал:
– Ты даже представить не можешь, кого мы спасли. Бог даст, когда–то о том узнаешь, но, увы, думаю, что случится это очень и очень не скоро. И прошу тебя, раз и навсегда забудь о сегодняшнем дне, о той операции, в которой участвовал. Накрепко забудь. Когда узнаешь, насколько это важно. И я забуду, забуду дол той пору, которая, верю ещё настанет!
– Мог бы и не предупреждать, – сказал Ивлев.
Ехали долго. Нелёгким был путь. Машина, натружено гудя мотором, с трудом преодолевала дороги, знавшие прежде только гужевой транспорт.
И вдруг по крыше кабины трижды стукнули. Геннадий остановил машину. Через минуту на подножку к нему поднялся генерал Порошин.
– Приветствую вас, Ивлев. Прошу извинить, что не подошёл сразу.
– Что вы, Ваше Превосходительство. До того ли, – отозвался Ивлев.
– В любом случае, благодарен вам за то, что приняли участие в этом деле, – и тут же, не дожидаясь ответа, обратился к брату: – Дела плохи. Раненых дальше везти нельзя. Придётся оставить здесь.
– Где же? – удивился Геннадий, осматриваясь.
Генерал Порошин раскрыл карту. Светало, но в предрассветной пелене ещё не различались знаки. Геннадий посветил фонариком.
– Ивлев, слушайте. С ранеными оставляем вас. Вот, высота с отметкой… Далее, за рощей, болото. Через него – гать. Её на карте нет. Проводник мне рассказал. В случае чего, можно уйти от преследователей по гати. Разведайте заранее. Если придётся отходить по ней, подорвёте. Я оставил гранаты. Раненых разместите в стогу сена. От него, в случае чего, по ложбинке можно уйти к гати.
Он сделал паузу, размышляя, не забыл ли чего, и, наконец, молвил:
– Да, понимаю, что всё это не очень здорово, но дальше лесисто–болотистая местность, сырость… Да и для манёвра вообще нет никакой свободы. С вами остаются два моих офицера. Больше дать не могу. Да и смысла нет. От случайностей убережётесь, ну, а если комиссары узнают о вас, то и полка для охраны мало будет. Но, полагаю, они уже нас потеряли. Иначе бы погоня началась сразу после операции.
Порошин вполголоса произнёс фамилии, и два молодых человека в военной форме, но без погон, подошли к Ивлеву, который уже стоял возле генерала. Они были из числа тех, кто обеспечивал операцию, находясь в лесу. Основные её участники оставались в машине.
– Поступаете в полное распоряжение полковника Ивлева. Задача вам ясна. Ни один волос не должен упасть с головы тех, чьи жизни вручены нам.
А между тем с машины уже сгрузили раненых. Возле них появились контуры женской фигуры.
– Оставляем раненых и ещё одну девушку для ухода за ними.
Кто–то приглушённо всхлипывал, кто–то шептал слова напутствия.
– Нам пора, – сказал генерал Порошин, занимая место Ивлева рядом с водителем, у пулемёта. – За вами придут, – сказал он и назвал пароль и отзыв.
Машина, всё также натружено гудя мотором, медленно двинулась по дороге.
– Пока остаётесь здесь. Следите за дорогой. Я размещу раненых и подойду. В случае чего, дадите сигнал фонариком.
Всё ещё нельзя было исключить погони.
Он подошёл к раненым. Две девушки стояли на обочине. У одной были перебинтованы руки. Паренёк сидел, прислонившись к стволу дерева. Ивлев нагнулся и взял его на руки.
Стог сена поразил ароматом разнотравья. Ивлев вспомнил родное поместье, сожженное комиссарами, вспомнил, как в детстве лазил по стогам с деревенскими мальчишками.
Медленно светало. Уже можно было рассмотреть своих спутников. И девушки, и мальчуган были в скромных нарядах. Разве только тонкие черты лица и манеры поведения даже в этой, необычайной для них обстановке, выдавали аристократическое происхождение.
Впрочем, Ивлев не слишком вглядывался в их лица, не слишком рассматривал их. Он усадил паренька, подложил ему под спину сена и посоветовал заснуть.
– Благодарю вас… Постараюсь, – ответил он. – Вот только сестрица перевязку сделает.
– Я вас оставлю на несколько минут, – сказал Ивлев и направился к дороге, где оставил офицеров.
Он понял, что они, как и он, скорее всего не знают, кто находится у них под охраной, и оценил мудрость Порошина. Если нужно соблюсти тайну, стало быть, надо обеспечить её соблюдение всеми средствами. Если нельзя посвящать большое количество людей в то, кто спасён из комиссарского плена, значит, и ему, Ивлеву, и тем двум молодым офицерам, знать об этом не следует. Ведь знают они или не знают, защищать будут одинаково, защищать так, как того требует долг Русского офицера, то есть до последней капли крови.
Лишь через два дня пришли от Порошина люди, а привёл их однокашник Ивлева по кадетскому корпусу Гостомыслов. Девушек усадили на лошадей, паренька Ивлев взял с собою в седло, но вскоре стало ясно, что и этот транспорт раненому не подходит. Пришлось спешиться.
– Я пронесу его на руках, – сказал Ивлев.
– Далече нести, барин, – сказал проводник, пришедший с Гостомысловым.
– Ничего страшного… Я справлюсь.
За два дня, которые недавние узники провели на опушке леса, Ивлев сдружился с пареньком. Они беседовали о литературе, о театрах, об армии, и мальчик поражал своими знаниями и своею осведомлённостью в самых различных областях. Но одно дело беседовать, удобно устроившись на душистом сене, другое – в дороге.
– Носилки бы сделать, – предложил проводник.
– Надо уйти подальше от дороги, – поторопил Ивлев. – Потом разберёмся.
Паренёк, понимая, видимо, что нести его не легко, через некоторое время, когда Ивлев совсем уже выбился из сил, властно потребовал, чтобы усадили на лошадь. Пришлось чередовать способ передвижения в зависимости от дороги.
Пока шли через лес Ивлев, желая хоть как–то отвлечь мальчишку, страдавшего от боли, рассказывал ему разные истории. Шли долго, шли лесными тропками, сторонясь дорог. Делали привалы, дневки и снова шли. Когда Ивлев выбивался из сил, его подменял Гостомыслов, но мальчик чувствовал себя комфортнее на руках Ивлева и тот старался снова взять его.
Наконец на таёжной дороге их встретили подводы.
– Будем прощаться, – сказал Гостомыслов. – Дальше нам нельзя. В деревню они должны прибыть без нас, чтобы крестьяне выдали их за своих родственников. Иначе всяко может быть.
И вот когда прощались, мальчик протянул Ивлеву своё фото и каким–то не совсем детским, а несколько даже начальственным голосом сказал:
– Дарую вам портрет свой в благодарность за оказанную мне и Отечеству услугу!
А потом все–таки не удержался и обнял своего спасителя, точнее одного из своих спасителей, словно в его лице выражая благодарность всем, кто рисковал жизнью в этой операции, тайна которой открылась Ивлеву очень и очень не скоро…
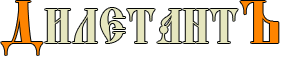
...
...
Я прочитал. Просто в моей голове бродили утренние тараканы и создалось впечатление . что написал все до конца :) Серьёзно !
Художник имеет право разводить в чужих головах тараканов ! Другое дело , дадут ли обладатели голов это сделать ? Помню в моем счастливом детстве , бабушка мне читала стихи Алексея Крылова .
Представьте, я , ребенок горшечного периода , думал что козлы умеют говорить и сторожить капусту :)
Тараканы , какими бы они живучими не были , со временем или сами сдохнут или их вытравят .
И еще .. Насколько мне известно , шахмагоновская Казнь Египетская , не входит в курс общеобразовательных школ и в. учебных заведений.
Прима/
Художник имеет право разводить в чужих головах тараканов !
Прям так категорично с восклицательным знаком? Однако мне хотелось бы не голых утверждений, а утверждений, которые хоть мало-мальски подкрепленны аргументами.
Другое дело , дадут ли обладатели голов это сделать ?
Дадут. У всех людей есть тараканы в голове, вопрос только в их количестве. Иногда современники в упор не видят то, что было очевидно для предков или будет очевидно для потомков.
Представьте, я , ребенок горшечного периода , думал что козлы умеют говорить и сторожить капусту :)
Проблема давняя. Имеют ли дети горшечного периода право на СКАЗКУ? Нужна ли им вера в Деда Мороза или им надо сразу говорить, что дядя с бородой, который придет их поздравлять, это нанятый родителями человек, желающий подзаработать в праздники.
Тараканы , какими бы они живучими не были , со временем или сами сдохнут или их вытравят .
Особенно понравилось ... или их вытравят , именно этим я и занимаюсь.
И еще .. Насколько мне известно , шахмагоновская Казнь Египетская , не входит в курс общеобразовательных школ и в. учебных заведений.
Человек учится всю жизнь, а не только в учебных заведениях.
zveroboi11nik
прима
Вмешаюсь в вашу дискуссию о художниках и тараканах.
По моему мнению как то неправильно ставить вопрос: Имеет ли или нет право художник делиться своими тараканами в голове, сиречь мыслями и идеями с читателем, зрителем, слушателем и.т.п, ?
Это всё равно, что спросить: имеет ли право человек дышать? Блин, да он не может не дышать. Физически не может. Просто умрёт и всё.
Так и художник. Он творит именно побуждаемый какими то мыслями, идеями чувствами и, разумеется, волей неволей вкладывает их в головы читателей, например.
Тут уж ничего поделать нельзя. Если я прочитал какую то книгу, то определёнными тараканами автор со мной поделился. Хочу я этого или нет - они уже у меня в голове.
Так, что вряд ли можно вести разговор о праве и отсутствии права когда речь идёт об объективной реальности, которой, вообще то плевать на права. Она просто есть и всё.
Назаров/
Вмешаюсь в вашу дискуссию о художниках и тараканах.
Я не веду дискуссию персонально с Примой или с кем то еще, поэтому всегда рад когда кто то ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ к обсуждению, и не считаю это вмешательством.
Художник как всякий человек может что то делать осознанно, а может делать неосознанно.
Возьмём например Владимира Резуна (Виктор Суворов) , совершенно ясно что данный "художник" занимается разводом тараканов в чужих головах вполне осознанно, тараканы которых он разводит, в его голове не проживают.
Что касается Шахмагонова, то данный "настоящий полковник" делится с публикой конечно же своими доморощенными тараканами.
Видите ли дорогой Назаров, меня давно уже волнует проблема, что в настоящее время любой дурак, может написать дурость и эту дурость растиражируют так, что мало не покажется никому. Должен же быть какой то барьер для чуши.
Поставим вопрос =имеет ли право художник разводить тараканов в чужой голове?= по другому:
Должны ли существовать барьеры для художника который откровенно несёт чушь?
Должны ли существовать барьеры для художника который откровенно несёт чушь?
А надо ли? Ведь барьер поставленный перед чушью делает её "запретным плодом" который был, есть и будет сладок. Тут уж ничего в человеческой психологии не изменишь.
Второе: барьер поставленный перед чушью вызывает ещё один психологический эффект у людей: "Раз запрещают значит боятся той правды..."
нет, даже не так, а вот как -"... той ПРАВДЫ!!!, которая там изложена..."
И чушь, сама по себе ничем не обоснованная и не доказанная, вдруг, к радости своего создателя получает в глазах людей такое доказательство своей правды...тьфу ты, конечно же ПРАВДЫ!!, о котором он,творя, и мечтать то не мог.
Всё это мы проходили в Советский период и начинаем, к сожалению, по новой проходить сейчас.
Кстати не только мы - Европа дружно наступила на те же грабли своими уголовными преследованиями за отрицание Холокоста.
Мне больше импонирует в этом вопросе североамериканский поход-всё разрешить. Пусть "запретного плода" вообще не будет ( ну разумеется, к примеру, порнуху от детей прятать надо)
Когда всё разрешено - чушь во первых тонет от глаз потребителя в море другой чуши.
Во-вторых, если и предстаёт пред его очи, то голенькая, без привлекательных одеяний запретного плода и страшной ПРАВДЫ. А без этих одеяний она выглядит очень смешно и глупо.
Ну и наконец - когда все идеи разрешены, ни к одной из них у публики не возникает достаточно серьёзного отношения, чтобы нехорошая идея стала материальной силой и причинила какой нибудь вред.
ПыСы: впрочем североамериканский вариант тоже вполне можно считать барьером перед чушью,только гораздно более эффективным чем его собратья европейского и советского типа.
Назаров/
А надо ли? Ведь барьер поставленный перед чушью делает её "запретным плодом" который был, есть и будет сладок. Тут уж ничего в человеческой психологии не изменишь.
А вот это мне уже отвечает "другой" Назаров, не тот который всегда на высоте. Дорогой Назаров не надо использовать методичку, вы от себя пишите гораздо лучше, чем когда следуете инструкциям.
Барьер и запрет разные вещи. Чушь не обязательно запрещать, достаточно её не тиражировать и не распространять. Да и не всякий запретный плод сладок, а лишь тот который =приятен для глаз и вожделенен=.
Простой пример: когда в городе было полно игровых автоматов, то было полно игроков, а сейчас на отшибе один "лотерейный клуб", и игроки куда то подевались.
Второе: барьер поставленный перед чушью вызывает ещё один психологический эффект у людей: "Раз запрещают значит боятся той правды..."
Тоже ерунда. Перед тиражированием книги "Моя Борьба" Адольфа Гитлера стоит множество барьеров, однако боятся в ней не правды, а лжи.
___
Ну а дальше комментировать нечего, дальше Назаров начинает отрабатывать свои 30 серебренников:
Мне больше импонирует в этом вопросе североамериканский поход-всё разрешить. Пусть "запретного плода" вообще не будет.
Это в США то подход - всё разрешить ?
:))))))))))))))))
Я чуть чуть жалею вас Назаров, мне кажется вы очень насилуете себя когда пишите подобную чушь. Рассудительному и трезвому человеку всегда тяжело от своего имени пороть заведомую хрень.
У НАС ЕСТЬ ЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ, У НАС ЕСТЬ, ЧТО ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗВЕРОБОЙНИКОВ!!!
МОСКВА 41-Й
Мы покидали города родные –
И Брест, и Минск, и Киев, и Смоленск,
Тревожны были сводки фронтовые:
Рвалась орда фашистская к Москве.
И в чёрные кресты на тёмном небе
Вонзались по ночам прожектора.
Мы помним, как дома крошились в щебень,
И помним Талалихинский таран.
И враг узнал на поле Бородинском,
Под Мценском, Дубосековом, как встарь,
Что Полосухин, Катуков, Панфилов
Крушить умеют крупповскую сталь.
И с нами сам Кутузов встал под Знамя,
Чтоб к доблести призвать Святую Рать:
«Назад ни шагу, ведь Москва за нами.
Пока мы дышим, будем здесь стоять!»
Стальные клинья вражеского стада
Нависли перед танковым броском.
Но в грозный час на Сталинском параде
Встал Невский, как на озере Чудском,
Как князь Донской на поле Куликовом,
Как Минин и Пожарский в смуты дни,
Врага сломить нам повелел Суворов.
Он видел немцев только со спины.
И с нами Бог святое войско двинул
На подвиг в том победном декабре,
И показал, как Салтыкову, спину,
Подобно Фридриху от нас бежавший зверь.
Вело к победам Сталинское Знамя,
Царили предков образы над ним.
Москва следила с гордостью за нами,
Как в Семилетнюю, дрожал от нас Берлин.
Мы обломили вражеские клинья,
Хоть Гитлер ждал, как ждал Наполеон,
Ключи Москвы, но грянул не в России,
А над фашистским рейхом Русский гром.
Воскресли в сводках города родные,
И Сталинград, и Курск, Орел и Минск,
И привели дороги фронтовые,
Как корпус Чернышёва, нас в Берлин.
И вот оркестр ударил мощью медной,
Москва помолодела от наград.
Был праздничным, торжественным победный
В июне 45-го парад.
Колонны войск ожили по команде,
Чтоб завершить поход священный свой,
Но первый шаг в победном том параде
Был сделан в 41-м под Москвой.
Над нами реет Праведное Знамя,
Святая Русь незыблемо стоит.
И не Москва – Россия вместе с нами
На Путина с надеждою глядит.
О том, что Русь враги сломить не властны,
Познали Фридрих и Наполеон,
И будет над Россией небо ясным,
Врага же поразит Господний Гром.
Победами овеянное Знамя
Соединит Державный наш Союз,
И верных долгу и присяге с нами
Поднимет Путин за Святую Русь.
Ведь Русский Дух, испытанный веками,
Отважная душа у нас в груди.
Вперед друзья державными шагами,
Уж свет победы виден впереди!
2000 г.
уверяю вас эта тема наберет комментариев не меньше, чем темы по Новой Хронологии.
Да.
Тем более, что в НХ комментировать вообще нечего, а вот у Шахмагонова хронология вполне традиционная но вот, что он проделывает там внутри этой традиционной хронологии это ...ну ваще!
Я сам хотел написать, но раз вы собрались - то давайте)