Николай Федорович Шахмагонов (от автора ...)
Вот и настал момент, когда надо либо завершить повествование, либо коснуться тех моментов, которые прямо скажем, не очень выгодны автору исповедальной прозы, при воспоминании о коих не могу не думать о себе с укором, не могу не адресовать упрёка в свой адрес.
Так что же делать, дорогие мои читатели? Как поступить? Уже в комментариях по поводу небольшого отрывка из этой исповеди отразились диаметрально противоположные взгляды… И самое интересное, что правы обе стороны, а вот повинен автор в том, что не показал причины измен. Да, увы, бывают причины, которые оправдывают измены… Но об этом позже. Сейчас я хочу всё же решить, продолжать ли писать с той же мерой искренности, с тем же уровнем откровения, с которым начинал эту исповедь, или сделать резкий поворот к жанру повести ли, рассказа ли, когда не только допустим, когда в основе повествования лежит художественный вымысел.
Справедливо говорят, что лучший учитель – книга. Посмотрим, чему нас учат книги, точнее, чему учат нас авторы книг, вошедших в сокровищницу мировой литературы…
Константин Паустовский в предисловии к «Повести о жизни» писал:
«Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду… По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображённая воображением. Так бывает почти всегда».
А Томас Манн о писательском труде высказал такие мысли:
«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное… Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».
Ну и, конечно, прикоснулся к знаменитой «Исповеди» Жана Жака Руссо:
Исповеди Руссо». Поразила уже аннотация к книге. Там значилось: «Исповедь» – самое выдающееся произведение Руссо. Это не только автобиография, но и роман. Цель книги – "...показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы", во всем его неповторимом индивидуальном своеобразии. С предельной искренностью и беспощадной правдивостью Руссо обнажает свое сердце, "...все свои сокровенные мысли...", не боясь рассказать "...о себе самом самые отвратительные вещи...". Рисуя жизнь, излагая мысли и описывая душевные состояния, Руссо раскрывает не только свой внутренний мир, но и систему взглядов на природу и общество. Чувству справедливости, непосредственности, любви к природе – вот чему можно научиться у французского философа».
Научиться у философа?! Чему? Жизни? Нет… Учиться надо правдивому изображению жизни – вот что уяснил Масленников из «Исповеди».
А писать, писать до тех пор, пока способен излагать правду.
Что же дальше? Продолжать, как показалось некоторым читателям – они по-своему правы – идеализацию супружеской неверности? Нет, задача другая – попытаться воскресить идеализацию любви подлинной, всепобеждающей и всепоглощающей, даже, быть может, постараться воскресить идеализацию Женщины, да, именно Женщины с большой буквы. Впрочем, Женщину с большой буквы делает всё-таки мужчина.
Что же касается самой психологии супружеская неверности, её истоков и причин, то об этом я попытался размышлять в повествованиях, названных «Моя любовь на курсе выпускном» и «Любовь лейтенантская». Там истоки моего дальнейшего поведения в жизни. Конечно, и за то, что происходило в те годы, ответственность ложится прежде всего не меня. Знаменитый философ Владимир Сергеевич Соловьёв доказал, что ответственность за воспитание жены лежит на муже. Но… как стать воспитателем, если сам не получил воспитания в сём важном вопросе.
Сейчас много говорят о половом воспитании. Ну уж на это либерастическая демократия горазда – всё перепутали, всё опошлили и ни к чему не пришли. Точнее, своего добились. Появились книги, в которых описание высшего таинства отношений двух любящих существ сделано с помощью синтеза жаргона, матерщины и медицинских, а то и просто блатных терминов. Разве что матерные слова не выписываются целиком, а обозначаются буквой с отточием…
Именно по-своему сражаясь с этакими площадными поделками я старался и буду стараться выписывать всё иначе, подбирая слова таким образом, чтобы эти описания сцен не резали слух, не заставляли души чистые краснеть от чтения безобразий.
И что-то, возможно, получилось. Однажды мне позвонила читательница и стала благодарить за роман «Офицеры России. Путь к Истине». Ну и сообщила, что прочитала сама и теперь усадила читать дочь. Я поинтересовался, сколько лет дочери и, услышав, что 14 лет, почти в ужасе воскликнул: «А не рано ли, ведь там есть такие откровенные сцены!.. Я ведь писал офицерский роман, роман для взрослых!» Я ведь дочери, которая училась в Литературном институте, подобные эпизоды не давал читать – просто изымал страницы с откровенными сценами из вёрстки, которую она помогала вычитывать. Но тут услышал в ответ: «Нет, не рано – потом будет поздно. Они выписаны так, что многому учат и предостерегают от вольности в отношениях…»
Нет… Это уже похоже на оправдания… Я увлекся размышлениями. Возвращаюсь к исповеди, а уж читатели решат, где прав я, а где и не очень или совсем не прав…
Итак, волшебный искромётный роман развивался…
Не прошло и года после нашей первой встречи, а мы уже побывали два раза в Поленово, один раз в Пятигорске (почти месяц), два раза в Ленинграде (первый раз – месяц, второй – два дня). Мы встречались очень часто, почти каждый день я встречал её с работы и провожал до безопасного рубежа. Ну и не реже одного раза в неделю мы уединялись для встреч ещё более приятных и ставших необходимыми как воздух.
Разве всё опишешь?! Нет, не потому, что всё вошло в обыденное русло – нет, такие отношения никогда не могут стать спокойными, проходить с рутинным регулярством. Всё на высшей точке кипения, всё на гребне амурных волн, всё, подобно огненной лаве незатухающего вулкана.
Есть ли наивысшая точка любви, есть ли на свете тот рубеж, который нельзя преодолеть и есть ли какой-то предел в волшебстве любви? Такого предела нет… Если бы он был, наверное, достижение его становилось начало конца таких отношений. И всё же жизнь диктовала нам свои правила. Мы стремились быть вместе, вместе и навсегда. Мы, порой, забывали, что это почти невозможно в тех обстоятельствах, которые нельзя сбрасывать со счёта, но мы не задумывались ни о чём.
Вот тут бы и поставить точку. И завершить повествование красиво, не бросая тень на самого себя…
Вскоре после одной из поездок она почувствовала в себе те изменения, к которым не могут не привести забвения осторожности. Забвение не случайно. Я кажется уже упоминал, что она мечтала о втором ребёнке, но ничего не получалось с мужем. Решив, что дело в ней, она и потеряла осторожность…
И вот стало ясно. В ней зародилась новая жизнь, и это событие требовало решений. А мы собирались в Пятигорск, снова в Пятигорск, который полюбился нам – мне уже очень давно, а её – минувшей осенью.
Мы были как во сне. На этот раз уезжали, даже не заботясь о вариантах посадки в вагон. Я взял билеты в «СВ» на третий поезд и мы благополучно сели в него, поскольку муж её опять пропадал в каких-то постоянных отъездах, причины которых давно уже её не интересовали.
Когда вошли в тот же номер Пятигорского военного санатория, она воскликнула: «Надо же, как и не уезжали!»
И снова впереди 26 дней путевки, да ещё чуть более суток дороги. И снова терренкур на горе Машук, снова парк Цветник, снова танцы, снова неповторимая природа Кавказских Минеральных Вод. Только уже никаких запасных номеров в городской гостинице мы не брали. Начальство входило в моё положение, ну а медсёстры, коридорные, уборщицы ничего удивительного не видели в том, что в двухместно номере живут двое. Данные об отдыхающих им были без надобности. Отдыхают и отдыхают. Сколько номеров на этаже! Разве что разница в возрасте могла смутить, но ведь «чем дальше нас уносят в зрелость годы, тем меньше разница в летах видна». Подумаешь, полтора десятка лет, когда мне 41, а ей 26! Бравый, подтянутый, спортивного вида полковник вполне мог быть женат и второй раз. Разве мало таких случаев?!
Всё начиналось хорошо, всё начиналось великолепно. Мы были счастливы как прежде, но постепенно её настроение стало меняться, ведь она носила в себе новую жизнь. Это всё более и более тревожило её, ведь мы так ещё ничего и не решили окончательно и бесповоротно. На нас обрушивались проблемы, проблемы и проблемы, которые неминуемо возникали при исполнении наших замыслов. А как решать их в стране, которая пока ещё незримо, но катилась в пропасть. Мы гнали от себя неприятные мысли, но как прогонишь, когда всё это видно, видно. Когда природа посылает знаки, может, даже знамения…
Я запомнил тот день 17 июня 1989 года. Не случайно запомнил. Он стал для меня знаменательным, поскольку ровно пятнадцать лет спустя 17 июня 2004 года я начал писать роман «Офицеры России. Путь к Истине». А до этого все попытки почему-то были тщетны. Несколько раз брался, печатал на машинке несколько страниц, а затем рвал их в мелкие кусочки. Пытался начинать от руки, но результат оказывался тем же.
Мы были в номере и вдруг он, выйдя в лоджию, почти закричала:
– Ой, скорее иди сюда… Посмотри что творится!
Она стояла в лоджии стройная, аккуратная, в цветастом халатике, облегающем красивую, словно выточенную большим мастером фигуру. Она даже чуточку поднялась на цыпочки, и я, ступив в лоджию, не удержался, обнял её. Но она осторожно отвела мою руку, повторив:
– Смотри же, смотри…
Из лоджии открывалась широкая панорама города, лежащего в долине, дальше виднелись небольшие зелёный шапки гор, за ними снова горы, горы, горы. В ясную погоду можно было полюбоваться Эльбрусом, а иногда и далёкой величественной грядой Кавказских гор, уходящей к знаменитому Казбеку.
Но сейчас всё выглядело тревожно, даже зловеще. Всё небо было в тучах, а над нами нависал, медленно надвигаясь на город, тяжёлый клубящийся клин, сползавший с отрогов Машука и уже достигший остриём своим ближайшей горы, что виднелась за городом.
Зловещими казались даже отблески солнечных лучей на горизонте. Лучи не пробивали наслоение облаков, перераставших в тучи, они словно застревали и дробились в тёмно-серой массе, кое-где подсвечивая её кромки тревожным светом.
Правее горы, в которую упирался клубящийся клин, горизонт уже был исполосован изгибающимися на ветру сплошными линиями – там уже обрушились на землю струи дождя, напоминавшие издали серый частокол.
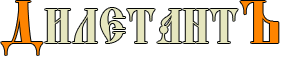
СТАТЬЯ ОТ АВТОРА НЕ ВОШЛА ВСЯ И ДОСТУП К НЕЙ ЗАКРЫЛСЯ, ПОЭТОМУ ПРИХОДИТСЯ ДАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ:
И вот когда она после очередной ссоры заявила: «Еду сегодня же ночным поездом, чтоб в Москве быть утром… А то мало ли, опоздает – добирайся тогда на такси», я послушно поехал с нею на вокзал. Сдал её билет, взятый в вагон «СВ», в котором мы должны были возвращаться вместе. Она сама пошла в обычную кассу. От моего предложения, обратиться в воинскую кассу отказалась, и взяла билет в купированный вагон.
– Можешь не провожать, сама доберусь, а то ведь корпус закроют, – сказала она с лёгкой издёвкой.
Но я знал, что поеду на вокзал обязательно. Не мог не проводить, не посадить на поезд. Весь день она была неразговорчива, сидела в номере. Не отрываясь, читала книгу, хотя видно было, что совсем не по душе ей это занятие.
День тянулся долго. Я несколько раз попытался разрядить обстановку. Даже попробовал взять на руки и перенести на кровать, но в ответ услышал всё те же нарочито обидные слова:
– Сказала, всё. Я еду к мужу. Я соскучилась по мужу.
Наши отношения не были мимолётными, они продолжались довольно долго. Когда познакомились, я уже был холост второй раз – так в шутку называли тех, кто развёлся. Её семейные отношения тоже разладились давно и вовсе не по моей вине. Но что же произошло, что обидело её? Почему вдруг стала раздражённой, почему изменилась буквально за несколько дней?
Я пытался понять причину. Может, её разозлил один случай… Мы ездили в Кисловодск, прогулялись по парку, поднялись к Долине Роз, затем заглянули в ресторан Храм Воздуха.
И вдруг одна из официанток стремительно подошла, почти подбежала к нашему столику и воскликнула:
– О-о-о! Наш постоянный посетитель! Слушаю вас…
Да, я действительно часто отдыхал в Пятигорске и действительно хотя бы раз за время путёвки бывал здесь. И бывал, вполне естественно, с разными дамами. Ведь не могли же всегда совпадать путёвки с одной и той же!?
И тут моя барышня нахмурилась, есть ничего не стала. Сидела, дулась и ждала, когда я пообедаю. Пришлось расплатиться побыстрее и покинуть сию обитель.
И вдруг заявила:
– Мне тоже есть что вспомнить. Не думай…
Я промолчал.
– Хочешь, расскажу?
– Не надо…
– Отчего же… Вон тебя уже завсегдатаем ресторанным называют…
– Постоянным посетителем, – поправил я. – Да, приезжал сюда, да гулял по парку. Поднимался на Малое Седло. Ну что?
– А у меня тоже был красивый роман. На работе…
– Прямо на работе? – усмехнулся я.
– Нет, зачем. У него была машина. Мы в перерыв садились и ехали ко мне домой, – с вызовом говорила она.
– Перед всем домом. А как же муж? – продолжал я с усмешкой, полагая, что она просто болтает пустое и сейчас скажет, что пошутила.
– Я выходила в арке, шла домой, и не запирала за собой дверь. Он входил следом через пару минут. Ну и… у нас было время, чтобы…
– Болтаешь всё, – сказал я. – Меня не трогает всё это, ведь было до меня, – хотя почувствовал, что слышать всё это неприятно.
– А другой, его звали Саша. Утром заезжал за мной и вёз на работу. Муж раньше уходил, а он забегал, ну и… потом мы вместе ехали.
Вот тут меня взорвало:
– Как, в постель, не остывшую от мужа?
– А что? Зато я отомстила. Знаешь же, как он себя вёл.
Да, из её рассказов я это знал – но ведь из рассказов. Что было на самом деле, мне неведомо.
В этот отпуск она меня не переставала удивлять, сильно удивлять. Я буквально не узнавал её.
Ну и я, естественно, несколько изменился к ней. Вспомнилось, как однажды мы шли по микрорайону, и вдруг остановилась машина. Её позвал какой-то молодой человек. И она с ним немного поговорила, называя его Сашей. Как-то уж очень она вела себя странно – парень сидел за рулём и опустил окно справа, в которое она едва ли не просунулась, разговаривая с ним. Потом пояснила, что это один старый знакомый, который иногда подвозил её на работу. И даже имя назвала – Саша. И вот теперь оказалось, что не просто подвозил.
Один мой знакомый, можно даже сказать, старший товарищ, однажды сказал, когда, уж не помню по какому поводу, но к слову пришлось: «Если мужчина был близок когда-то с женщиной, он всегда найдёт дорогу к этой близости в будущем». Всегда ли так или не всегда, но запомнилось.
Конечно, выслушивать все эти признания, о которых не просил вовсе, было неприятно. Когда я оказался в положении «холост второй раз», при знакомстве с новой барышней даже предупреждал о том, чтобы прошлых своих увлечений никогда не касалась в разговорах, поскольку не известно, к какому итогу приведут наши встречи. Я же был в поиске…
И вот, казалось, нашёл ту, которую искал. И чувства наши были необыкновенны. Но вдруг, такой поворот.
Мы едва дождались вечера. Она почти не разговаривала со мной и в санаторском автобусе, который отвозил отдыхающих к моковскому вечернему поезду.
Когда вышли на перрон, я не выдержал и задал вопрос, который тревожил все предыдущие дни:
– Скажи, что всё-таки случилось? Может, разлюбила? Может, появился у тебя кто-то? Скажи? Я всё пойму и войду в положение, ведь не зря же ты заговорила о Саше и ещё о ком-то.
– О чём ты говоришь? – и, помолчав, примирительно прибавила: – Наверное, нервы. В любом случае, мне надо побыть одной. К тому же я себя очень плохо чувствую…
– Здесь столько врачей, а ты… Могла бы показаться любому, я бы договорился.
– Не знаю… Вот не пошёл отдых и всё тут – что-то томит, тревожит, – продолжала она. – Не знаю, не знаю, что со мной. Что-то крутит внутри. Может, как приеду действительно пройду по врачам. А может, пройдёт стресс и всё пройдёт…
Где-то за поворотом послышался свисток, и через минуту электровоз, чуть слышно шелестя электромоторами, потащил за собой мимо платформы вагоны с ярко освещёнными окошками. Дорога шла под уклон, и, казалось, что вагоны толкают электровоз, а не он тащит их вниз, к Минеральным Водам.
И тут она растерянно посмотрела на меня, отступила, присела, отыскивая рукою чемодан, и оторопело проговорила:
– Уже…
– Ещё не поздно. Останься. Выкинь билет, а тот, что сдали, ещё, может, удастся вернуть? В «СВ» сейчас редко билеты берут…
Она как будто колебалась, но её колебания вызывали двойственное чувство – с одной стороны не хотелось расставаться, ведь столько связывало их, с другой стороны, устал от тех отношений, которые сложились в этом отпуске. Быть может, если бы выхватил сейчас у неё из рук чемодан, а билет, который она держала в руках, бросил под колеса поезда, она осталась. Но я не сделал этого и посадил её в вагон, всё такую же растерянную и не похожую на ту, какой она была в последние дни.
Она пошла по коридору к своему месту, я сделал несколько шагов вдоль вагона, чтобы не терять её из виду. Наконец, она остановилась, поставила чемодан и повернулась к окошку. Поезд тронулся мягко, почти незаметно. Я пошёл вдоль состава вслед за вагоном, думая, что и сейчас ещё не всё потеряно, что и сейчас ещё не поздно прыгнуть в вагон, и, в крайнем случае, доехать до Железноводска, откуда вернуться на такси, или прямо там переночевать в гостинице. Но поезд набирал скорость, а край платформы приближался… Ещё можно было заскочить в какой-то из последующих вагонов, ещё можно было что-то сделать…
Она вдруг исчезла за дверью купе, и вскоре появилась в ещё не закрытой двери тамбура и пригнувшись, чтобы просунуться под рукой проводницы, закричала:
– Слушай, слушай, я хочу сказать…
Но проводница договорить не дала. Она бесцеремонно отодвинула её от двери. Да ведь и как иначе. Опасно вот так высовываться из набирающего скорость поезда.
ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ "ОТ АВТОРА"
Освобождение от пут сильного, прежде яркого, но уже надломленного и чрезмерно затянувшегося романа, можно сравнить с выздоровлением после долгой и изнурительной болезни. Выздоравливаешь и прозреваешь, начинаешь видеть всё вокруг, начинаешь понимать, что объект твоей страсти вновь оказывается не единственным, что вокруг столько привлекательного, красивого, манящего. И всё более увлекаешься этим привлекательным, всё более убеждаешься, что в прошлом, как говорил Генрих Гейне, потеряно мало. Если остаётся боль и жалось, то эти боль и жалось уже не по объекту былого обожания – нет, это тоска по своим ощущениям, по своему восторгу, по тому душевному состоянию, которое, кажется и не повторится более. А если это повторяется, если вспыхивает с новой силой, то и жалеть нечего. Ничто не проходит бесследно – всё нужно, необходимо для будущего, для понимания жизни, для новых чувств и ощущений. Приветствую тебя! Иной восторг – Чувств новых взлёт и новых ощущений… Прощай, былая страсть, пусть всё уйдёт, Не надо возвращений… Я снова и снова возвращаюсь к тому удивительному, что произошло со мною тем жарким летом во время отдыха в Пятигорске. Как это было? Я снова и снова возвращаюсь к тому невидимому рубежу, который оказался для нас непреодолимым. Словно кто-то поджёг бикфордов шнур, и взрыв назревал неотвратимо.
И вот когда она после очередной ссоры заявила: «Еду сегодня же ночным поездом, чтоб в Москве быть утром… А то мало ли, опоздает – добирайся тогда на такси», я послушно поехал с нею на вокзал. Сдал её билет, взятый в вагон «СВ», в котором мы должны были возвращаться вместе. Она сама пошла в обычную кассу. От моего предложения, обратиться в воинскую кассу отказалась, и взяла билет в купированный вагон.
– Можешь не провожать, сама доберусь, а то ведь корпус закроют, – сказала она с лёгкой издёвкой.
Но я знал, что поеду на вокзал обязательно. Не мог не проводить, не посадить на поезд. Весь день она была неразговорчива, сидела в номере. Не отрываясь, читала книгу, хотя видно было, что совсем не по душе ей это занятие.
День тянулся долго. Я несколько раз попытался разрядить обстановку. Даже попробовал взять на руки и перенести на кровать, но в ответ услышал всё те же нарочито обидные слова:
– Сказала, всё. Я еду к мужу. Я соскучилась по мужу.
Наши отношения не были мимолётными, они продолжались довольно долго. Когда познакомились, я уже был холост второй раз – так в шутку называли тех, кто развёлся. Её семейные отношения тоже разладились давно и вовсе не по моей вине. Но что же произошло, что обидело её? Почему вдруг стала раздражённой, почему изменилась буквально за несколько дней?
Я пытался понять причину. Может, её разозлил один случай… Мы ездили в Кисловодск, прогулялись по парку, поднялись к Долине Роз, затем заглянули в ресторан Храм Воздуха.
И вдруг одна из официанток стремительно подошла, почти подбежала к нашему столику и воскликнула:
– О-о-о! Наш постоянный посетитель! Слушаю вас…
Да, я действительно часто отдыхал в Пятигорске и действительно хотя бы раз за время путёвки бывал здесь. И бывал, вполне естественно, с разными дамами. Ведь не могли же всегда совпадать путёвки с одной и той же!?
И тут моя барышня нахмурилась, есть ничего не стала. Сидела, дулась и ждала, когда я пообедаю. Пришлось расплатиться побыстрее и покинуть сию обитель.
И вдруг заявила:
– Мне тоже есть что вспомнить. Не думай…
Я промолчал.
– Хочешь, расскажу?
– Не надо…
– Отчего же… Вон тебя уже завсегдатаем ресторанным называют…
– Постоянным посетителем, – поправил я. – Да, приезжал сюда, да гулял по парку. Поднимался на Малое Седло. Ну что?
– А у меня тоже был красивый роман. На работе…
– Прямо на работе? – усмехнулся я.
– Нет, зачем. У него была машина. Мы в перерыв садились и ехали ко мне домой, – с вызовом говорила она.
– Перед всем домом. А как же муж? – продолжал я с усмешкой, полагая, что она просто болтает пустое и сейчас скажет, что пошутила.
– Я выходила в арке, шла домой, и не запирала за собой дверь. Он входил следом через пару минут. Ну и… у нас было время, чтобы…
– Болтаешь всё, – сказал я. – Меня не трогает всё это, ведь было до меня, – хотя почувствовал, что слышать всё это неприятно.
– А другой, его звали Саша. Утром заезжал за мной и вёз на работу. Муж раньше уходил, а он забегал, ну и… потом мы вместе ехали.
Вот тут меня взорвало:
– Как, в постель, не остывшую от мужа?
– А что? Зато я отомстила. Знаешь же, как он себя вёл.
Да, из её рассказов я это знал – но ведь из рассказов. Что было на самом деле, мне неведомо.
В этот отпуск она меня не переставала удивлять, сильно удивлять. Я буквально не узнавал её.
Ну и я, естественно, несколько изменился к ней. Вспомнилось, как однажды мы шли по микрорайону, и вдруг остановилась машина. Её позвал какой-то молодой человек. И она с ним немного поговорила, называя его Сашей. Как-то уж очень она вела себя странно – парень сидел за рулём и опустил окно справа, в которое она едва ли не просунулась, разговаривая с ним. Потом пояснила, что это один старый знакомый, который иногда подвозил её на работу. И даже имя назвала – Саша. И вот теперь оказалось, что не просто подвозил.
Один мой знакомый, можно даже сказать, старший товарищ, однажды сказал, когда, уж не помню по какому поводу, но к слову пришлось: «Если мужчина был близок когда-то с женщиной, он всегда найдёт дорогу к этой близости в будущем». Всегда ли так или не всегда, но запомнилось.
Конечно, выслушивать все эти признания, о которых не просил вовсе, было неприятно. Когда я оказался в положении «холост второй раз», при знакомстве с новой барышней даже предупреждал о том, чтобы прошлых своих увлечений никогда не касалась в разговорах, поскольку не известно, к какому итогу приведут наши встречи. Я же был в поиске…
И вот, казалось, нашёл ту, которую искал. И чувства наши были необыкновенны. Но вдруг, такой поворот.
Мы едва дождались вечера. Она почти не разговаривала со мной и в санаторском автобусе, который отвозил отдыхающих к моковскому вечернему поезду.
Когда вышли на перрон, я не выдержал и задал вопрос, который тревожил все предыдущие дни:
– Скажи, что всё-таки случилось? Может, разлюбила? Может, появился у тебя кто-то? Скажи? Я всё пойму и войду в положение, ведь не зря же ты заговорила о Саше и ещё о ком-то.
– О чём ты говоришь? – и, помолчав, примирительно прибавила: – Наверное, нервы. В любом случае, мне надо побыть одной. К тому же я себя очень плохо чувствую…
– Здесь столько врачей, а ты… Могла бы показаться любому, я бы договорился.
– Не знаю… Вот не пошёл отдых и всё тут – что-то томит, тревожит, – продолжала она. – Не знаю, не знаю, что со мной. Что-то крутит внутри. Может, как приеду действительно пройду по врачам. А может, пройдёт стресс и всё пройдёт…
Где-то за поворотом послышался свисток, и через минуту электровоз, чуть слышно шелестя электромоторами, потащил за собой мимо платформы вагоны с ярко освещёнными окошками. Дорога шла под уклон, и, казалось, что вагоны толкают электровоз, а не он тащит их вниз, к Минеральным Водам.
И тут она растерянно посмотрела на меня, отступила, присела, отыскивая рукою чемодан, и оторопело проговорила:
– Уже…
– Ещё не поздно. Останься. Выкинь билет, а тот, что сдали, ещё, может, удастся вернуть? В «СВ» сейчас редко билеты берут…
Она как будто колебалась, но её колебания вызывали двойственное чувство – с одной стороны не хотелось расставаться, ведь столько связывало их, с другой стороны, устал от тех отношений, которые сложились в этом отпуске. Быть может, если бы выхватил сейчас у неё из рук чемодан, а билет, который она держала в руках, бросил под колеса поезда, она осталась. Но я не сделал этого и посадил её в вагон, всё такую же растерянную и не похожую на ту, какой она была в последние дни.
Она пошла по коридору к своему месту, я сделал несколько шагов вдоль вагона, чтобы не терять её из виду. Наконец, она остановилась, поставила чемодан и повернулась к окошку. Поезд тронулся мягко, почти незаметно. Я пошёл вдоль состава вслед за вагоном, думая, что и сейчас ещё не всё потеряно, что и сейчас ещё не поздно прыгнуть в вагон, и, в крайнем случае, доехать до Железноводска, откуда вернуться на такси, или прямо там переночевать в гостинице. Но поезд набирал скорость, а край платформы приближался… Ещё можно было заскочить в какой-то из последующих вагонов, ещё можно было что-то сделать…
Она вдруг исчезла за дверью купе, и вскоре появилась в ещё не закрытой двери тамбура и пригнувшись, чтобы просунуться под рукой проводницы, закричала:
– Слушай, слушай, я хочу сказать…
Но проводница договорить не дала. Она бесцеремонно отодвинула её от двери. Да ведь и как иначе. Опасно вот так высовываться из набирающего скорость поезда.
Я остался на перроне, провожая усталым и, наверное, даже безразличным взглядом огоньки концевого вагона.
Постоял некоторое время на платформе, прислушиваясь к неповторимым шумам ночного вокзала. Отрывистые выкрики команд, скрежет дверей пакгаузов, рокот электродвигателей дрезин. И, конечно же, объявления на непереводимом вокзальном языке.
Вышел на привокзальную площадь и оказался у большого автобуса, который, как выяснилось, направлялся на Провал. Подумал:
«Вот как удачно… Сейчас за несколько минут домчит до верхней проходной, а там через забор и я в санатории».
С бабушками, которые дежурили в вестибюле корпуса, договорился, что впустят позже положенного времени.
Автобус был почти пустым, прокалённым за день. Окна открыты, и свежий ветерок гулял по салону без всяких препятствий. На заднем сидении устроилась компания молодых людей с гитарой. Едва автобус тронулся, гитара пришла в действие. Меня удивило, что гитарист неожиданно спросил:
– Извините, мы вам не помешаем?
– Что вы, напротив…
И полилось студенческое…
«Студент с студенткою в палатке целовались горячо – он ей выломал лопатку, а она ему плечо…»
Мне вдруг стало так хорошо и спокойно от этой бестолковой и бесхитростной песни советских времён. Я даже вспомнил, как её распевала на терренкуре одна очень миловидная несостоявшаяся моя пассия. То есть, если точнее, героиня не удавшегося романа. Тогда была зима, она шла в простеньком пальтишке с меховым воротничком, в кокетливой шапочке и напевала на лёгком морозце эту песенку, а подруги подхватывали, и я всё больше влюблялся в неё, да так напугал своими попытками ухаживаний, что она спешно уехала домой. Муж вызвал, которому, видимо, дала сигнал одна из «народных мстительниц». Отдыхала героиня несостоявшегося романа в санатории «Ленинские скалы».
Возле «Ленинских скал» я вышел из автобуса, внезапно решив, а не сходить ли завтра туда: «Вдруг да встречу ту свою загадочную незнакомку. Хотя лет прошло столько, что она давным-давно удалилась от студенческого возраста и студенческих песен. Да и я уж далеко не юноша».
Утро принесло очищение, я старался ни о чём не думать, нежели думать, о чём-либо. К врачу не пошёл, хотя был талончик, поговорил с замполитом, которого встретил на улице, потом отмахал установленные для себя десять километров по терренкуру вокруг горы «Машук». Вернулся, получил на почте присланную из Приокского книжного издательства вёрстку новой книги – её я должен был вернуть на обратном пути из санатория своему редактору, который обещал подойти к поезду. Издательство-то рядом, на той же площади, что и вокзал. Правда, читать не стал, а после обеда ещё отмахах полтора круга.
Но ещё ранним утром, до завтрака, возвращаясь от источника, я заглянул в клуб санатория «Ленинские скалы». Клуб в этот час был ещё пустынным и сверкал свежевымытыми полами. На доске объявлений сообщалось о танцевальном вечере «Всё начинается с любви». Собственно, такие вечера проводились часто, по крайней мере, не менее двух-трёх раз в неделю.
Я знал, что они совершенно бестолковы, что в этом санатории они предназначены скорее для детей, нежели для взрослых. Но что-то неодолимо потянуло туда – возможно, желание побыстрее стереть всё, что завершилось только вчера… Накануне, после мучительно-долгого и томительного «умирания» романа, я, наконец, решился и посадил свою ещё чем-то близкую, но уже не слишком дорогую мне женщину в поезд и обрёл свободу.
В «Ленинские скалы» пошёл один. В этот свой приезд, целиком и полностью занятый отправленной восвояси своей пассией, я ни с кем не познакомился и даже не имел соратника вот по таким выходам – вдвоём-то всегда сподручнее идти на танцы, да ещё не в свой санаторий. А то вот придёшь этак один и стоишь, полагая, что смотрят на тебя все как на чудака.
Я заглянул в зал. Народу оказалось в нём немного, но всё же безлюдным его на сей раз назвать было нельзя.
Заиграл оркестр, и две-три пары, наиболее смелые, вышли танцевать. Я огляделся, пытаясь найти, кого бы пригласить. Не нашёл. Всё чего-то ждал, сам не зная чего, ждал, в каком-то лёгком оцепенении, которое удивляло – даже двигаться не хотелось.
И тут в зал вошли три женщины. Вошли и стали передо мной.
Кажется, было около 20.00 Жаль я не посмотрел на часы… Очень жаль. Запомнить бы ту минуту! Ведь есть рубежи, на которых всё в душе либо замирает, либо взрывается, либо… Впрочем, порой одна причина может вызвать совершенно отличные другу от друга реакции.
Одна из вошедших женщин сразу поразила меня. Чем она меня поразила?! Уж очень какая-то ладная, женственная, аккуратная. Что-то было в ней особенное, наверное, то, что обычно не встретишь не только на курорте – да и нигде не встретишь.
Едва заиграла музыка, я сделал шаг вперёд и, слегка склонив голову, спросил:
– Разрешите вас пригласить!?
Она тут же заговорила о том, что не любит танцев и случайно заглянула сюда. Просто решила составить компанию подругам, которые хотели посмотреть, что здесь происходит. Тем не менее, сделала шаг ко мне и протянула руку, изготавливаясь к первому «па» вальса.
Мы сделали круг, и я спросил:
– Вы отдыхаете здесь, в скалах? – так сокращённо называли в разговорах санаторий.
– Да…
– Из Москвы?
– Да.
– Я тоже из Москвы. В военном санатории…
– Мне приходилось в военных санаториях бывать, потому что работаю в военной организации, да и… Впрочем, это не имеет значения.
Я не придал значения реплике, и мы заговорили о всякой всячине, одним словом, о том, о чём обычно говорят в первые минуты знакомства.
Собственно, это не было разговором – во время вальса можно было обмениваться лишь короткими репликами.
Когда танец закончился, я проводил её к подругам, отошёл в сторону, не зная, удобно ли было остаться в их компании. В то же время волновался. Вдруг да уйдёт вместе с подругами, которые явно скучали.
К счастью, оркестр заиграл снова, и я тут же пригласил её на медленный танец.
Мы танцевали весь недолгий вечер, причём, когда оркестр играл музыку дегенератов, занесённую к нам через «окно в Европу», и доморощенные обезьяны начинали топотать ногами под вой, гром и свист, мы выходили на широкий балкон, с которого открывался вид на площадку перед бюветом и на знаменитую церковь, в которой отпевали Лермонтова.
Затем мы снова танцевали, а подруги держали её сумочку и не отдавали, когда она подходила к ним, словно поощряя наши действия.
Она танцевала все танцы и танцевала прекрасно, правда, всё-таки сочла нужным предупредить, что скоро уезжает. Во время вальса она просила делать поменьше шаги, но танцевала легко, лишь изредка прося поддержать её – кружилась голова.
– Вот сейчас последний танец и мы с подругами пойдём гулять.
– Ничего страшного, продолжим в Москве! – сказал я.
– Где там? В Москве не до того…
Вечер закончился, мы пошли к выходу, и уже в дверях зала она заметила:
– Ну вот, мои подруги куда-то уже подевались.
– Они оставили вас в надёжных руках. Возьмёте меня с собой на прогулку?
– Пойдёмте, – охотно согласилась она. – Будем у них в хвосте плестись.
Сумочку подруги ей всё ещё не отдавали, пояснив:
– Гуляй, гуляй… Можешь сегодня вообще не приходить, – и прибавили зачем-то. – Мы её и так почти не видим.
– Ну, надо же! – воскликнула она. – Это когда же и где я пропадала?
– Мы это так, чтоб молодого человека подзадорить, – смеясь, сказала одна из подруг.
– Ну, так я вас забираю сегодня? – спросил, воспользовавшись шуткой подруг.
– Так они меня и пустят… Ещё как блюдут!
Мы прошли через военный санаторий, спустились к фонтану «Каскад», посидели там немного, наблюдая за подсвеченными струями, осыпающими нас при дуновении ветерка мелкими брызгами. Потом спустились к парку «Цветник».
Там она неожиданно назвала своё имя:
– Галина…
Я тоже представился.
Мы заговорили об отношениях между мужчинами и женщинами, о родственных душах, и я чувствовал так же, как и она, наверное, необыкновенную общность взглядов.
Потом мы долго поднимались по ступенькам к Лермонтовской галерее. Там задержались, слушая, как пели в честь праздника Святой Троицы молодые люди – «верующая молодежь» становилась с каждым годом всё меньшей редкостью.
– Это всё смешно, – сказала она.
Я не то, чтобы согласился с её репликой, но и не взял под защиту ту небольшую хоровую капеллу, поскольку сомневался, что в наше-то сумасшедшее время есть истинно верующие – всё мне казалось несколько искусственным.
Мы пошли по узенькой дорожке к Китайской беседке. Она кое-что рассказывала о себе. Говорила просто, доверительно. Всё у неё хорошо… Всё, всё, всё… В любовных похождениях не нуждается и курортных романов терпеть не может.
Я сказал, что тоже не признаю лёгкий флирт, ради достижения каких-то сиюминутных целей, а мечтаю, скорее, о добром, хорошем и искреннем друге.
– Хорошо иметь доброго товарища, – согласилась она.
Мы стали спускаться от знаменитого Пятигорского орла к поющему фонтану. Она рассказывала о работе, о начальнике, даже о том, как праздновали 8 марта.
Фонтан почему-то не работал, и мы, прогулявшись по «Цветнику», стали подниматься к «Тарханам», слушая музыку, доносившуюся из танцевального зала санатория. Постояли в сторонке, но танцевать не пошли. Хорошо было стоять с нею рядом, легко, приятно, радостно. Она словно излучала покой, доброту.
Пошли дальше, обходя слева военный санаторий, потому что верхняя проходная могла быть уже закрыта, и мне до мельчайших подробностей запомнилось, где, когда и о чём мы говорили.
У входа в её корпус чопорно и изысканно распрощались, договорившись встретиться на следующий день в 14.00.
Я шёл назад, даже не пытаясь разобраться в своих мыслях, я ещё ничего не понимал и не осознавал, но уже ждал встречи и знал, что последней сегодня перед сном и первой же завтра по пробуждению мыслью будет мысль о ней…
Следующим утром, после завтрака, снова прошёл по маршруту. Затем быстро пообедал и ждал, ждал 14.00. Она выпорхнула из лечебного корпуса и попросила перенести встречу на 15.30 – оставались ещё какие-то неотложные и нерешённые дела.
Чтобы убить время, я прогулялся до Эоловой арфы, вспоминая, как гулял здесь с той, которую поезд унёс от меня в Москву. Где она сейчас? Что делает?
Тогда я не знал истинных причин её вздорности, её постоянных вспышек во время нашего отпуска. Ведь полгода назад всё было иначе, теперь же она представляла собой комок раздражения. Итог был таким, каким он не мог не быть. Полгода назад мы танцевали, гуляли, словом, радовались всему, что окружало нас. В этот приезд она всё время и во всём упрекала. На танцы её не хотелось, а мне ужасно хотелось танцевать. Да к тому же ещё выскочил ячмень. И что я получил – вокруг великое множество женщин, которые взглядами и всем своим видом словно бы зовут к курортным романам, а я сижу у вздорного комочка раздражения и начинаю раздражаться сам. Да ещё слышу дерзости: «Я хочу к мужу», «Я соскучилась!», «К мужу хочу!». Вот и не выдержал, вот и сказал в один прекрасный день: «Собирайся! Едем на вокзал!». Быть может, так решил, потому что накануне вечером бегал в аптеку за лекарством и на обратном пути не удержался, забежал на летнюю танцплощадку и сразу закружился в вихре вальса, затем оттанцевал что-то вроде быстрого фокстрота и ушёл лишь после того, когда заиграли музыку обезьяньих питомников.
И вот она в Москве, а я прогуливаюсь по тем же местам, где гулял с ней, и жду другую женщину. Мало того, что жду – думаю о ней!
Наконец, встретились. Галине захотелось посмотреть «Провал». Меня удивило, что за весь свой отпуск она так и не побывала там, хотя от «Ленинских скал» – рукой подать.
Пошли к «Провалу» опять же мимо Эоловой арфы и магазина «Восточные сладости».
Дальше был бульвар, тянувшийся вдоль санаториев, в том числе и филиала нашего военного санатория, о котором так и говорили: «Поселили на «провале», «С провала на танцы приехали».
Спустились к площади, где стояли экскурсионные автобусы, зашли в длинный, тёмный, мрачно-жутковатый тоннель. Серное озеро было за решёткой. Экскурсовод рассказывал одной из групп, как провалилась часть склона и открыла вот эти горные источники. Должно быть такие вот вымытые пустоты есть и в других частях горы.
– А можно посмотреть, что там, наверху? – спросила она.
– Конечно, пойдём.
Я помог ей подняться по крутой тропинке, буксируя наверх за руку. Площадки никакой не было, но сам провал склона огородили кое-как неровными рядами ржавой проволоки.
– Вот и всё? – разочарованно спросила она. – И стоило ради этого подниматься.
Мы спустились до высокого парапета. Я спрыгнул первым, потянулся к ней, легко взял её на руки и, опуская на дорогу, на мгновение, словно случайно, крепко прижал к себе, так что слегка хрустнули косточки.
– Ой! – только и воскликнула она.
Я поспешил извиниться, пояснив, что сделал это, удерживая равновесия.
– Что теперь? – спросила она.
– Можно на терренкур, а можно в город.
– Лучше в город. Терренкур же десять километров?
– Десять, – подтвердил я.
– Нет, лучше в город.
Мы вернулись к «Восточным сладостям» и оттуда пошли по тенистой дорожке к Лермонтовской галерее. И всё говорили, говорили, говорили, постепенно раскрываясь друг перед другом.
– А это что? Как мило! – сказала, обратив внимание на симпатичную фигурку мишки с миской.
Я пожал плечами. Сколько раз видел эту статую, но никогда не задумывался, кем и для чего она поставлена.
– Здесь много всяких таких штучек. К примеру, орел.
– Ну, орлы есть и в Кисловодске, и в Сочи… Это как бы символ Кавказа».
От Лермонтовской галерее мы пошли по пологому спуску, потому что её заинтересовали кусты тутовника. Она рвала тутовник, а я старался поддерживать её, когда нужно и не нужно. И она всё реже противилась этим объятиям, происходившим как бы ненароком.
Мы сближались с ней, казалось, помимо нашей воли. Как? Даже объяснить трудно. Что-то взаимно притягивало нас.
Мы снова оказались в парке «Цветник», и я предложил зайти в ресторан «Машук».
– В брюках не очень удобно возразила она.
Пошли дальше, в город, до следующей забегаловки. Многие были закрыты. В «Дружбе» санитарный час, в другой – просто перерыв. Перерыв перед вечерней сменой, когда и цены другие и оркестр играет и так далее.
Скоро мы оказались в городском парке. Долго сидели, разговаривая, и казалось, темы этого разговора неисчерпаемы. Потом всё-таки попали в «Шоколадницу», знаменитое в то время кафе. Посидели там и отправились готовиться к танцам.
Расстались у тыльной проходной военного санатория. Условились, что я подойду ровно в 20.00 к клумбе перед Лечебным корпусом.
Хорошо, что догадался взять зонтик. Когда она вышла из корпуса, одетая вроде бы и просто, но грациозная и красивая, дождь дал серьёзно о себе знать. Я побежал к её корпусу и раскрыл зонтик.
– Переждём? – предложила она.
Пришлось переждать. Но дождь не кончался, и она сказала:
– Ну что же делать? Идём! Вижу, как вам хочется танцевать.
И мы пошли, а струи воды неслись за нами, и ей приходилось выбирать место, куда ступить, чтобы не промочить ноги.
– Отважная женщина! – с восторгом восклицал я.
– Героическая женщина! – смеясь, уточняла она. – Такого я и сама за собой не подозревала. Посмотрите, спина ещё не мокрая? А то чувствую, как вода течёт за воротник.
Это я проверил с большим удовольствием, подтвердил, ею сказанное:
– Героическая женщина!
Ждал упрёков, что тащу её под таким дождём на какие-то танцы, будь они не ладны.
Она же, смеясь, заявила:
– Я думала просто будет роман, а тут!..
К чему бы это? Мне стало немножечко смешно – только вчера убеждали друг друга, что мы оба против всяких флиртов в санатории. А тут. Она повторяла:
– Всё происходит словно не со мной.
А дождь разошёлся не на шутку. На себя уже махнул рукой – её бы не промочить до нитки.
– Только бы не была закрыта калитка, – сказал, вглядываясь в сетку дождя.
Она, весело смеясь, проговорила:
– Да, придётся помокнуть, пока обойдём вокруг. Сказали бы мне, что под дождём помчусь на танцы! Не поверила б, – продолжала она удивляться своим поступкам, и мне было приятно это слышать.
Клуб встретил тишиной. Дверь со стороны киоска оказалась закрытой. Пришлось опять обходить. В вестибюле она спросила:
– Чуточку обсохнем? Да? Не сразу пойдём?
Танцы уже начались. На первый вальс мы опоздали. Мы прошли в мой любимый угол зала, я положил на сцену свой зонтик и пригласил на первый медленный танец. А потом не пропускали ни одного. Я даже отступил от своих правил и участвовал в общем дегенеративном топоте лишь для того, чтоб дать согреться ей и согреться самому после дождя.
Во время этих прыжков и скачек я отступал подальше, чтобы видеть её всю, элегантную и обворожительную. Она притягивала, она манила чем-то необыкновенным, и я откровенно любовался ею. В ней была заложена какая-то неодолимая сила. Мы были в большом, людном зале и в тоже время оставались как бы вдвоём, и никто не был нам нужен.
На часы я поглядывал с грустью, ведь окончится, очень скоро окончится этот великолепный вечер, а потом я провожу её, и она из-за дождя сразу уйдёт в корпус. И останется у нас лишь один прощальный день.
Я уже знал, что завтра во второй половине дня у неё самолёт…
Как же было жаль, что всё так произошло, что встретились перед самым отъездом, но… А что могло быть ещё? Раньше-то встретиться мы не могли, поскольку был не один. Вот уж поистине: судьба играет человеком.
Последний вальс – грустный вальс. И всё…
Дождь кончился, и мы отправились к Ленинским скалам по мокрому асфальту, кое-где перепрыгивая через быстро мелеющие ручейки. Верхнюю проходную уже наверняка закрыли, и мы пошли мимо бювета с восьмигранной башенкой и канатной дороги, мимо освещённого прожекторами здания белоснежного лечебного корпусу. У лечебного корпуса постояли, повернули назад, чтобы дойти до Эоловой арфы – расставаться не хотелось. Прошлись несколько раз от канатной дороги до Радоновой лечебницы. И снова говорили, говорили, говорили…
Я признался, что пережил в этот месяц, рассказал о крушении своего романа. Она сказала:
– В таком возрасте, как у вашей пассии, у женщины может возникнуть кошачья любовь, переходящая в страсть. Впрочем, не у каждой женщины.
Но так и не объяснила, что имела в виду, а я промолчал.
Дождик стучал по зонтику, но мы не замечали его. Я изредка поглядывал на часы – её корпус закрывался в 23.00. Мы подошли к нему за несколько минут до закрытия, стали по навес, куда не залетали капли. И вдруг она, сказав:
– Ну, мне пора, а то не пустят, – быстро обняла меня за шею и столь же быстро, как-то вскользь поцеловала в губы.
Потом уж я привык к тому, что она целовалась быстро, сразу отрываясь, чтобы ускользнуть от долгих поцелуев. По поводу этого своего первого поцелуя, от которого я пришёл в неописуемый восторг, как-то заметила: «Очень захотелось тогда тебя поцеловать, вот и поцеловала».
Я медленно пошёл к своему корпусу, не обращая внимания на дождь, снова слегка моросивший, и размышляя: «На счастье или на горе такие встречи!»
И вот настал последний день её пребывания в санатории. Мы договорились, что встретимся в 10.00.
Сразу после завтрака я забежал на рынок и выбрал самый лучший, на мой взгляд, букет цветов. Поднимался к Ленинским скалам почти бегом, я хотел застать её в номере, но она уже ждала меня у входа в корпус.
Она долго радовалась букету, поблагодарила за него и сказала, что сейчас же занесёт его в номер, поставит в воду, а потом ей придётся ещё получить документы, после чего уже полностью поступит в моё распоряжение.
Она ушла, а я подумал: «Ведь не хватило всего каких-то суток… Всё было бы у нас решено… Всё…». Я это чувствовал. Ведь в первый вечер – просто рано, во второй – тоже преждевременно. Но после вчерашнего её поцелуя! Да было уже самое время. А, может, это только казалось. Трудно сказать, что руководило мною. Желание очередной победы?! Отчасти, может быть, и так. Но нет… Мне хотелось не просто победы, мне хотелось продолжить отношения с этой удивительной женщиной и после победы известного рода. Мне казалось, что между нами уже установилась близость особого рода – близость духовная. Это сильнее, чем близость обычная. И обычная близость, накладываясь на эту вот близость духовную, становится просто необыкновенной, волшебной, неповторимой – не знаю даже, какие здесь ещё применить слова. Порою их не хватает, даже в нашем единственном в мире языке, на котором можно разговаривать, на котором можно писать стихи и высокую прозу, а не изъясняться условными символами, как изъясняются на своём отвратительном эсперанто англосаксы.
Она появилась внезапно. Спросила:
– Куда пойдём?
Не мог же сказать, мол, пойдём в твой номер, а потому предложил:
– Надо где-то пообедать.
– Вы неисправимы… Прямо так хочется сводить меня в ресторан?
– Скорее, жалко терять время на походы в столовые – вы в свою, а я в свою.
– Дело другое, – согласилась она и мы, спустившись в парк «Цветник», зашли в ресторан, где просидели часа полтора, в тишине – в это время он был почти безлюден, под вентиляторами и с хорошими блюдами.
Мы так и не договорились о будущих встречах, меня это несколько тревожило. «Вот оторвётся от бетонной полосы самолёт, и всё… На этом закончится сей странный быстротечный роман. Собственно, что ей до меня? Сама же сказала, что скучновато было здесь до знакомства со мной. Ну вот и чуточку развеялась. Что ж дурного? Хороший собеседник, внимательный кавалер. И грань не перешла».
Не знаю, почему так думал, но ведь порою мыслям не прикажешь не появляться. И они появлялись время от времени.
Но вот и эти последние часы истекли, и мы пошли к её санаторию. Возле корпуса она неожиданно сказала, назвав меня на «ты»:
– Поднимешься ко мне? Поможешь чемодан вытащить?
Меня пропустили свободно – видимо, внушал доверие. И вот мы оказались одни в номере. Но время, неумолимое время. Что можно было успеть? Я обнял её, но она, поняв по-своему, сказала:
– Не надо… А то я не выдержу. Нет, не здесь, только не здесь и не так. Ведь уже через неделю встретимся?
Мне оставалось отдыхать неделю.
Она же прибавила забавную фразу:
– Я за нос тебя водить не буду.
– Верю и ценю эти слова, – столь же забавно ответил ей.
Санаторский автобус поехал сначала к провалу и только затем спустился в город мимо фонтана «Каскад», парка «Цветник», «Ставрополья».
Наконец мы вышли из этой душегубки у автовокзала. Я уже знал, что, конечно, провожу её до аэропорта. Она ещё этого не знала.
Я попытался поймать такси – не получилось. Потом сбегал за билетами, и мы сели в какой-то переполненный автобус. Он стоял без движения. Пытались перебраться в «Икарус», но не перебрались и вернулись на старые места. Наконец, автобус всё-таки тронулся и помчался довольно резво.
Удивительное было у меня настроение – шальное какое-то. То улыбался, то грустил, но всё же чаще улыбался так, что она, когда наши взгляды встречались, делала мне удивлённые знаки глазами.
Я специально касался её руки, которой она держалась за металлический поручень, мысли путались, мелькали, бросая меня из недавнего прошлого в будущее и наоборот.
Минеральные Воды встретили удушающей жарой, раскалённым асфальтом и неистовым гулом авиатурбин.
Мы нашли стойку регистрации аэробусов, выбрали место в тени, поставили вещи. Очередной виртуальный рубеж, разделивший нас, словно рухнул. Мы непрестанно обнимались, она трепетно, ласково прижималась ко мне, но тут же отстранялась, восклицая: «Кружится голова».
Я не ощущал ни пространства, ни времени, я словно забыл, где нахожусь, и как-то нелепо было думать, что где-то есть военный санаторий, где-то есть гора «Машук» и танцплощадка у орла. А главное – всё это есть и будет, но не будет во всём этом её. А в ней теперь, казалось, сосредоточен весь мир, точнее мир моих ощущений.
И при этом мы говорили и говорили. Теперь мы перебирали все этапы нашего столь короткого и столь ёмкого знакомства. Она продолжала удивляться тому, что пошла вдруг, неожиданно для себя, на танцы. Удивлялась, почему выбрала в зале именно то место, где стоял я, почему сразу согласилась пойти танцевать, и потом уже не пропускали мы с ней ни одного танца.
До отлёта было ещё около двух часов, и мы радовались возможности побыть рядом.
– Как бы плохо было здесь одной! Жара, духота и ожидание. Ужас… Как бы тянулись эти два часа! А сейчас хочется, чтобы они тянулись вечно, – говорила она.
Дважды заговаривала о том, что ждёт в Москве:
– Завтра уже на работу. Представляешь? Уже завтра…
Но тут же бросала эту тему. Я пытался спланировать нашу встречу в Москве. Она отвечала:
– Нет, нет, не надо… Не строй планы. Боюсь, что не сбудутся…
Я замер в оцепенении, но тут же услышал:
– Это шум, этот аэропорт…Он словно зовёт в дальние страны. Ой, как я хочу куда-нибудь с тобой поехать…
И чувствовал, что она говорит то, что действительно думает, говорит без жеманства, точно так же, как без жеманства поцеловала меня накануне вечером.
Её открытая душа, её доброе сердце рвались навстречу моей душе и моему сердцу. Порывы её были восхитительны. Она не спрашивала, пойду ли сегодня на танцы, буду ли с кем-то знакомиться, как иногда спрашивают героини завершившихся на вокзале курортных романов – она словно бы знала: не пойду и не буду.
Заметив грустинку в моих глазах, поспешила успокоить:
– Ведь всего шесть дней, шесть дней, и ты будешь в Москве… И мы увидимся.
Не было в этих словах театральности, было что-то по-женски доброе. И в тоже время во всех её движениях, действиях, словах ощущались достоинство, сила, уверенность.
Я не знал, что буду делать в эти оставшиеся дни в Пятигорске, но было одно желание – писать, писать о ней, об этой удивительной встрече. Я даже решил, что сразу же, здесь, в аэропорту куплю блокнот, чтобы уже в автобусе или в электричке на обратном пути начать писать.
Её магнитическое притяжение было необыкновенно. О чем я мог думать и о чём писать? Только о ней.
Мы уже поняли и повторяли одну и туже фразу об удивительном духовном родстве и удивительном единении. Вот первооснова всего. Я часто машинально повторял, почти не преувеличивая: «Такого со мною ещё не было!». И она вторила мне. Сколько же давала мне каждая минута пребывания с нею рядом!
– Я совершенно потеряла голову, – говорила она.
– Вот улетишь и обретёшь её вновь, – отвечал я, и в голосе сквозили нотки тревоги.
– Нет, что ты, что ты! Не-ет, этого не произойдёт. Это просто невозможно. Мы обязательно увидимся. Скоро увидимся. Ведь верно?
Я всё время забывал её сфотографировать, и когда мы стали в хвост очереди, вспомнил о фотоаппарате.
Очередь двигалась до обидного быстро.
– Может, отойдём, а том сейчас тебя заберут туда и всё…
– Но, может, пустят и тебя?
– А если нет?
Действительно, провожающих не пускали и мы, выйдя из очереди, снова встали в её хвост, чтобы подольше побыть вдвоём. Наверное, мы кого-то раздражали тем, что поминутно обнимались и целовались, но мы никого не замечали. Впрочем, на вокзале поцелуи и объятия раздражать не должны.
И вдруг она сказала:
– Ну ладно ты – профессию выбрал влюбляться и страдать, а потом всё описывать. Но я-то? Но я-то? Ни один мужчина не вызывал во мне таких чувств…. Странно… Мы ведь знакомы два дня, а, кажется, вечность… Мы ведь даже не были близки, а мне кажется, что ближе тебя у меня никого нет.
Я коснулся губами её волос. Она прошептала:
– Ой, не надо, а то я останусь!.
Я отстранился, но ненадолго. Осторожно, ласково обнял её и взял её руку. Она вздрогнула, как под током и сказала:
– Я через руку тебя чувствую… Ты меня заколдовал, ты меня загипнотизировал. Никогда такого не было.
Я вспомнил о вчерашнем поцелуе, о самом первом её поцелуе.
Она ответила:
– Так захотелось тебя поцеловать, что сама не знаю. Вот и поцеловала.
Мы долго ещё стояли рядом, а потом мне всё-таки удалось прорваться сквозь заслоны в помещение и помочь сдать багаж, ведь в то время ещё разгула терроризма не было, ещё была советская власть.
И мы снова были рядом, радуясь удаче, и она повторяла:
– Ну надо же, надо же… Ещё позавчера мы не знали друг друга. А теперь…
Да, между нами ещё ничего не было, но всё это, казалось, уже предрешённым.
С этими мыслями мы расстались. Она прошла через контроль, а я наблюдал за нею, пока не скрылась из глаз. Потом поспешил туда, где мы ещё недавно стояли с нею вдвоём. Скоро увидел её, направляющуюся к самолёту. Шла строгая, сосредоточенная, грациозная – и такая она была милая, аккуратная, стройная, что я любовался ею, не отводя глаз.
Остановилась у носового трапа, оглянулась, отыскала меня глазами и помахала мне. Потом сделала знак, означающий, что надо идти дальше, но через несколько шагов снова оглянулась…
Как же она выделялась из всей толпы пассажиров какой-то особой грацией, совершенством фигуры, пластичностью движений, уверенностью и достоинством. Наконец она остановилась у трапа, который был ближе к хвосту самолёта, последний раз послала мне воздушный поцелую и, не оглядываясь, взбежала вверх, чтобы скрыться в ненасытной утробе аэробуса.
Я медленно пошёл вдоль здания аэровокзала, равнодушно отыскал автобус, равнодушно купил билет и столь же равнодушно выпил стакан воды и стакан холодного калинового напитка. Не забыл и блокноте с авторучкой.
Долго ждал взлёта аэробуса, и уже из окна автобуса услышал рёв двигателей и увидел огонёк на могучем киле этого воздушного гиганта, уходящего в небо. Самолет оторвался от земли в 17.45 и по случайности в 17.45 тронулся мой автобус. Я долго следил за могучей четырёхтурбинной громадиной, пока она не скрылась из глаз.
Автобус был полупустым, и я пересел на теневую сторону к открытому окошку. Тёплый ветер гулял по салону, мало освежая даже на скорости, справа обозначилась пятиглавая громада Бештау.
В автобусе не писалось – слишком было тряско. Я продолжал оставаться в некотором оцепенении – радость перемешивалась с грустью, надежда с тревогой. Почему-то вспомнился Бунинский «Солнечный удар». Там невероятная вспышка страсти была завершена, но ничем так и не окончилась. Мой быстротечный роман остался незавершённым. Завершится ли? Сколько таких вот ярких романов оканчивалось, по существу, и не начавшись. Ведь на курорте все немножко сходят с ума, а потом, когда поезд подходит к перрону или самолёт касается посадочной полосы аэропорта, наступает прозрение.
Она сказала о себе и много и мало – темы семейного положения так и не коснулась, и мне оставалось гадать, замужем она или не замужем.
Я освободился из автобусного плена у верхнего рынка и пошёл в гору с необыкновенной лёгкостью. У меня была цель – описать всё, что произошло за эти двое суток. Лёгкость была от сознания, что на моём пути появился совершенно необыкновенный человек – женщина незаурядная, в которой теперь сосредоточился весь смысл моих надежд и все мои мечты.
Вечером я всё-таки пошёл на танцевальный вечер ради того, чтобы убить время – оно теперь тянулось для меня слишком медленно. Я выбрал эффектную внешне партнёршу, оттанцевал с ней танго, затем был приглашён на белый вальс. Я протанцевал все танцы от первого до последнего вальса, но обменивался с партнершами лишь ничего не значащими фразами, затем пил кефир в холле санаторской столовой, тоже один, особняком от всех.
Перед тем как идти к себе в корпус, хотел позвонить ей, но только теперь вспомнил, что дала она мне лишь рабочий телефон, пояснив, что после возвращения сразу уедет на дачу. Я не придал тогда этому значения, а теперь пожалел лишь о том, что до завтра не услышу её голос.
Утром я всё же прошёл по терренкуру и лишь потом позвонил из клуба «Ленинских скал» – почему-то звонить оттуда мне было приятнее. Её тут же позвали, она узнала мой голос и обрушила на меня поток фраз, которые можно было слушать вечность. Она говорила о том, как её хочется сейчас же, немедленно в Пятигорск, как скучает и переживает. Я отвечал, что перенёс «солнечный удар». Она заявила, что продолжает удивляться самой себе и не может понять, как всё это произошло, и что с нею случилось. Да, она думала обо мне и ждала, ждала встречи.
Я забежал в номер, взял свой билет и сразу на вокзал. Поменял его, чтобы выехать уже на следующий день фирменным поездом, который прибывал на Курский вокзал в 21.15. После этого забежал к начальнику санатория, написал рапорт – так полагалось, если покидаешь санаторий раньше срока более чем на два дня. И успел до окончания работы набрать её номер.
Как же я волновался в те минуты!
– Что случилось? – спросила она встревожено.
– Многое… Я выезжаю завтра. Ты рада?
– Да!
– Встретишь меня послезавтра на Курском вокзале в двадцать один пятнадцать? Вагон десятый, «св».
Она на какое-то мгновение задумалась, видимо, осмысливала информацию, и я снова услышал «да».
Я рисковал, ведь поезда, порой опаздывали. Впереди ночь. Куда деваться, если поезд придёт поздно. Дома у меня в это время жил брат, приехавший в отпуск из группы войск.
Позвонил своему приятелю, спросил о его планах на послезавтра. Он сказал, что собирается на дачу. Я коротко рассказал о своём приключении и попросил оставить ключ у соседей.
– Положу под коврик. Ты знаешь куда. Ведь я уеду за два-три часа до твоего приезда. А соседи могут тоже куда-то умчаться. Пятница же.
Я потерял счёт дням. Но всё пока получалось удачно, хотя и тоненькой была ниточка этой удачи. Всё могло быть, ведь садясь в поезд, я терял с нею связь более чем на сутки. За это время могли измениться её планы, могли измениться планы моего приятеля, наконец, мог исчезнуть ключ… У страха глаза велики.
Пытаясь успокоиться, сел писать. Это действительно систематизировало и выровняло мысли.
Утром быстро собрал чемодан, не пошёл на терренкур, пробежал по врачам, чтобы попрощаться и ждал, ждал, ждал автобуса, который после обеда отвозил отъезжающих Московским поездом на железнодорожный вокзал.
Желая убить время, я прошёл, а точнее почти пробежал там, где мы гуляли с нею и, казалось, я не один, казалось, что она снова со мной. Я чувствовал силу её любви на расстоянии, как она меня прочувствовала через мою руку…
Первый раз меня никто не провожал, и даже было немножечко грустно неведомо от чего. За этот странный отпуск у меня в санатории не появилось ни одного знакомого, а соседи по столу, с которыми общался вынужденно, разъехались раньше меня. Отчего же грусть? Ведь ехал я к ней. Наверное, оттого, что покидал любимые эти места, теперь связанные с нею. Эх, её бы перенести сюда по мановению волшебной палочки! Было грустно, что не с ней провёл я этот месяц, что досталось нам всего лишь два неполных дня.
Я заметил, что меня притягивало и волновало всё, что связывало с нею.
Я стоял на перроне и считал часы, да именно часы – до встречи с нею оставалось чуть более тридцати часов.
Поезд подошёл точно по расписанию. От Кисловодска негде было набрать опозданий. Тревоги впереди – на долгих и длинных перегонах. Обычно я относился к опозданиям равнодушно, как к чему-то почти необходимому, но сегодня немножко тревожился.
В купе я оказался один и порадовался этому. Впрочем, вагоны «СВ» нередко ходили заполненными наполовину. Иногда, правда, подсаживали пассажиров где-то в пути. Но было это редко. Если в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске или Железноводске, никто не сел, то можно было надеяться, что второй диван так и будет пустовать до самой Москвы.
Поезд тронулся, и медленно набирая скорость, покатился вниз, к Железноводску. Я отдёрнул занавеску и долго смотрел на «Машук», который, казалось, и не перемещался по отношению к моему окошку. Поезд описывал замысловатые виражи между Машуком и Бештау. Наконец, он остановился у Железноводска, и я с тревогой посмотрел на платформу – очень не хотелось, чтобы кто-то шумный и не в меру разговорчивый нарушил моё уединение. До Железноводска я не открывал блокнот. Что толку начинать писать, если не дадут продолжить. Иногда в таких поездках мне хотелось, чтобы посадили молодую, красивую женщину. Но сегодня нужды в этом не было, да ведь когда вагон полупустой, женщину, конечно, посадят в свободное купе. Особенно на тех станциях, где билеты продаются без указания места, а просто в определённый вагон.
Я снова перебирал в памяти эти два дня с нею. И чем больше думал о них, тем более несбыточной казалась наша встреча, настолько всё было невероятным, волшебным, праздничным – а за праздники всегда приходится платить горькими буднями.
В Железноводске никого не посадили, и я взялся за перо. Особенно удобно было писать, пока поезд стоял в Минеральных Водах, где всегда стоянки достаточно долгие.
Время тянулось медленно.
На станцию «Кавказская» прибыли в 20.30. Опоздание было – 20 минут. Пустяки, но симптом не очень хороший. Почему я всё время думал об опоздании поезда? Словно чувствовал что-то.
Тревоги были небезосновательны. Не зря же я стремительно поменял билет и выехал почти следом за нею. Я по опыту знал, что нельзя было упускать время. Действия этого удивительного, яркого, всепоглащающего чувство, которое Бунин метко и точно назвал «солнечным ударом», давшим название и самому рассказу, не бесконечно и небезгранично по времени. Протяни я здесь неделю, и что-то сотрётся, что-то уляжется. Потом я узнал, что не слишком ошибался в предположениях, но это было потом. А тут всё ещё свежо, всё ещё ярко… И озарение ещё продлится по крайней мере несколько дней, пока не затянут повседневные дела, пока не затянет работа, пока не возьмут за горло серые будни дней.
А если поезд опоздает? Дождётся ли она? Будет ли ждать ночью на вокзале? Может быть, надо было взять билет на вечерний поезд и приехать в субботу утром? Но тогда терялась другая внезапность. Тогда надо было коротать день. Где? Как?
Я понимал, что всё решится завтрашним вечером. Если она придёт, если встретит, всё будет так, как того страстно желает моё сердце, всё моё существо. А если нет!
Эта ужасная мысль обожгла, и я раскрыл блокнот, чтобы за эти сутки написать всё, что успею написать, чтобы рассказать об этом своём удивительном «солнечном ударе», ведь если завтра встреча не состоится, случится другой удар, который поломает всякую возможность когда-то описать то, что сейчас живёт и клокочет в памяти. Литературное творчество непредсказуемо. Вдохновение же – вообще драгоценный дар, который отпускается по карточкам, как самый острый дефицит. Можно писать много и хорошо, но не вдохновенно, а скучно, ремесленнически, а можно писать под озарением, и это будет уже совсем другое письмо – другие сюжетные ходы, другие фразы, другие образы.
Сделал первую запись:
«Еду один… Символично…Теперь второе место в «св» будет её и только её… Ведь её очень хочется куда-то со мной поехать. Значит поедем. Обязательно поедем».
Так я успокаивался себя. И писал, писал, писал свой курортный и одновременно путевой дневник. Писал допоздна, чтобы наутро проснуться как можно позднее. А то ведь там ехать, ехать и ехать. Я уже по множеству прежних поездок знал, что трудные часы начинаются где-то после Скуртова, а особенно трудные – после Тулы.
И вдруг подумал: «Только бы в Скуратове были цветы. Мне нужен особенный букет!».
Цветы в Скуратове были. Я собрал у нескольких бабушек всё, что понравилось, и получился приличный букет. Но только вот опоздание поезда составило уже 1час 45 минут. Это, значит, он мог прибыть в Москву теперь уже в 23.00.
Я спросил проводницу:
– Нагоним?
– А кто ж его знает? Бывало, что нагоняли, бывало, что нет… Как там будет за Тулой – движение там уж больно плотное. Ещё и электрички…
Успокоила. Нечего сказать.
После Тулы поезд пошёл бойко и ходко, и появилась надежда, что он нагонит опоздание. Я повеселел, но оказалось, что преждевременно. Возле станции Тарусская, до которой я часто ездил на электричке по пути к Поленовым в гости, поезд замедлил ход, и вскоре остановился. Я выглянул в окно – лужицы на платформе покрылись колечками от капелек вялого затяжного дождя.
До Москвы оставалось два часа езда на электричке – на скором и того меньше. Но… поезд стоял.
Тарусская… Она мне напомнила минувший год, напомнила тот роман, который угас в Пятигорске, причём угас без надежд на воскрешение.
Я смотрел на станционные постройки, на обычную, деревенскую остановку автобуса, обозначенную лишь жестянкой жёлтого цвета, исписанной цифрами. Поезд дёрнулся, протащился ещё несколько метров, и я увидел дорогу, которая шла вдоль железнодорожного полотна за небольшим ограждением. По ней надо было проехать совсем немного, а затем сделать резкий поворот и взять курс уже непосредственно на Поленово и Бёхово. Как же так? Год назад… Какой там, меньше чем год назад, в конце июля, я ехал по этой вот дороге, полный надежд, и тоже, как казалось, влюблённый, с той, которая вдруг так переменилась в этом году. Что с неё случилось? Ведь всё так было хорошо. Жалел ли я теперь о том? Нет, не жалел, а всё же вспоминал. А раз вспоминал, видимо, что-то ещё держало, что-то притягивало незримой нитью к прошлому.
«Почему мы остановились именно на Тарусской? Почему мы стоим именно здесь? Что это? Случайность или намёк?». Нет, тогда я ещё не знал, что случай – есть псевдоним Бога, когда Он хочет остаться незамеченным.
Время шло, а поезд стоял. А в поезде дальнего следования, как в клетке. Куда деваться? Выйти на платформе? Но ведь электрички ходят по тем же железнодорожным путям, а автобусы далеко. Это надо ещё добраться до шоссе, да найти на чём доехать. Да и что толку? Она-то ведь ждёт именно этот поезд. А если поезд рванёт вперёд, а автобус или попутный автомобиль окажутся менее быстрыми? Нет, оставалось сидеть в клетке, с горечью думая о том, что всё рушится из-за таких вот будничных, серых обстоятельств, из-за какой-то неполадки или какого-то просчёта людей, совершенно равнодушных к судьбе вот такого невероятного, быть может, никогда неиспытанного ими «солнечного удара». Время неумолимо… Вот уж и закат бросил первые блики на очищающийся от туч небосклон. Я посмотрел на часы – был уже девятый час. Она, наверное, уже в метро, она едет на вокзал, если, конечно, едет…
«Нет, ну почему я сомневаюсь? Едет, конечно, едет. Потом ведь скажет, что ехала, сама не зная зачем», – попытался я успокоить себя этакой фразой.
Поезд опоздал на три с половиной часа, и я вышел на перрон Курского вокзала без всяких надежд. Осмотрелся, окунаясь в разноголосый гвалт, и тут же увидел её, спешащую ко мне.
Я буквально выронил вещи, обнял её и проговорил:
– Героическая женщина!..
Потом, обходя чьи-то чемоданы и группы провожающих и встречающих, притиснулся к тоннелю.
Она продолжала удивляться самой себе:
– Надо же, ведь ещё неделю назад мы не знали друг друга.
– Не точно… неделю назад уже знали, – поправил я. – Мы познакомились в семь вечера, а сейчас уже полночь.
– Да и опять понедельник… Удивительно, ведь понедельник вообще-то тяжёлый день.
– Но не для нас! Хотя… Ужасно было видеть, как нарастает опоздание. Я метался по купе, проклиная всё на свете и особенно Министерство путей сообщения. Думал, ты не дождёшься…
– Ну, что-ты!? Как же я могла не дождаться? Я едва дождалась… Едва дождалась той минуты, когда увидела тебя!
(Продолжение следует)
Ещё темно, но где-то уж рассвет.
Спешит, торопится – путь летний так короток.
А ночь тиха, струится лунный свет,
Он серебрист, таинственен и кроток.
О, где же ты? С тобою б выйти в сад,
Что в пелене серебряной вуали,
Сирень оделась, словно на парад...
Не звёзды ль ей команду эту дали...
Колышется фонарь, и тени от берёз
Исследуют газон с постриженной травою...
И столько эта ночь мне дарит чудных грёз,
Закрытых до рассвета пеленою.
ВВЕДЕНИЕ
МОЖНО ЛИ НАЙТИ ИСТИНУ В ИСТОРИИ?
«Твёрдою опорою и неколебимою почвою для
национального сознания и самопознания всегда
служит Национальная История».
Николай Егорович Забелин
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
На четвертную страницу переплёта недавно вышедшей книги «Новая Русская доктрина. Пора расправлять крылья» вынесены слова, с которыми нельзя не согласиться: «На рубеже тысячелетий Россия чудом избежала, как казалось многим, неизбежной гибели. Безукоризненные внешние расчёты не оставляли нам шанса на выживание. Тем не менее, страна не только продолжила существование, но и воодушевилась к новому расцвету». А в аннотации прямо говорится о чуде этого: «В начале ХХI века Россия явила миру очередное чудо, вновь уже в который раз! – совершив невозможное: приговорённая врагами к полному уничтожению, разграбленная, вымирающая, обречённая на распад и скорую гибель страна словно восстала из пепла, в считанные годы вернув себе не только суверенитет, но и утраченный статус сверхдержавы».
Здесь только одна ошибка… Россия не могла себе вернуть то, что не утрачивала, ибо определение «сверхдержава» вообще неуместно, поскольку в мире, на планете Земля, есть лишь одна Держава. Это – Россия.
Держава – понятие духовное и вытекает из словосочетания: «Удержание Апостольской Истины». На планете Земля есть только одна страна, одно государство, которое имеет великое предназначение, данное Самим Создателем –«Удержание Апостольской Истины». Это государство, повторяю, – Россия. И только России Всевышним дарована праведная «Власть от Бога» – Православное Самодержавие. Только Русский Государь именуется Удерживающим. С изъятием из среды Удерживающего наступает, как учит Церковь, хаос. Только Россия является Удерживающей на Земле. Если бы тёмные силы сумели (что, конечно, невозможно и никогда не случится) изъять из среды (с планеты Земля) Россию, мир бы немедленно погиб в наступившем хаосе и кровавой смуте.
Только Россию правильно именовать Державой. Ни Гондурас, ни США, ни Грузия, Эстония и прочие подобные им злокачественные новообразования, державами не являются, и называть их так, по меньшей мере, безграмотно. Это страны или, в конце концов, государства, хотя и во втором случае натяжка, ибо государством руководит Государь, а не банда мошенников-банкиров и «экономистов» во главе с избираемым ими «паханом – президентом».
Вот эти, с позволения сказать, государства, возглавляемые отпетыми мошенниками, на протяжении всей истории делали всё возможное, чтобы уничтожить Россию, но она, как точно отмечено в вышеприведённой цитате, являла им необыкновенные чудеса, оставаясь целой и невредимой, хотя нередко укусы этого зверья и обходились ей очень и очень дорого.
Какими только способами враг ни пытался уничтожить Россию и Русский народ! И нельзя сказать, что старания звероподобных нелюдей были безуспешны. С помощью внутренней продажной элиты удавалось не раз ставить Державу не грань катастрофы. Недаром блистательный мыслитель Русского Зарубежья Иван Лукьянович Солоневич точно подметил: «Россия падала в те эпохи, когда Русские организационные принципы подвергались перестройке на западно-европейский лад». Вот именно такую перестройку врагам России было не под силу сотворить без помощи внутренней элиты или так называемой пятой колонны. Этих колонн во все века было, хоть отбавляй, и вырастали они, как правило, из класса эксплуататоров, из олигархической прослойки.
Но Держава стояла. Хочу предупредить читателя, что как здесь, так и в дальнейшем, я не буду уточнять «Русская Держава», ибо, как мы уже разобрались, грузинской, к примеру, или эстонской, или там американской державы быть просто не может. Это тоже, что, скажем, навозного червя назвать парящей орлом или соколом. Всему на свете есть своё наименование. Как есть название – Сыны Человеческие, так есть люди, а есть и нелюди. Но об этом далее…
Как же могла выстоять единственная в мире Держава в единоборстве со сворой бешеных гиен, мечтавших с давних времён растерзать её и поделить между собою?
Мыслитель Русского Зарубежья Борис Башилов назвал историю России историей осаждённой крепости. Ведь по подсчётам Сергея Михайловича Соловьёва «С 1055 года по 1462 год Россия перенесла 245 нашествия, причём 200 нападений было совершено между 1240 и 1462 годами, то есть почти ежегодно. С 1365 года по 1893-й, за 525 лет, Россия провела в войнах 305 лет.
Как же удавалось выстоять? Мало того… Борис Башилов приводит удивительные факты: «В 1480 году Европейская Россия имела только 2,1 миллиона человек (почти в пять раз меньше Австрии, в два раза меньше Англии, в четыре с половиной раза меньше Италии, в четыре с половиной раза меньше Испании и в девять раз меньше Франции).
Спустя 100 лет, в 1580 году, Россия имела 4,3 миллиона человек.
В 1648 году, когда Дежнев, обогнув мыс, носящий теперь его имя, вышел из Ледовитого океана в Тихий, в России было всего 12 миллионов, а во Франции 19 миллионов. В 1480 году население Московской Руси равнялось только 6% самых крупных государств Европы того времени: Англии, Германии, Испании, Франции и Италии.
В 1680 году мы имели 12,6 миллионов, в 1770 году 26,8 миллиона, в 1880 году 84,5 миллиона – в два с половиной раза больше Австрии, Италии, Франции, Англии, в три с половиной больше Италии и в четыре с половиной раза больше Испании.
А накануне Первой мировой войны Россия имела около 190 миллионов населения (130 миллионов русских), а все шесть названных раньше стран имели только 260 миллионов жителей.
Не будь революции, в 1950 году Россия имела бы больше трехсот миллионов жителей…»
И это несмотря на почти непрерывные войны, несмотря на то, что за первое очень тесное знакомство с Западом – Смутное время – Россия заплатила 7 миллионов жизней, безжалостно истреблённых зверополяками, а за последующее сближение с Европой при Петре I – третью своего населения, по расчетам Василия Осиповича Ключевского или даже 40 процентами, по мнению других историков.
Что же давало возможность России отбивать атаки врага и одновременно набирать силы? Праведная власть, власть Богоугодная – Русское Православное Самодержавие. Причём, по словам Н.И.Черняева, «постоянная опасность извне была одной из причин колоссального развития Русского Самодержавия», которое «было созданием Великорусского Государственного гения; если бы Московские князья не были самодержавными, они никогда не достигли бы такого могущества, которое выпало не их долю».
Императрица Екатерина Великая была необыкновенно точна в своём определении: «Российская Империя столь обширна, что кроме Самодержавной Монархии, всякая другая форма правления вредна ей и разорительна, ибо все прочие медлительны в исполнении и множество страстей разных имеют, которые к раздроблению власти и силы влекут. Единый Государь имеет все способы к пресечению всякого вреда и почитает общее благо своим собственным. Цель Монархического Самодержавного правления есть благо граждан, слава государства и самого Государя».
В 1788 году Императрица Екатерина Великая писала принцу де-Линю:
«Я была воспитана в любви и уважении к республикам; но опыт убедил меня, что чем более собирается народу для рассуждения, тем более слышно безрассудных речей». А в своей небольшой заметке «О России» указала: «Если ваше правительство преобразится в республику, оно утратит свою силу, а ваши области сделаются добычею первых хищников; не угодно ли с вашими правилами быть жертвою какой-нибудь орды татар, и под их игом надеетесь ли жить в довольстве и приятности.
Безрассудное намерение Долгоруких, при восшествии на престол Императрица Анны, неминуемо повлекло бы за собою ослабление – следственно и распадение государства, но, к счастью, намерение это было разрушено простым здравым смыслом большинства».
Как видим, даже грубое правление «бироновщины» было по её мнению лучше, нежели беспредел либеральной и разрушительной демократии, ибо известна истина, что там, где всяк правит, никто не правит.
Государыня Императрица Екатерина Великая завершает свою мысль ярким примером, известным всем, но всеми ли осмысленным?
«Не привожу примера (деления на уделы) Владимира (Владимиро-Суздальского княжества – Н.Ш.) и последствий (ордынское нашествие и долгое тяжкое иго – Н.Ш.), которые оно повлекло за собою: он слишком глубоко врезан в память каждого мало-мальски образованного человека».
Недаром, в трудные минуты, когда враг стоял у стен города, новгородцы сразу отказывались от своей вечевой демократии и приглашали на княжение сильного князя.
Но что же это за власть такая, САМОДЕРЖАВИЕ и почему она именуется Богоугодной? В двух словах не скажешь. Именно ответу на этот важнейший вопрос и посвящена книга. Истоки и основы этой власти имеют духовную природу. Эта власть не придумана людьми – эта власть именно от Бога и была, как учит Русская Православная Церковь, дарована Богом России через Откровение Пресвятой Богородицы Андрею Боголюбскому на развилке Владимирской и Суздальской дорог 17 июля 1155 года.
Митрополит Иоанн Ладожский в книге «Самодержавие духа» указал: «Христианство признаёт один источник власти – Бога… Целью Богоугодной власти является всемерное содействие попыткам приблизить жизнь народа во всём её реальном многообразии к евангельскому идеалу. Иными словами, цель Богоугодной власти – содействие спасению душ подданных, в соответствии со словами Божиими: "Не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от пути своего, и живу быти ему". (Иез. 33, 11)».
Далее он продолжал: «Источник власти один – Бог. Люди сами по себе не являются источниками власти, как бы много их ни было, в каком бы взаимном согласии они не находились. Народовластие, «народное представительство», с точки зрения христианства, – абсурд. Народ не может никому поручить свою «власть», ибо у него этой власти просто нет.
Если в Православном христианстве мы видим содействие «попыткам приблизить жизнь народа во всём её реальном многообразии к евангельскому идеалу», то в светском обществе налицо стремление к власти любой ценой, любым путём. Лев Александрович Тихомирова считал, что идеальной властью может быть только Самодержавная Монархия. Он писал: «Идея Монархической Верховной власти состоит не в том, чтобы выражать собственную волю монарха, а в том, чтобы выражать народный дух, народный идеал, выражать то, что думала и хотела бы нация, если бы она стояла на высоте собственной идеи». При этом он указал: «Политическая сущность бытия русского народа состоит в том, что он создал свою особую концепцию государственности, которая ставит выше всего, выше юридических отношений, начало этическое… Русский народ выработал тип монархической власти, который является наиболее близким во всей человеческой истории приближением к идеальному типу монархии. Все остальные типы монархии, бывшие до сих пор, по отношению к Русскому Самодержавию являются неполноценными, менее развитыми типами».
Философ Владимир Сергеевич Соловьёв, сын знаменитого историка С.М.Соловьёва придерживался того же мнения, полагая, что Русское Самодержавие есть «диктатура совести», точнее, диктатура Православной совести – выработанное Русским народом в течение веков своеобразное сочетание начал авторитета и демократии, принуждения и свободы, централизации и самоуправления.
«Русский народ, – отметил мыслитель Русского Зарубежья Борис Башилов, – издавна выражает своё убеждение, что закон не способен быть высшим выражением правды, которую он ищет и которую он хочет установить в жизни. На основании законов, по глубокому убеждению русского народа, праведная жизнь невозможна. Верховная власть не может опираться на безличный закон или, как выражался Иоанн Грозный на «многомятежное человеческое хотение». Источники верховной власти, по убеждению русского народа, должны вырастать из совести нравственной личности, подчиняющейся Богу».
Очередное падении России, на сей раз в пучину воинствующего ельЦИНИЗМА потому и произошло, что даже те незначительные остатки духа Самодержавного правления, которые существовали в Советском Союзе, как инерция Сталинского Самодержавного социализма, были окончательно утрачены, и верховная власть уже не руководствовалась теми принципами, которыми должна была руководствоваться. А принципы эти блестяще сформулировал наш современник Михаил Борисович Смолин: «Монархия – самая красивая политическая идея, а самое чистое осуществление идеи Монархии было дано Русским Самодержавием… Государь ограничен содержанием своего идеала, следование которому полагается царским долгом». Иными словами Православный Самодержец в деяниях своим не ограничен ничем – он полновластен – то есть, повторяю, неограничен ничеен, кроме своей православной совести… А это самое важное, самое действенное ограничение, не следовать которому Православный человек просто не может.
Лев Толстой говорил: «История – это ложь, о которой договорились историки». Это во всём мире. В Европе о себе писали всякого рода сказки, рисующие бездуховный, прогнивший Запад этаким добрым дядюшкой, раздающим направо и налево милости. Что это были за милости, сполна испытала Русская Земля за свою многовековую историю. И относительно Русской истории А.Гулевич в книге «Царская власть и революция» выразился ещё более резко и конкретно, нежели Лев Толстой: «Национальная история пишется обыкновенно друзьями – Русская история писалась её врагами».
На встречах с читателями мне нередко задают один и тот же вопрос, почему, мол, вы, опровергая многие устоявшиеся каноны о прошлом России, уверены, что предлагаете нам истинную версию.
Нелепо звучит – «истинная версия». Истина – это не версия. И я не предлагаю версию, не ставлю себя ни в коем случае выше других описателей старины – ныне «свобода слова». Всяк волен писать, кто во что горазд. Я же просто-напросто следую тому, что завещал нам Святитель Иоанн – Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Прочтите его книгу «Самодержавие духа» и вы получите ключ к Истине – единственной, ибо версий у Истины не бывает.
Итак, что же советовал Святитель тем, кто берётся за изучение Великого прошлого Великой России?
Цитата, которую я приведу, касается царствования Православного Государя Иоанна Васильевича Грозного, но равным образом отнести её можно и к любой другой эпохе Великого прошлого Великой России.
Опровергая ничем не обоснованные и не подкреплённые фактами клеветнические выпады против Грозного Царя, Святитель Иоанн писал:
«Желание показать эпоху в наиболее мрачном свете превозмогло даже доводы здравого смысла, не говоря о полном забвении той церковно-православной точки зрения, с которой лишь и можно понять в русской истории хоть что-нибудь. Стоит встать на неё, как отпадает необходимость в искусственных выводах и надуманных построениях. Не придётся вслед за Карамзиным гадать – что вдруг заставило молодого добродетельного Царя стать «тираном». Современные историки обходят этот вопрос стороной, ибо нелепость деления царской биографии на два противоположных по нравственному содержанию периода – добродетельный (до 30 лет) и «кровожадный» – очевидна, но предположить что-либо иное не могут.
А между тем это так просто. Не было никаких «периодов», как не было и «тирана на троне». Был первый Русский Царь – строивший, как и его многочисленные предки, Русь – Дом Пресвятой Богородицы и считавший себя в этом доме не хозяином, а первым слугой».
Предлагаемая вашему вниманию книга и посвящена одному из выдающихся предков Грозного Царя, причём предку, связанному с ним идейно более, нежели с другими Государями. Андрей Боголюбский зачастую именуется церковью первым Русским Царём («если не по имени, то по существу»).
И ещё на одном важном обстоятельстве я хотел бы остановиться. Замечательный Русский исследователь старины Иван Егорович Забелин тоже оставил нам в завет свои мысли о том, как надо подходить к изучению и описанию великого прошлого и мнение своё о том, как на деле мы это делаем. Увы, я говорю «мы», ибо то, что писал И.Е.Забелин на рубеже XIX – XX веков, актуально и по сию пору.
И.Е.Забелин же словно предвидел то, что будет происходить в наши дни через толщу десятилетий. Впрочем, он писал с натуры. Так, увы, было и так есть:
«Наше русское возделывание истории находится от древних совсем на другом, на противоположном конце. Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю и о каких–либо характерах и идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие были у нас идеалы, а тем более герои! Вся наша история есть тёмное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает большинство образованных Русских людей. Ясное дело, что такая история воспитывать героев не может, что на юношеские идеалы она должна действовать угнетательно. Самое лучшее как юноша может поступить с такою историею, – это совсем не знать, существует ли она. Большинство так и поступает. Но не за это ли самое большинство русской образованности несёт, может быть, очень справедливый укор, что оно не имеет почвы под собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону.
Действительно, твёрдою опорою и непоколебимою почвою для национального сознания и самопознания всегда служит национальная история… Не обижена Богом в этом отношении и русская история. Есть или должны находиться и в ней общечеловеческие идеи и идеалы, светлые и высоконравственные герои и строители жизни, нам только надо хорошо помнить правдивое замечание античных писателей, что та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит вовсе не от их славных или бесславных дел, вовсе не от существа исторических подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения и даже намерения писателей изображать в славе или унижать народные дела, как и деяния исторических личностей»
Вот вам и ключ к пониманию истории, ключ к её изучению. Исследователя добросовестного, честного, добропорядочного всегда безошибочно узнает и почувствует сердце Русского человека, почувствует и примет. И так же точно отвергнет всякого рода гадзинских, очерняющих Великое прошлое России.
А ведь всё очень и очень непросто…
Впрочем, давайте разберёмся во всём по порядку и выясним: а не говорит ли сама о себе наука «история», кто и зачем её создал. Обратимся к древности. Русские летописцы свои труды «историей» не называли. Они создавали летописи, а не сочинения по науке, названной «история», то есть: «Из – торы – я». Лучшие добросовестные исследователи прошлого вплоть до XIX века избегали именовать свои труды этим сомнительным определением. Так Александр Нечволодов назвал своё повествование о прошлом Отечества Российского «Сказаниями о Русской Земле», а Дмитрий Иловайский каждый из томов именовал: «Начало Руси», «Становление Руси», «Собиратели Руси» и так далее.
Тем не менее, слово «история», как наименование сказаний о прошлом, укоренилось и повсеместно вошло в обиход.
Возвращаясь же к определению А. Гулевича, напомним, что летопись пишется друзьями, ну а история – история теми, кто выполняет определенный заказ на создание, мягко говоря, ненаучного труда. Заказчиков же на такой труд хоть отбавляй, потому что, как заметил Джорж Оруэлл, «Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а тот, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». Из этого следует, что самозванцам, нелегитимно пользующимся властью, необходимо переписать прошлое, чтобы узурпировать будущее.
Есть у истории и историков ещё одна цель – обслуживание интересов тех, кто стремится к власти, к достижению её незаконным путём или даже к силовому захвату. Обслуживать исполнение подобных целей и входит в задачу баек «из – торы – и». Извращение правды о прошлом приводит к постепенному подрыву национального духа, национальной гордости.
Выдающийся консервативный мыслитель русского зарубежья Иван Лукьянович Солоневич сделал весьма справедливый вывод: «Фактическую сторону русской истории мы знаем очень плохо – в особенности плохо знают её профессора русской истории. Это происходит по той довольно ясной причине, что именно профессора русской истории рассматривали эту историю с точки зрения западноевропейских шаблонов». (Иван Солоневич. Народная монархия, Минск, 1998, с.22).
Я бы только, с позволения читателей, поменял в некоторых случаях слово «история» на великое прошлое и оставил бы это определение лишь в отношении профессоров, которые, как ни печально, превратились в специалистов по популяризации баек из – торы – и. Почему так случилось с историками XIX века, отчасти, объяснимо. Религиозный философ русского зарубежья Георгий Петрович Федотов (1886 – 1951) писал: «Мы имеем огромное, печальное преимущество видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. Наивным будет отныне всё, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами как целина, жаждущая плуга. Что ни тема, то непочатые золотые россыпи».
Исходя из сказанного философом, можно предположить, что и мы в начале XXI века видим дальше и зорче тех, кто жил в XX веке.
А на причину этого указал нам И.Л. Солоневич: «Русская историография за отдельными и почти единичными исключениями есть результат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки зрения».
Вам нужны примеры? Пожалуйста, будут и примеры.
Начнём с глубокой древности. Выдающийся исследователь русской старины, переводчик «Влесовой книги» Сергей Парамонов в книге «Откуда ты, Русь?», которую он издал под псевдонимом Сергей Лесной, указывал:
«Нашу историю писали немцы, которые даже вообще не знали или плохо знали русский язык. А за ними, как за непререкаемыми авторитетами, пошло и пошло…» (Сергей Лесной. Откуда ты, Русь?, Ростов-на-Дону, «Донское слово», 1995, с.12 – 13). В справедливости этого заявления мы убедимся при рассмотрении и фактов из далекого прошлого, которые были искажены «немцами».
Норманнская теория могла возникнуть только благодаря погромам, учинённым византийскими эмиссарами на Русской Земле и уничтожению многих документов о великом многовековом прошлом Русского народа. Враги России воспользовались этим, когда пришло время создавать труды по истории России. Академик Борис Александрович Рыбаков указывал: «Во времена бироновщины, когда отстаивать Русские начала в чём бы то ни было оказалось очень трудно, в Петербурге, в среде приглашённых из немецких княжеств «учёных», родилась идея заимствования государственности славянами у северогерманских племён. Славяне IХ – Х веков были признаны «живущими звериньским образом» (выдумка норманистов), а строителями и создателями государства были объявлены северные разбойничьи отряды варягов-норманнов, нанимавшихся на службу к разным властителям и державших в страхе Северную Европу.
Так под пером Зигфрида Байера, Герарда Миллера и Августа Шлецера родилась идея норманизма, которую часто называют норманистской теорией, хотя вся сумма норманнских высказываний за два столетия не даёт права на наименование норманизма не только теорией, но даже гипотезой, так как здесь нет ни анализа источников, ни обзора всех известных фактов. Норманизм, как объяснение происхождения Русской Государственности возник на основе довольно беззастенчивой априорности, предвзятости, пользовавшейся отдельными, вырванными из исторического контекста фактами и «забывавшей» обо всём противоречащем априорной идее».
Проще говоря, никаких документальных и сколь либо объективных подтверждений норманнской теории не существует вовсе. Почему же она столь «прижилась» в среде так называемых исследователей прошлого? И на этот вопрос мы находим аргументированный ответ в трудах академика Б.А.Рыбакова: «Более ста лет тому назад вышло монументальное исследование С.Гедеонова «Варяги и Русь», показавшее полную несостоятельность норманнской «теории», но норманизм продолжал существовать и процветать при попустительстве склонной к самобичеванию русской интеллигенции».
Интересно, что вся эта прозападная шушера (интеллект-аgенция или интеллектуальная агентура) со времени своего возникновения открыла непримиримую борьбу с исторической правдой. Недаром же А.Гулевич метко заметил, что история России писалась её врагами. В результате этого получилось, что «русская историческая литература, – по определению Ивана Лукьяновича Солоневича, – является беспримерным во всей мировой литературе сооружением из самого невероятного, очевидного, документально доказуемого вранья. Если бы это было иначе, мы бы не имели беспримерной в истории революции».
Размышляя об истоках фальсификации истории вообще и норманизма, в частности, Сергей Лесной тщательно исследовал огромное количество источников, обратился и к тем, которые почитались за основу при написании научных трудов. Впрочем, всем известно, что любой первоисточник можно либо извратить умышленно, либо умышленно неправильно прочитать и сделать те выводы, которые необходимы заказчику.
В книге «Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории» Сергей Лесной указал: «Историческая наука сделала огромную ошибку: она приписала германцам доминирующую роль в средней Европе ещё в первые века нашей эры. На деле же доминировали славяне. Позднейшие этапы германского движения на восток за счёт славян были перенесены без всяких оснований на более ранние эпохи. Отсюда происходит куча несуразностей…».
Вполне понятно, что все эти несуразности – плод болезненной фантазии тех, кто подделывал историю под определённый заказ и умышленно совершал ошибку, а она, эа «ошибка» началась с неправильного толкования труда Тацита «Германия»…
Сергей Лесной сделал вывод: «Тацит вложил совсем иное содержание в понятие «Германия», чем это делали и делают историки. «Германия» у Тацита не столько географическое или этническое понятие, сколько социологическое: к германцам он относит разные племена, обобщая их не по языку, а по образу жизни. Это видно из того, что он говорит в конце своего труда: «Я не знаю куда отнести певкинов, венедов и феннов: к Германии или Сарматии (затруднение и неопределённость у Тацита выражены совершенно определённо). «Певкины, которых иногда также называют бастарнами, по языку, общественным привычкам, образу жизни и устройству жилья похожи на германцев (но это не значит, что они германцы)». Это грязный и неопрятный народ. Черты их знати имеют кое-что от сарматского уродства из-за смешанных браков. «Венеды широко заимствовали из сарматского образа жизни: их грабительские набеги распространяются на все лесистые и гористые области между певкинами и феннами. Тем не менее, их следует считать за германцев, так как они имеют постоянные жилища, носят щиты и любят передвигаться быстро и пешком, во всех этих отношениях они отличаются от сарматов, которые живут в кибитках (передвижных домах) или передвигаются верхом. Фенны удивительно дики и ужасно бедны».
Из этого видно, что критерием «германства» для Тацита был главным образом способ жизни: оседлость, постройка постоянных домов, род оружия и так далее, но не язык.
Кроме того, он сам говорит, что германцев называют так по одному племени, но племён множество, и он их перечисляет; наконец это не их собственное имя, а имя, присвоенное им другими.
Здесь мы встречаемся с очень частым явлением, когда по мере роста знания имя некой области делается всё шире и шире. Так, например, перед покорением Сибири Сибирью называлась только область между Уралом и Обью, затем граница была отодвинута до Енисея, потом по мере распространения русских все земли к востоку до Тихого океана стали называться Сибирью. Общего географического понятия тогда на месте не существовало, оно было расширено постепенно русскими из одного небольшого частного до огромного общего, а затем воспринято и другими культурными народами. То же было и с понятием «Германия». Какое-то племя и область, занимаемая им к востоку от Рейна, была названа Германией. По мере движения на восток от Рейна и знакомства с этой областью и другие земли далее к востоку тоже стали называться Германией, а племена, их населяющие, германцами.
Из слов Тацита видно, что германцами назывался не один какой-то народ, давший основание для первоначального названия, а совокупность разных племён, объединённых тем, что они вели одинаковый образ жизни и все находились к востоку от Рейна.
Точный смысл слов Тацита был скоро забыт, и вместо этого стали употреблять расширенное, но неверное понятие «германец». Спутали два процесса: первый был обусловлен тем, что по мере ознакомления культурного древнего мира с землями и обитателями их к востоку от Рейна земли эти всё шире и шире назывались Германией, другой процесс был обусловлен постепенным распространением настоящих германцев, т.е. тевтонов, тоже на восток. Эти процессы были не одновременны, не синхронны, а их всё же слили вместе. Германец в древности вовсе не означал современного тевтона, а жителя области, называемой Германия.
Историческая наука, перенеся современные представления в глуби ну веков, совершенно исказила картину распространения народов в центральной Европе в древности, точнее, для первого тысячелетия нашей эры. Германским, т.е. тевтонским, племенам было приписано распространение от Рейна до Дона, славяне же настолько ограничены в своём распространении, что им оставили место в области Полесья, где вообще люди в те времена не жили. Для самого многочисленного народа Европы не нашлось в Европе места! Трудно понять такую логику. Если германские племена ещё в IV веке нашей эры были распространены от Эльбы до Дона, то куда они делись к VIII веку, когда история застаёт их ещё на Рейне, начинающими свой многовековой «Drang nach Osten»? Ведь речь идёт об огромных массах людей, исчезнуть, и притом бесследно, они не могли. Должны были остаться археологические, исторические, филологические и т.д. следы. Этих следов нет. Всё, что приписывается германцам в Восточной и южной Европе, основано либо на недоразумении, либо на шовинистической фальсификации.
Сергей Лесной делает уничтожающий фальсификаторов вывод:
«Таким образом, история германских племён оказалась раздутой до невероятных размеров, история же славян преуменьшена до размеров микроскопических». То есть славяне вообще как бы не имели своей истории, а свалились на поле истории V и VI веков как бы с неба.
Для чего же всё это делалось? Ответ прост. Тем, кто зарился на бескрайние просторы, которыми владели славяне, стремились оклеветать их, с одной стороны, а с другой – самих славян прекратить в «иванов, не помнящих родства».
К сожалению, эти попытки продолжаются и поныне. До сей поры в школьных программах, в программах вступительных экзаменов в институты, да и, естественно, в учебных программах самих институтов, по предмету, именуемому историей, всё шиворот навыворот. И норманнская теория пропагандируется, и о призвании варягов рассказывается в самых ярких красках, да и много других лживых мифов пропагандируется.
Академик Б.А.Рыбаков указал: «В бисмарковской Германии норманизм был единственным направлением, признаваемым за истинно научное. На протяжении ХХ века норманизм всё более обнажал свою политическую сущность, как антирусская доктрина. Показателен один факт: на международном конгрессе историков в Стокгольме (столице бывшей земли варягов) в 1960 году вождь норманистов А.Стендер-Петерсен заявил в своей речи, что норманизм, как научное построение, умер, так как все его аргументы разбиты и опровергнуты. Однако, вместо того, чтобы приступить к объективному изучению предистории Киевской Руси, датский «учёный» призвал к созданию «неонорманизма».
Надо полагать, что стараниями интеллектуальных агентов Запада путаница в Русской истории только усиливается. Как тут не задуматься о причинах появления «научных» трудов неких Носовского и Фоменко, олицетворяющих всю ту же теорию норманизма. Они отказывают Русскому народу в праве иметь таких великих своих предков как Александр Невский и Дмитрий Донской и гордиться блистательными победами в Невской битве, Битве на Чудском озере и на поле Куликовом. Идеология лжи всегда была бессовестной, наглой и в то же время дерзкой и наступательной.
Так есть ли возможность найти истину? Как выбрать исследователю путь, по которому следует идти? Мне вспоминается один исторический эпизод. В самом начале наполеоновского нашествия Император Александр I направил в ставку неприятеля министра внутренних дел Балашова с предложением одуматься, покинуть пределы России и сесть за стол переговоров. Наполеон вёл себя во время встречи надменно и спросил с пафосом: «Скажите мне лучше, какой дорогой мне быстрее дойти до Москвы?». Балашов ответил: «Ваше Величество, в Москву, как и в Рим, ведут разные пути. Карл XXII шёл через Полтаву!».
Так и историк может прийти к правильному пониманию прошлого кратчайшим путём, опираясь на Православную точку зрения, а может идти предательским путём «через Полтаву». Всем известно, чем закончились авантюрные действия шведского короля, опиравшегося на Мазепу, сначала предавшего Русского Царя, а затем и своего шведского союзника.
Одним словом, нам нужно прислушаться тому, чему учил Святитель Иоанн Ладожский: не делить исследования прошлого на светскую историю и духовную летопись, а объединить всё под высшими идеалами Православия. Вот тогда труды, написанные с Православной точки зрения, и дадут нам истинную картину нашего с вами Великого прошлого.
Дорогие форумчане, обратите внимание на болезненную страсть Зверобойника к лицу Новодворской, с которой я не имею честь быть знакомым, подобно ему и не собираю, подобно ему её фото. Он уже ухитрился загнать фото на мою страничку в Google. Чтобы в этом убедиться, достаточно набрать в Гоогле мою фамилию.Картинки по запросу "Н.Ш." Это зачем? И какое отношение имеет к моим трудам? Это лишь характеристика самого Зверобойника.
Если я правильно понял, вы бросили забеременевшую от вас любовницу.
А виноваты в этом оказались либерасты и пятая колонна.
Оправдание себе ищете? Эх, старость - не радость.
И тем не менее, спасибо за оценку!!! Если вы поверили, что от "я" это о себе, значит что-то получилось. У меня был однажды такой случай. Подарил сборник о любви в приёмном отделении дома отдыха, а там рассказ от первого лица. Приезжаю в следующий раз, а у меня осторожно так спрашивают, а почему с сыном, который в Твери родился от отдыхающей, которой в познакомился в доме отдыха... Я сначала никак не мог понять в чём дело. Моего сына они знали, с детства отдыха здесь. И только потом понял в чём дело. А давным-давно в 80-е подарил маленькую брошюрку на процедурах в Пятигорском военном санатории. А через год молодая сотрудница стала расспрашивать, как, женился на той девушке, что здесь встретил? Или всё ещё холост? Поверила в рассказ.. Тоже приятно было, значит образ получился. Но сюда эти рассказы, конечно давать нельзя, вон некий зверобойник заявил, что инвалид шахмагонов на протезе изнасиловал всю русскую историю.. ну и далее, даже цитировать неприятно - что ж таково воспитание. А Вам ещё раз спасибо...
Шахмагонов/
вон некий зверобойник заявил, что инвалид шахмагонов на протезе изнасиловал всю русскую историю..
Лжец
Кто же будет спорить? Все согласны, что Зверобойник лжец и клеветник