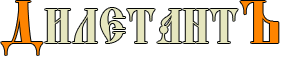любовь
И снова Татьяна
Мысли прервал осторожный стук в дверь. Теремрин вышел в холл, со словами:
– Открыто, заходите.
И тут же на пороге появилась Татьяна.
Мгновение он смотрел на неё, порывистую, стремительную, словно решившуюся на что-то важное в своей судьбе, а затем, слегка отстранив, повернул ключ в двери, подхватил Татьяну на руки и, прижав к себе, понёс в свою комнату. Их губы тут же нашли друг друга. Всё было без слов. Он положил её на кровать, присел на одно колено и стал снимать красивые блестящие сапожки. Она в ответ потянулась к нему и прижала к себе его голову.
– Что ты? Что ты хочешь? – прошептала она, хотя этот вопрос был совершенно излишним.
Да он и не стал отвечать, словно лишившись дара речи. Его тянула к ней неодолимая сила, копившаяся всё это время, пока они накануне пили чай, пока шли до проходной «Клязьмы», пока гуляли нынешним утром по живописным даже в промозглое время года аллеям пансионата. И вот эта сила, уже ничем не сдерживаемая, ничем не ограничиваемая, рвалась наружу, и не было, наверное, такой преграды, которую бы не преодолела она.
Теремрин приподнял Татьяну, чтобы спрятать под одеяло. В хорошо проветренном номере было прохладно.
– Я пришла поговорить, я хотела сказать, – шептала Татьяна, видимо, желая объяснить свой неожиданный, незапланированный визит. – Я сказала Даше, что разболелась голова и хочу пройтись, а её попросила последить за мальчишками, – продолжала пояснять она. – А потом попросила сводить их в буфет, куда и мы придём за ними.
Пока она всё это шептала, Теремрин освободил из плена её великолепные стройные ноги, снова приподнял, чтобы снять блузку, из которой рвались к нему навстречу два ещё находившихся в ажурном заточении холмика. И при этом ухитрялся вырывать на волю и своё разгорячённое неутолимой жаждой существо.
Он не ведал, что сейчас говорить, хотя, конечно, знал, что обычно говорится в подобных ситуациях. Но то, что происходило с ним сейчас, не укладывалось в обычные рамки. Сколько переживаний доставило ему то, что произошло с Татьяной летом в его номере, сколько размышлений обрушилось, когда она слишком уверенно сказала, что он, именно он сделает её МаТЕРью, что именно с ним она становится женщиной. И какой удар обрушился, когда, в результате раздумий, пришёл к выводу, что она его двоюродная сестра. И вдруг нежданно, в самый необыкновенный момент пришло освобождение от всех этих нравственных пут, от мыслей, доходивших до самоедства, к которому он, по характеру, никогда не был склонен.
Она была перед ним, прелестная в своей наготе, раскрывшаяся для чего-то такого, чего не выразить словом, ни пером описать – да, случаются в жизни такие моменты, описание которых, самое изящное, блекнет перед их всепобеждающей силой. Наступил тот сумасшедший миг, когда он словно упал в её объятья, когда рванулся вперёд в неистовстве своих чувств, столь накалённых, что, казалось, закипит кровь в жилах. Он растворился в ней, растворяя её в себе. Татьяна, слабо охнув, ещё крепче обвила его руками, стараясь быть ещё ближе, чем это возможно. Они превратились в единое целое, их сердца бились совсем рядом, их души ликовали в необыкновенной, сияющей гармонии. Татьяна ничего не говорила – у неё не было сил ни на слова, ни на объяснения. Он же наслаждался необыкновенными минутами близости с ней, уже не думая ни о чём, кроме этого волшебного существа, которое волновало, будоражило, словно унося в Поднебесье.
О, Боже мой! Разве возможно описать те неподражаемые ощущения, когда два великолепных, ещё совсем девичьих холмика вонзаются в твою распалённую грудь! Разве можно выразить словами соединение на всю глубину твоего сознания двух существ, когда все ощущения сосредотачиваются в одной распалённой точке твоего тела, проникающего в волшебный родник, в тот родник, в котором, при известных условиях, когда этого угодно Всевышнему, зарождается новая жизнь. Но ведь и в тех случаях, когда не совершается это зарождение, разве бесполезны эти невероятные всплески чувств и эмоций двух любящих сердец, двух любящих душ? Нет, не бесполезны, ибо излучают животворящую, светлую энергию, которая напитывает всё вокруг, очищает окружающий мир от скверны и вырывается в атмосферу.
Сколь же невероятно высоко над пропастью похоти поднимается это волшебное соединение двух существ. Сколь чище подобное волшебное соединение, чем то, что распространяет демократическая свора в кинофильмах известного рода! В кинофильмах, где уродливые обезьяны, размахивают уродливыми предметами, втыкая их в столь же обезображенные отверстия особей с искаженными до уродства лицами, а с экрана несутся несуразные звуки, словно там, за экраном, скрываются непроходимые джунгли с агрессивным, голодным, пожирающим всё прекрасное чудовищем. Наверное, гораздо большим грехом надо считать просмотр этого упражнения питекантропов, нежели совершать то, что свершается в возвышенном и восторженном состоянии, когда пылают сердца двух любящих половинок, когда эти две половинки словно соединяются в одну, когда поют их души.
На какое-то время Теремрин и Татьяна забыли обо всём – их существа настолько проросли друг в друга, что, казалось, нет силы, способной оторвать их друг от друга. Теремрин чувствовал её всю, до тех самых прелестных глубин, в которые, по удивительной особенности Земного Мира, стремятся мужчины. Но это стремление опошляется, осуждается теми, кто не способен понимать, что ощущения полной, невероятной, волшебной близости любимого с любимой невозможно купить ни за какие миллионы бумажек, условное обозначение которых «S» с двумя продольными шпалами, не что иное, как первая буква обозначения главы тёмных сил. Змеиной главы сил, которые пытаются сокрушить всё на Земле и в первую очередь опошлить, принизить, пустить в распродажу на пресловутый «рынок» высокое слово Любовь. Эти силы веками стремились извратить великое это чувство, но они не понимали и не понимают того, что есть – «Гармония», а потому и не могут извратить его, а следовательно не смогут никогда добраться и до волшебного Божественного, то есть дарованного человечеству Самим Создателем, ощущения и состоянии, именуемого «Гармонией Любви».
Ни Теремрин, ни Татьяна не знали в тот момент этого понятия в теории, но они ощутили его в жизни.
– Нам надо идти, – робко сказала она, даже не пытаясь освободиться из его объятий, и сама крепко обнимая и стараясь вжаться в него, раствориться в нём ещё более, чем уже растворилась. – Представление, наверное, завершилось, и дети ждут в буфете.
Короткая любовь
Глава из романа о любви
ГЛАВА ИЗ РОМАНА
Горячий визит
Несколько дней к Теремрину никто не приезжал, и он постепенно втянулся в работу, установив чёткий режим дня. До обеда проходил обследования и принимал лечебные процедуры, но после обеда его уже не беспокоили. Он совершал прогулку по живописному скверу, что перед зданием хирургического отделения, а затем садился за стол и до ужина не отрывался от рукописи.
В один из таких дней в дверь его палаты осторожно постучали.
– Заходите, открыто, – громко сказал Теремрин и встал из-за стола.
Вошла яркая молодая особа в очень короткой юбке. Она сняла модные светозащитные очки и зацепила их дужкой за отворот светлой блузки.
– Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! Вот я и добралась до вас, – сказала она изумлённому Теремрину, который не сразу догадался, кто это.
– Здравствуйте, очень рад. Чем могу служить? – молвил он, любуясь гостьей.
– Татьяна, – назвалась она и тут же прибавила, хотя в этом уже необходимости не было: – Ольгина сестра.
– Проходите, Танечка. Вдвойне рад, – пригласил он.
– Родители послали к вам с гостинцами, – пояснила Татьяна.
– Большое спасибо, хотя совершенно нет нужды беспокоиться.
Он усадил её в кресло возле стола, а сам присел на краешек кровати и предложил:
– Будем пить чай?
– Зачем нет, – сказала она. – Можно.
Теремрин включил электрический чайник, поставил на стол чашки и вернулся на своё место.
– Значит, в госпиталь угодили?! – заговорила Татьяна. – Это сигнал о том, что где-то нагрешили вы, Дмитрий Николаевич. Непременно подумайте над тем, что делали в последнее время. Святые старцы говорит, что болезни для нас, что гостинцы с неба: заставляют задуматься над бренностью сущего.
Было удивительно слышать это от молодой, к тому же удивительно яркой и современной женщины.
– О, я великий грешник, – молвил Теремрин. – И действительно нагрешил в минувший месяц, предшествующий госпитальному пленению.
– Более чем наслышана, – всё так же весело и задорно говорила Татьяна. – Сначала подруге моей голову вскружили, а теперь вот и сестра оказалась в ваших сетях.
– Остаётся вскружить вам.
– Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, и от вас, товарищ волк, непременно уйду, – отшутилась Татьяна.
– В этом я не сомневаюсь.
Разговор сразу принял весёлый, шутливый оборот. Да и каким он ещё мог быть? Ведь они, хоть и встретились впервые, но многое знали друг о друге.
– Теперь подруга, похоже, с Синеусовым, а сестра – с мужем, а я один как перст, – с демонстративной грустью проговорил Теремрин. – И вдруг, такой бесценный подарок судьбы, которая посылает мне вас…
– Всё напишу Ольге, – смеясь, сказала Татьяна. – Вот уж она вам задаст. Она ревнива, – и вдруг, уже серьёзнее, спросила: – А вы бы женились на Ирине, если б не тот случай, с явлением Синеусова?
– Я уже не знаю, как ответить на этот вопрос, – признался Теремрин. – Создал необыкновенный, волшебный образ, а он рассыпался.
– Могу себе представить, какой образ вы создали, но, справедливости ради, скажу, что вы не сильно ошибались. Ирина действительно цельная натура. Она настоящая.
– Столько свалилось проблем, – неопределённо сказал Теремрин, не зная как реагировать на слова Татьяны.
– Сегодня много проблем – завтра много горя, если проблемы не решить немедля, – философствуя, сказала она. – Женились бы на моей сестре. Забрали бы её у этого «нечто».
– Не будем о «нечто», – сразу прервал Теремрин, не любивший обсуждать за глаза никого, а уж тем более, мужа своей пассии, но не удержался от вопроса: – А вы полагаете, она бы пошла за меня?
– С радостью.
– А вы?
– А я причём здесь? Ну и спросили! – молвила Татьяна и голос выдал волнение. – Вы меня и не знаете вовсе, а спрашиваете. А вдруг соглашусь?
Он засмеялся, но уже серьёзно сказал:
– Порой знаешь долго, а пяти минут не хватает, чтоб решиться.
И он прочёл ей стихотворение, которое когда-то читал Ирине. И, уже закончив, повторил последние две строчки: «Отчего же в тот миг я её не сорвал с беспощадной подножки вагона».
– Это посвящено Ирине?
– Нет, вовсе не ей.
– Я тоже пишу стихи, – вдруг сказала Татьяна и тут же с некоторой опаской спросила: – Скажете, мол, все ноне пишут?
– Так не скажу. Надо почитать, прежде чем вынести приговор: станет ли поэтом автор тех или иных четверостиший.
– А судьи кто?
– Во-первых, существуют определённые законы поэзии, придуманные не нами, во-вторых, чем взыскательнее судья, тем он честнее. Главное, чтоб суд вершился искренне, без задних мыслей. Нынешние стихоплёты пытаются оправдать свою бездарность тем, что ныне, де, писать в стиле девятнадцатого века ямбами, да хореями, не модно. Мол, всё это безнадёжно устарело. А на самом деле просто не могут писать так, а изображают что-то беспомощное, без рифм и ритма.
– Вы суровы. А я хотела дать вам свои стихи на суд.
– Обязательно дайте, – убеждённо заявил Теремрин. – Порою бывает, что и двух строчек довольно, чтобы дать человеку надежду, даже уверенность в том, что из него выйдет толк. Вы знаете, какой случай у меня самого был?! Ещё курсантом я дал почитать свои стихи – целый блокнот – одному поэту. Он всё просмотрел, всё забраковал, но сказал, что поэтом буду. Я удивился, а он усмехнулся и подтвердил сказанное, обратив моё внимание на всего две строчки из одного моего стихотворения: «Я вырываю из блокнота свои разбитые мечты».
– Интересно… Ну что ж, когда к вам в воскресенье приеду, привезу, если можно, – сказала Татьяна.
– До воскресенья меня уже выпишут. Но, думаю, мы найдём возможность увидеться.
– Тем более вы ещё не побывали у нас в гостях, а ведь приглашение никто не отменял, – напомнила она и тут же прибавила: – Ну, мне, наверное, пора, – но после этих слов они проговорили ещё достаточно долго.
Когда же снова напомнила, что ей пора уходить, Теремрин не сомневался, что расставаться ей совершенно не хочется, а потому попросил рассказать, где она работает. Он сам не знал, для чего задерживает её, но придумывал всё новые и новые темы для разговора.
– Я окончила Историко-архивный институт вместе с вашей Ириной.
– С синеусовской, – поправил Теремрин. – Кстати, как ей удалось поступить в столь престижный, я бы даже сказал, блатной вуз?
– Она же круглая отличница. Можно сказать, ходячая энциклопедия. А почему вы не спросили, как поступила я? Полагаете, что отец устроил? А ведь он тогда не в ЦэКа, а в войсках служил. Я тоже сама поступила. Ну а теперь преподаю в военной академии историю. Правда, не офицерам преподаю, а курсантам, которые у нас тоже слушателями называются.
Наконец, она решила, что пора прощаться. Бросив взгляд на кровать, задиристо сказала:
– И как вы только умещались с Ольгой?
– Очень просто. Могу продемонстрировать.
– В другой раз, – отшутилась она, видимо, учитывая, что другого раза уже не будет по причине его выписки.
Он пошёл провожать её к проходной.
– Справедливости ради хочу заметить, что Ирина не виновата в разрыве с вами, – неожиданно сказала Татьяна. – С Синеусовым у неё действительно что-то было до вас, но совершенно не то, что с вами. Она боялась, что ваши пути пересекутся, вот и сбежала. Вспомните свой рассказ «За неделю до счастья». А она ведь хорошая читательница!
– Ну и что дальше? – недоверчиво спросил Теремрин.
– Она, встретив Синеусова на пляже, вернулась в номер и хотела дождаться вас, но кто-то стал барабанить в дверь. Она решила, что он вычислил номер и теперь не отстанет. Каково же было её удивление, когда встретила Синеусова в вестибюле и выяснила, что не знает, в каком она номере.
– Кто стучал в дверь, я знаю. Мне один приятель газеты хотел передать, вот и разыскивал, – сказал Теремрин. – Но зачем она уехала? Могла бы мне всё честно рассказать.
– Это её решение, – молвила Татьяна. – Может, вам стоит помириться? – спросила она. – Я ей позвоню?
– Нет, этого делать не нужно, – возразил Теремрин, но уже без особой уверенности. – Есть и ещё одно обстоятельство. Мы, кстати, с Ольгой обсуждали эту тему, и пришли к единому выводу: связывать супружескими узами жизнь с человеком не своего круга – только несчастливые семьи плодить. Я уже сделал несчастной одну женщину.
– Жену?
– Да, жену. Но не будем об этом. Ведь чтобы изменить создавшееся положение, надо развестись, а как же быть с детьми?
– Бывает, что и без развода дети брошены. Вот как Павлик. В результате я им занимаюсь, – сказала Татьяна.
– Не надо осуждать, – заметил Теремрин.
– Я не осуждаю, но иногда бывает обидно, – Татьяна не договорила и не пояснила свою мысль, но Теремрин догадался, о чём она подумала или, во всяком случае, могла подумать.
– Всё будет хорошо, – мягко сказал он и повторил: – У вас всё будет хорошо, милая Танечка.
Он сказал это настолько проникновенно, с таким участием, что Татьяна спросила:
– Вам, очевидно, Ольга рассказала обо мне… Рассказала, что со мной случилось? – она сделала паузу и, не услышав ни подтверждений, ни возражений, прибавила: – Если рассказала, то вы не можете не понять, что не будет, ничего хорошего уже не будет.
– Ну вот, старушка старая нашлась. От тебя глаз не отвести. Я на тебя обратил внимание ещё тогда, когда приходила на мои вечера, – придумал он, чтобы сделать её приятное.
– Правда? – спросила она.
– Конечно, правда, – подтвердил Теремрин.
В эту минуту он готов был разорвать на части Стрихрнина, сломавшего жизнь этой милой девушке. Он очень осторожно и ненавязчиво обнял её. Она доверчиво прижалась к нему, еле слышно всхлипнув.
– А глазки у нас на мокром месте, – сказал Теремрин и, повернув её к себе, нежно коснулся губами этих самых повлажневших глазок.
Она не отстранилась, напротив, ещё крепче прижалась к нему и разрыдалась. Теремрин отвёл её на боковую дорожку скверика, усадил на скамейку, сев рядом в полном замешательстве. Татьяна разрыдалась у него на плече, и он понял причину: видимо ей долго пришлось носить в себе своё горе. Она не могла доверить его родителям, поскольку время для наказания Стрихнина было упущено, а травмировать просто так, не имело смысла. Случившееся стало для неё катастрофой. Она прятала своё горе за внешней беспечностью, весёлостью, она никого не пускала в свой внутренний мир, и вот вдруг, возможно, совершенно неожиданно для себя, пустила в него Теремрина. А он сидел с нею рядом, осознавая, что отправить её одну в таком состоянии нельзя, но и оставить у себя невозможно.
Так просидели они довольно долго. Близился отбой, после которого ходить по территории госпиталя не полагалось. И Теремрин решился:
– Знаешь что, – сказал он. – Пойдём ко мне в палату. Тебе надо успокоиться. Куда ты в таком виде поедешь?
Она повиновалась безропотно, и Теремрин загадал: если дежурная медсестра их не заметит, то он постарается оставить Татьяну у себя. Ну а если уж проскользнуть тайно не удастся, тогда придётся принимать какое-то иное решение.
Не встретив никого в коридоре, они вошли в палату, и Теремрин запер дверь на ключ.
– Не надо зажигать свет, – попросила Татьяна. – Я, небось, чумазая от туши.
Теремрин понял, что именно по этой причине она и согласилась вернуться в номер. Татьяна села в кресло. Теремрин опустился на широкий подлокотник, притянув её к себе. Она всё ещё всхлипывала, и он снова стал целовать её солёные от слёз глазки, щечки, руки, нашёптывая ласковые слова. В нём проснулась нежность, проснулась, быть может, потому, что его душа ощутила широкую, добрую душу Татьяны. Ему было жаль её сломанной жизни, и очень хотелось утешить, чем-то помочь. Но чем он мог помочь? Разве только участием. Женщина рождена, прежде всего, для того, чтобы стать матерью, и если эта возможность отнимается у неё, что же тогда остаётся?
Татьяна и по рассказам Ольги, и по первому впечатлению от встречи с ней производила впечатление бесшабашной, весёлой, неунывающей. Теремрин понял, что всё это своеобразная защита.
Как ей теперь жить? Как строить семью? Допустим, в век растущей безбожности и лицемерия не принято обращать внимание на утрату девственности. В средствах массовой информации это не только не порицается, но, напротив, поощряется. Обществу навязывается новая, пошлая и развратная идеология. Идеологами демократии подвергаются осмеянию чистота, нравственность, благочестие. Но как быть, если не только утрачена чистота, но и возможность иметь детей? Кто согласится в таком случае связать свою жизнь с подобной женщиной? Разве что по расчёту. Или, может быть, найдётся кто-то такой, кому уже всё это неважно: семья была, дети выросли, да и возраст далеко не юный. И не полтора десятка лет разница, которая с годами совершенно исчезает, а гораздо большая.
– Я немножечко успокоилась, – сказала Татьяна. – Можно приведу себя в порядок?
Когда вернулась в комнату, Теремрин сказал, что ей придётся остаться, потому что проходная уже закрыта.
– Ляжешь на кровать, а я устроюсь в кресле, – сказал он, предупреждая вопросы и возражения. – Я ж не омерзительный насильник, как некоторые и даже прикоснуться не посмею к столь чудному цветку.
После этих его слов она снова разрыдалась, вспомнив, очевидно, то, что случилось с нею.
– Почему я не встретила вас раньше?
– Потому что ты была ещё совсем крохой, когда я входил во взрослую жизнь, да и сейчас ты ещё почти ребёнок, хоть и задиристый, но очень милый ребёнок.
Женщины любого возраста любят, когда намеренно убавляют их годы, когда называют крохами, девчушками, разбойницами, забияками, разумеется, в добром, иносказательном смысле этих слов. Не была исключением и Татьяна.
– И всё же в кресле подремлю я, – решительно сказала она, дав понять, что остаётся. – Как можно больного согнать с госпитальной койки?
– Какой же я больной? – возразил Теремрин.
Он поднял её на руки и положил на высокую госпитальную койку, даже не скрипнувшую под её невесомым телом. Положил и тут же, расстегнув пуговки, стал аккуратно стаскивать юбочку, пояснив:
– Нужно снять, чтобы не помялась.
Татьяна тихо рассмеялась, заметив:
– Не так. Нужно через голову, – и тут же прошептала: – Вы меня будете раздевать, как ребёнка?
– Ты и есть ребёнок, милый мой, крошечный ребёнок. И кофточку надо не помять, – прибавил он. – У меня ведь утюга нет.
Даже в полумраке палаты он различил, что под кофточкой у неё ничего не было. Два изящных холмика белели перед его глазами, но он несмел прикоснуться к ним и молча любовался её стройной фигурой, особенно манящей в полумраке. Из одежды на ней осталась лишь белоснежная ажурная полоска, плотно облегающая особенно притягательную часть тела.
Татьяна не прерывала этого его восторженного созерцания, а он шептал:
– Как же ты поразительно прекрасна, какая у тебя роскошная фигура.
Она молчала, затаив дыхание, и тогда он снова нагнулся и коснулся губами её глаз, её щечек, словно желая не отступать от уже занятого рубежа. А грудь её манила и звала, и он коснулся губами прелестного холмика, сражённый волшебством этого прикосновения.
Татьяна дотронулась до его шевелюры, стала перебирать пряди его волос, ибо коротко он никогда не стригся, и перебирать было что. Её дыхание участилось, и она стала нашёптывать ему в ухо:
– Ну разве так обращаются с крохами? Что же это вы, милый Дмитрий Николаевич? Ну, так же нельзя, – и тихий, добрый, радостный смех сопровождал этот шёпот. – Я же могу не выдержать, это же невозможно выдержать… Дмитрий Николаевич!
Её голос звенел в его ушах как волшебный колокольчик. А Теремрин продолжал целовать её, не сдавая и этой, завоёванной позиции, но и не продвигаясь дальше. Ни о каком, даже самом незначительном проявлении настойчивости он и не помышлял, во-первых, потому, что это было не в его правилах, а, во-вторых, потому, что Татьяна однажды уже хлебнула с лихвой грубой силы. Она была спокойна, и он предполагал, что причина её спокойствия в том, что он был ещё одет. Для того, чтобы раздеться, ему необходимо было оторваться от неё, а это давало ей возможность поступить так, как она захочет. Темнота позволяла ей не стесняться наготы, которой, впрочем, можно было гордиться.
Внезапно, повинуясь страстному желанию, он дерзко провёл губами от груди к животику и дальше, до самой ажурной преграды, скрывающей то, что всё ещё оставалось недосягаемым для него. Она вздрогнула от этих прикосновений, а он, чтобы не дать её сказать ни слова, оторвался от притягательного места и коснулся губами её губ, чтобы задохнуться в долгом головокружительном поцелуе.
Если Ольга загоралась от малейшего прикосновения, что выдавало в ней не столько темперамент, сколько уже определённую опытность, то Татьяна вела себя робко, слабо отвечая на ласки. Он ведь почти совсем не знал её, не ведал о том, что было с ней после того рокового случая со Стрихниным: были после этого мужчины, нет ли? Уравновешенное состояние и её самой, и всего её тела, спокойно реагирующего на самые нежные ласки, говорило о том, что в ней, физиологически ставшей женщиной, женщину никто не пробудил. Более того, испытав однажды грубое насилие, она, как это часто бывает с женщинами, возможно, побаивалась повторения того, что оставило неизгладимый след. Она долго не могла оправиться от удара, и с сопряженными с этим физическим и нравственным ударом, болью, стыдом, даже угрызениями совести. Это ведь только демократические СМИ утверждают, что для женщины переспать, всё одно, что покурить или выпить чашечку кофе, а на самом деле для женщины здесь всё не столь просто, как для мужчины. Ведь женщина, если это женщина с большой буквы, а не либерально-демократическая особь с искривлённым сознанием, не может не видеть в мужчине, с которым идёт на близость, возможного отца своих детей. Беда Татьяны была и в том, что она, воспитанная правильно, благочестиво, не по своей вине, а по своей беспечности и доверчивости, теперь уже не могла видеть в мужчине отца своих детей, как бы страстно ни желала этого. Видеть же в мужчине лишь предмет удовлетворения своей страсти, она не только не могла по своему воспитанию, но даже и не умела. Пойти на близость для неё не было делом невозможным, поскольку всё, что могло свершиться, уже свершилось и большего случиться не могло. Но она не понимала радости в этой близости, а потому после того ужасного случая просто избегала общения с мужчинами, если замечала у тех, с кем общалась, определённого рода желания.
К тому, что делал в эти минуты Теремрин, она отнеслась спокойно, как к безобидной юношеской игре, а к его ласкам – как к почти безобидным ласкам.
Врачи ей сказали, что детей не будет, но этот приговор, этот диагноз она не проверяла, потому что не было у неё такого человека, с которым хотелось бы это проверить. Да и не было оснований не верить врачам.
До случая со Стрихниным она встречалась с одним сокурсником, можно даже сказать, женихом. После того рокового удара она нашла в себе силы сказать ему, только ему одному всю правду: подверглась насилию, вынуждена была прекратить беременность, чтоб не родить ребёнка от подлеца, а теперь – бездетна.
Жених изменился в лице, долго молчал, а потом вдруг сказал, каким-то незнакомым её тоном: «А ты уверена?». «В чём?». «В том, что детей не будет?». «Не знаю». «Так давай попробуем», – предложил он и довольно грубо коснулся того, чего касаться она ему не позволяла. Татьяна ударила его по руке и спросила: «А если детей не получиться?». Он только пожал плечами. Стало ясно, что дети здесь не при чём. Он просто хотел воспользоваться ситуацией. Это была их последняя встреча.
И вот теперь она оказалась в полной власти человека, который нравился ей давно и который не мог не вызывать уважения. И Ольга, и Татьяна были ещё воспитаны без демократизированных вывертов и новшеств – они считали мужчинами в полном смысле слова людей мужества и отваги, а не ново «русских» особей. Сбежавший жених не оставил сожалений, ведь, как ей стало впоследствии известно, он даже от службы в армии сумел уклониться, а это для Татьяны являлось определённым показателем.
Ей нравились ласки Теремрина, но она начинала понимать, что бесконечно так продолжаться не может, и боялась того момента, когда он сделает очередной шаг.
– Ласточка моя, солнышко моё, – вдруг прошептал Теремрин. – Ты позволишь мне лечь рядом? Устал стоять скорчившись.
Этого варианта она не ожидала, и подвинулась к стенке, освобождая ему место. Тогда он мгновенно разделся до равнозначного с нею положения, и лёг на краю кровати. Она ощутила прикосновение его сильного тела, но не грубого и злого, а очень приятного ласкающего каждой клеточкой. Отстраниться некуда, она и так оказалась у самой стенки. Он обнял её, повернув к себе и её острые, совсем ещё девичьи грудки уперлись в его широкую грудь. Она даже не представляла себе прежде, что это может быть столь приятно. Его руки сомкнулись у неё на спине и сдавили её до хруста косточек.
Теремрину казалось, что он давно не испытывал ничего подобного. Разве что с Ириной! Но те ощущения перечёркнуты её бегством, а потому к воспоминаниям о них примешивалась горечь разочарования. Татьяна вся напряглась, словно чего-то ждала и боялась этого ожидаемого. Теремрин понимал, что она не изжила ещё страх перед тем, что может случиться сейчас, сию же минуту. Ведь всё, что было со Стрихниным, не могло не оставить ощущения боли, отвращения и ужаса. Он старался сделать так, чтобы в том месте, где она ощутила боль при общении с этим негодяем, теперь возникло иное ощущение. И его старания достигали цели, ибо Татьяна ощущала хоть и жёсткое, но очень приятное прикосновение чего-то неведомого, будоражащего. Она ощутила, как рука Теремрина скользнула к талии, потом чуть ниже и двинулась дальше, освобождая её от преграды, которая мешала продолжению его действий. Непередаваемое ощущение проникло дальше, дразня и будоража её всю, оно нарастало, и вот уже оно подавило страх, призывая к ответным действиям. Татьяна крепко обняла его и стала целовать в губы, в лоб в щеки, распаляя и его и себя этими поцелуями.
Теремрин был особенно нежен, был так осторожен, как, наверное, никогда. И его нежность достигла цели. Когда он, долго изнуряя себя, всё же достиг желаемого, когда они, сплетясь в объятиях, замерли измождённые, Татьяна прошептала:
– Милый, после того страшного для меня случая, это у меня впервые… И так хорошо, так волшебно. Ты вернул меня к жизни. Хотя вернуть меня к полноценной жизни не под силу даже тебе,
Они как-то естественно и спокойно перешли на «ты», и он сказал ей:
– Всё от Бога. Ты же сама говорила, что не проверяла, правы или не правы врачи.
– Скоро узнаю.
– То есть?
– У меня сегодня самый, как говорят, опасный период. Так говорят, – уточнила она, – те, у кого всё в норме. У меня же опасных периодов нет.
Теремрин промолчал, а она вдруг повернулась и легла к нему на грудь, задорно заявив:
– Если что, я на живодёрню больше не пойду. А вдруг! Я буду так рада. Все женщины этого боятся, когда вот так, с посторонними мужчинами. А я не боюсь…
После слёз и огорчений Татьяну вдруг охватил необыкновенный подъём. Она стала поддразнивать Теремрина, ожидая, что напугает его своими дерзкими заявлениями и рассуждениями о том, что он, возможно, сделал её матерью.
Теремрин понял её состояние и очень спокойно и твёрдо сказал:
– Что будет, то будет. А я тебя и не пущу на живодёрню.
Он сказал, чтобы сделать ей приятное, будучи уверен в том, что её мечты и надежды совершенно напрасны. Чудес, как он полагал, в этом вопросе не бывает.
Наутро Теремрин проснулся с таким ощущением, будто радость пробудилась в нём раньше него самого и захватила всё его существо. Татьяна ещё спала, по-детски счастливым сном, и голова её мирно покоилась на его плече. Они лежали, тесно прижавшись, и в эту первую их ночь, им, наверное, хватило бы ещё более узкой койки, чем та, весьма внушительная, госпитальная, которая была в их распоряжении. Он не помнил, когда они заснули, и кто заснул раньше. Скорее всего, отдав друг-другу все силы, которые могли отдать, ни он, ни она не заметили этой детали. Он долго лежал, не шевелясь, чтобы не разубедить её. Одеяло чуть съехало, или она специально его скинула, потому что было жарко, и его взгляду открывались её восхитительные ноги, которые он, в порыве нежности, целовал ночью в минуты отдыха от поцелуев и ласк, ещё более горячих. Пряди её волос рассыпались по подушке, позолотив её, покрыли воздушным, ароматным покрывалом его грудь, плечо. Выкормыши из рекламных программ демократии ельцинизма назвали бы эти волосы сексуальными, но Теремрин просто восторгался ими, настоящими, светло-русыми, и мог убедиться, что цвет их натурален, а не сдобрен всякой мерзостью, именуемой модными красителями с отвратительными и зачастую неприличными названиями. Тем более, он даже со своим опытом вряд ли бы мог сказать, чем отличаются волосы сексуальные от несексуальных. А вот чем отличается любовь истинная от влюблённости, уже начинал понимать. Не устаю повторять, что под любовью в романе подразумеваю Любовь, а не то, что этим словом, пытаясь опоганить его, называли выкормыши ельцинизма и называют до сей поры живучие их последователи.
Теремрин с любовью смотрел на её глазки, которые ещё были закрыты, на слегка приоткрытый прелестный ротик, он ощущал едва заметное, в такт лёгкого дыхания, движение девичьих грудок, касающихся его груди. Он уже наполнялся неистребимым желанием повторить немедля всё, что было ночью, он ещё не думал ни о чём, что ожидало впереди, но если бы задумался, наверное, не смог бы назвать всколыхнувшиеся в нём чувства любовью. Эго озарила влюблённость, возникшая внезапно, под воздействием чего-то невероятного, оказавшегося в какой-то момент выше его сил. Этому способствовало сопереживание горю прелестной девушки. К этому звали её искренность и доверчивость, её откровенность и в тоже время её несомненные чувства к нему. Она едва скрывала их. Всё это привело к невероятной вспышке, последствия которой не прошли до утра, будоража его волшебными, неповторимыми воспоминаниями.
Было уже не очень рано, но в воскресный день вряд ли кто-то мог побеспокоить, тем более, все таблетки, препараты, анализы закончились по причине скорой выписки. В таком положении, в котором оказались они с Татьяной, Теремрин мог бы пролежать целую вечность, если бы смог сдержать горячие желания. Он не только созерцал, но и ощущал её ноги, которые сплелись с его ногами. А Татьяна всё спала счастливым, безмятежным сном, и он несмел прервать это её чудесное состояние. И тогда он вдруг попытался воскресить и закрепить в памяти до мельчайших подробностей всё, что произошло этой невероятной, волшебной ночью. Он хотел запомнить всё, что бы когда-то, может быть скоро, а, может быть в будущем, воспроизвести в рассказе, повести или даже романе эту жаркую ночь, причём, воспроизвести так, чтобы те, кому доведётся прочесть искромётные строки, правильно восприняли написанное и смогли разделить с ним его восторг.
Наконец, Татьяна приоткрыла глаза и несколько мгновений лежала, не шевелясь, соображая, что с нею и где она. Это походило на медленное возвращение в реальность бытия.
– Боже! Неужели всё это не сон?! – прошептала она, ещё теснее прижимаясь к нему. – Как я мечтала о том, что просто познакомлюсь с вами, просто заговорю, а о подобном не только помышлять не смела – подобное было за пределами мыслей моих. Боже! Я не могу передать того, что испытала – у меня нет слов. Ещё вчера я шарахалась от мужчин, я боялась любого прикосновения… Всё это после того…
– Не надо о плохом. Постарайся забыть… И почему вдруг снова на «вы»?
– Ещё не проснулась, – пояснила она. – Я хочу сказать, что плохо осознаю, что со мной творится, и что я говорю. Не знаю, что нужно говорить?
Теремрин улыбнулся, но тут же и посерьёзнел. Ему радостно было слушать то, что она говорила. Но в то же время нарастало некоторое беспокойство, потому что мера ответственности за содеянное, и за то, что он продолжал делать, пока ещё робко, но постучалась в его сознание. Он прогнал неприятные мыли и закрыл прелестный ротик Татьяны горячим поцелуем, проложившим путь к новым ласкам, столь же бурным и горячим, которым уже не мешал дневной свет. Напротив, им хотелось не только чувствовать – им хотелось видеть друг друга.
Они не наблюдали часов, а потому вряд ли могли потом сказать, сколько длилось это дневное продолжение того, что было ночью. А в плотно зашторенное окно палаты всё настойчивее пробивались солнечные лучи. Вот один из них дерзко осветил её глаза, и она, зажмурившись, тихо и радостно, как-то очень по-детски засмеялась. Собственно, до взрослости ей было ещё далеко, несмотря даже на перенесённое испытание. Она ничего не умела, ничего не знала, и Теремрина это приводило в ещё больший восторг. У неё ещё не пропало чувство стыдливости, и она попросила его отвернуться, чтобы пойти принять душ. Пора было собираться домой.
Он нехотя выпустил её из своих объятий, успев поцеловать всё, до чего дотянулся губами, пока она перекатывалась через него к краю кровати. Она ушла, и он с восторженным трепетом окунулся в подушку, которая хранила ещё её необыкновенный девичий аромат.
Увидев его, уткнувшегося в подушку, она испуганно спросила, что с ним, и когда он резко повернулся к ней, на какие-то мгновения забыла, что стоит перед ним во всём великолепии обнажённого тела. Он притянул её к себе, обнял, и она с величавым достоинством приняла ласки, позволив ему коснуться губами сначала одной, а потом второй грудки. Тело было прохладным и свежим после душа, капельки воды кое-где остались, не убранные полотенцем, и сверкали на тронутом загаром животике в свете всё того же дерзкого солнечного лучика, ещё недавно заставившего её радостно зажмуриться. Капельки сбегали вниз, и он провожал их горячим взглядом, ощущая желание следовать за ними всем своим существом.
– Ты неутомим, – очень ласково и мягко сказала она.
– А ты?
– Мне неловко, – тихо молвила она, покраснев. – Но, наверное, тоже.
И снова они слились в клубок страсти и взаимного восторга. Причём страсть их не была страстью животной, той, что обычно рекламируют определённые фильмы, снятые полоумными режиссёрами – их страсть была нежной и трепетной, ибо он старался не обидеть её ни малейшим неласковым или резким движением, и, как опытный дирижёр, деликатно, но настойчиво добивался синхронности в каждом действии, в каждом движении.
Но наслаждения не могли продолжаться бесконечно. Близилось время обеда. В палату вполне могли заглянуть, чтобы узнать, не случилось ли что с больным. Завтрак по выходным пропускали многие, но на обеде бывали практически все.
Теремрин и Татьяна медленно направились к проходной и, не сговариваясь, остановились у той скамеечки, где он утешал её накануне.
– Здесь я решилась, – сказала Татьяна, положив руку на спинку скамейки.
– На что решилась? – переспросил Теремрин.
– Решилась остаться, потому что в том состоянии я не думала ни о чём, кроме одного – хотя бы ещё чуть-чуть побыть с тобою рядом.
Она казалась уже совсем другой, нежели накануне, да, наверное, она уже, если и не стала, то становилась другой, осознавая себя женщиной, а не смертельно обиженной девушкой, коей была после того, что сделал с ней Стрихнин.
Нежность и любовь присутствовали и во взгляде её и в каждом движении, в каждом прикосновении к Теремрину, и, порою, ему становилось мучительно больно оттого, что не может ответить на её чувства в полной мере, ответить так, как должен был ответить обаятельной, милой и желанной женщине. Он начинал понимать, что именно минувшей ночью Татьяна по существу и стала женщиной, несмотря на то, что случилось с нею ранее. Его приводили в восторг внешние данные Татьяны: красота, молодость, обаяние. Но он увидел в ней, в её душе добрые и светлые начала. Они обнажились после того, как разрушилась искусственная личина, которую она пыталась напустить на себя. И действительно, этим утром, ещё до её пробуждения от сна, в ней проснулась удивительная женщина, которая только и может проснуться при прикосновении настоящего мужчины, а не обуянной гордыней слабоумной особи в штанах, утратившей, а, может, и вовсе никогда не имевшей железного стержня ратника, воина, витязя в душе и в характере.
Теремрин сдал экзамены на право называться мужчиной-витязем, а не мужчинкой. Он сдавал эти экзамены в суворовском военном и высшем общевойсковом командном училищах (а уже без этого, то есть без армейской службы, трудно причислить особь, нацепившую штаны, к мужскому, мужественному роду). Он сдавал экзамены, командуя взводом, ротой, батальоном в войсках и в горячей точке, рискуя собою во имя выполнения боевой задачи и ради спасения подчинённых, он продолжал сдавать эти экзамены и теперь, следуя в службе твёрдой Державной дорогой. И никому неведомо было, какие ещё суровые испытания ждут его впереди на этой Державной дороге. Успех же его у женщин объяснялся не только внешним обаянием, но и внутренним содержанием, да ещё тем, что женщины при нём всегда ощущали себя женщинами, а не партнёршами для удовлетворения страстей. И Татьяна своей тонкой душою ощутила то, что, быть может, ещё не смогла объяснить словами.
Когда она скрылась за вертушкой контрольно-пропускного пункта, Теремрин не мог не подумать, что даже у него, видавшего виды, не часто бывали подобные встречи. Каждая женщина неповторима, неповторима и каждая встреча. Но бывают встречи особые, производящие в душе какие-то незримые изменения, заставляющие смотреть на многие, казалось бы, привычные вещи уже иначе, нежели смотрел прежде.
Вспоминая Татьяну вчерашнюю, он подумал, что вчерашняя Татьяна не преминула бы сказать ему на прощанье, что, мол, ещё и выписаться не успел, а ещё на один госпиталь нагрешил. Сегодняшняя Татьяна не ерничала. Она говорила только ласковые слова. А ведь накануне, в первые минуты встречи, он и представить себе не мог, что она на такие слова способна. Он подумал, что мало, очень мало ещё знает, на что способна женщина, освещённая искренней и чистой любовью. Порою, чистота отношений не зависит даже от штампа в паспорте, порою, обстоятельства складываются так, что возникают чистые отношения и вспыхивают светлые и неподлежащие осуждению чувства между людьми, на подобное не имеющими права.
Впрочем, он не умел ещё строго судить свои поступки. В конце концов, он не оставлял Татьяну силой и не забивал голову обещаниями. Он ни на чём не настаивал и ничего не добивался запрещёнными приёмами. Всё, что случилось, случилось естественно, а результат превзошёл все ожидания, причём превзошёл не только ночью, но и утром, когда она вдруг ожила душою, и ей более уже не нужна была напускная маска. Она стала самою собой и стала краше, привлекательнее, милее.
Если накануне она своими напускными вольностями, колкостями и остротами скрывала неуверенность и страх перед будущим, тот страх, который появился после страшного для неё приговора, лишающего её возможности исполнить главное предназначение женщины, то теперь за томной мягкостью, кротостью и успокоенностью можно было прочесть в глазах счастье осознания себя любящей и любимой. Ей казалось, что теперь её ждёт впереди только самое светлое и доброе. Она впервые в жизни осознала, как ей хочется подняться на важнейшую в жизни ступеньку, которая позволяет женщине назваться маТЕРью. Ещё несколько дней назад она с горечью вникала в написанное писателем и видным исследователем старины Олегом Гусевым к книге «Магия Русского Имени», что «женщина, родившая ребёнка, становится маТЕРью, то есть лингвистически «помечается», переходя на гораздо более значимую в социуме величину». Писатель указал на мистическую важность сочетания буквы «Т» (к которой необходимо ещё добавить упразднённый врагами Русского народа и Русского языка в годы революции твёрдый знак «Ъ» с полугласно «ЕР». Это сочетание давало основу многим знаковым словам, в том числе и «ТЕРемРА (ТЪЕРемРА), то есть Терем Бога Ра – Дом Солнечности. По его утверждению всё это «есть безусловная, как бы вне всякого сомнения, твердь, к тому же защищённая Касмическими… силами Самыми Высшими». В Тереме Бога Ра высоко почитаемо имя МаТЕРи. И есть мистическая связь имени «Божья Матерь» с именем «Мать Человеческая». Ей было тяжело сознавать, что она никогда не приблизится к этому высоко званию. Теперь она ощутила в себе необыкновенную силу, наполнилась уверенностью, что любовь преодолеет всё. Да, ей безумно хотелось стать МаТЕРью, но с одним непременным условием, чтобы отцом ребёнка был именно Теремрин. По дороге домой она думала об этом неотступно и, наконец, решила, что на всё воля Божья!
А в день выписки Теремрина из госпиталя Татьяна, прежде чем звонить ему, отправилась в храм, причём в храм, совершенно определённый – в тот, в котором происходило чудодейственное исцеление тех, кто страдал бесплодием. Она понимала, что бесплодие бесплодию рознь, что у неё не врождённый недуг, а приобретённый и приобретённый в силу её легкомысленности, ибо её игривое поведение в какой-то мере спровоцировало преступные действия Стрихнина.
Ей хотелось поговорить со священником, покаяться в своих грехах, ибо она не была чужда религии и понимала, что такое блуд. Она не знала, имеет ли право просить Всевышнего и Пресвятую Богородицу даровать ей ребёнка от внебрачной связи, но просила, полагая, что есть у неё и смягчающие обстоятельства: ей казалось, что брачных связей она уже не может иметь – слишком горький опыт она получила при разрыве с женихом.
На покаяние не решилась, но всё же подошла к батюшке за советом и он, видимо, поняв её состояние и оценив, насколько она нуждается в добром слове, удостоил доверительной беседы. Она пояснила, зачем пришла в храм, поведала о своём горе и о той радости, которую испытала минувшей ночью. Она пояснила, что всё понимает, что пришла не только просить о чуде, но и о прощении того человека, который вернул её к жизни, и батюшка был потрясён искренностью и чистотой её помыслов, хотя и должен был назвать их греховными. Только доброму пастырю, способному понять движение человеческой души и не замыкаться на одних лишь нравоучениях, согласных строгим канонам, можно было открыть свою душу. И к счастью такой батюшка встретился на её пути.
– Молись, дочь моя, – говорил он. – Есть высший Судия и Высший Врачеватель. И если он примет твоё покаяние, твои молитвы, он простит страшный грех детоубийства, а простив, дарует чадо, дарует во испытание, ибо надо ещё доказать право называться великим словом Мать.
– Батюшка, я понимаю, что грешна, но я полюбила его и сердце моё замирает от мыслей о нём.
– Я обязан тебе сказать, что мысли твои греховны, но я не могу назвать грехом само по себе высшее чувство, которое мы называем Любовью, ибо Господь создал нас для Любви, – говорил священник, видимо, понимая, что любое резкое и грубое слово лишь оттолкнёт эту юную прихожанку от церкви. А это ещё страшнее. Священник понимал, что нужно поддержать её в сей благословенный момент, когда она решилась сделать первый шаг к Богу, первый шаг к Истине.
– Я хочу видеть его снова и снова, – призналась Татьяна. – Но я осознаю, что тем самым буду совершать великий грех.
– Не могу запретить тебе этого, ибо церковь не запрещает, а призывает своих чад к деяниям, побеждающим грех. Ты должна осознать, что твои молитвы могут достичь цели, если ты сумеешь побороть грех и докажешь, что достойна прощения.
– Я буду стараться, – неуверенно сказала Татьяна, для которой сама мысль, что ей нельзя видеть Теремрина, обнимать его, целовать его и растворяться в нём, казалась убийственной.
– Хорошо, что ты говоришь искренне.
– Да, я действительно в сомнениях. Ведь только вчера я узнала, что значит любить человека достойного, а, может, даже быть любимой. Мне трудно отказаться от возможности видеть его.
– Искренность твоя достойна похвалы, – сказал батюшка. – Никто тебя не торопит, никто не принуждает немедля уйти в затвор и лишить себя всех земных радостей, особенно в наше жестокое время, когда благочестие подвергается осмеянию. Но тем более высок подвиг воздержания, тем большую награду за него ты можешь обрести. И помни, что невозможное человеку, возможно Богу!
Татьяна вышла из церкви окрылённой, она вышла с надеждой и верой и подумала, что, если Бог даст ей сына, а почему-то подумалось именно о сыне, она сумеет воспитать его. Она не понимала, откуда у неё появилась такая уверенность, ведь никто не снял рокового диагноза, но факт оставался фактом – она верила. Она приняла к сведению слова священника, но не могла не признаться себе, что единственным желанием, охватившим всё её существо, было желание видеть Теремрина немедленно, сейчас же.
Она позвонила ему домой из ближайшего телефона-автомата, однако номер не отвечал.
«Значит он уже в доме отдыха, – решила она, и жгучая ревность подступила к ней, поскольку там он был с женой. – Что это я? Ведь всё же знала. Так будет, и с этим ничего не смогу поделать».
Но эта мысль не стала утешением. Вспоминая разговор со священником, она пыталась найти для себя лазейку, мол, быть может, одной встречи недостаточно. Надо встретиться ещё, ещё и ещё. Лишь тогда, как убеждала она себя, может получиться то, о чём она мечтала и на что надеялась. И она решила добиваться этих встреч любым путём, потому что вдруг уверовала, что если и будет у неё ребёнок, то только от Теремрина, поскольку немаловажными в этом деликатном деле всё-таки являются чувства, а она всё более ощущала в себе Любовь, которую называют всепобеждающей.
Матильда Кшесинская
«Вспомнишь и лица, давно позабытые…»
Раннее зимнее утро. За вагонным окном Франция.
Поезд мчится, рассекая туманную пелену, мчится сквозь меняющиеся пейзажи, иногда так похожие на далёкие, российские.
В купе женщина. Немолодая, далеко немолодая, этак лет… Нет, нет, стоп. Возраст женщины называть непринято, да и количество прожитых лет, зачастую, называй или не называй, ничего не дают.
На лице – следы былой красоты. Впрочем, былой ли? Ведь бывает красота, которая не становится былой долгие годы. Бывает красота вечной, то есть, дарованной Богом на весь век земной. Такое случается у женщин одухотворённых, женщин, проживших достойно, достойную жизнь.
Купе удобно, уютно. Женщина в купе одна. Она одна уже не только в купе, она одна в жизни, по, увы, не зависящим от неё причинам. Она, словно последняя из могикан, если перефразировать название известной книги.
Женщина смотрит в окно вагона, а за окном – нивы, которые кажутся в тумане печальными. Нивы – широкие поля… Здесь они редкость, а потому женщина смотрит на них, не отрывая взгляд. О, как этот пейзаж напоминает Россию!
Она – русская. До мозга кости Русская. Она тоскует по России. Она русская, хотя от рода польского. Имя её – Матильда Кшесинская. Если точно – Матильда Феликсовна Кшесинская, а теперь вот – Светлейшая княгиня Романовская-Красинская… Но это теперь. Всему миру она известна именно как Матильда Кшесинская.
Она любуется заснеженным пейзажем и включает небольшой портативный магнитофон, который любит возить с собой. В купе мягко вливаются звуки романса и слова, такие вдохновенные и чарующие…
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые…
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые,
Боже! Как трогают душу, как заставляют замереть сердце эти проникновенные слова Ивана Сергеевича Тургенева, такого родного своей любовью к России, к русскому языку… Здесь, на чужбине, именно великолепный, чистый, живой русский язык Тургенева, Бунина, Телешева, Пришвина спасает от окружающего гавканья «двунадесяти язык» Европы.
А в её памяти лица… Лица, хоть и давно ушедшие, но не позабытые. Боже! Сколько лет прошло, как давно она рассталась с Россией! Она покинула её в 1920-м, покинула совсем ещё молодой женщиной. Да, да, к ней можно вполне – и это будет справедливо – отнести словосочетание «совсем ещё молодой», потому, что она – Кшесинская.
Она глядит в окно, прикидывая, сколько же лет минуло, но она ещё не знает, потому как такого никому не дано знать, что 48 лет, в которые она уехала из России, даже ещё не половина того жизненного пути, который отмерил ей Всевышний на земле.
А романс звучит…
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды так жадно, так робко ловимые.
Первая встреча – последняя встреча –
Тихого голоса звуки любимые,
Сколько было обильных и страстных речей в её жизни! Сколько было взглядов жадно и робко ловимых. Романс чарует, завораживает, он настраивает на воспоминания…
И в туманной вуали, что расстилается за окном, мелькают лица. Вот строгое, мужественное лицо русского богатыря, Императора Александра III… А рядом юное прекрасное лицо наследника престола цесаревича Николая. Вот картинка первой встречи с цесаревичем и горькое видение встречи последней.
И снова звучат слова, проникающие в самое сердце…
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая рокот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое,
Жестокое слово разлука слишком рано ворвалось в её жизнь. Было много разлук, было много потерь в этой жизни. Но первая разлука с любимым особенно памятна, и боль от неё так и не отпускает всю жизнь.
Лица, лица в туманной вуали за окном, и рокот колёс непрестанный, монотонный. А над всем этим – небо. Но сколько и как задумчиво не гляди в него, оно не такое широкое, не такое бездонное как в России. А сейчас и вовсе скрытое туманом. И туманом прожитых лет скрыто многое, очень многое, но не лица.
За разлуками – встречи. Вот суровый и мужественный великий князь Сергей Михайлович, чьё нежное сердце, преданное сердце скрыто для многих. А вот совсем ещё юное лицо великого князя Андрея Владимировича и его смущенный извиняющийся голос – неосторожным движением он уронил бокал, напрочь испортив платье Матильды.
Вспомнив это, она улыбается. Что там платье – она никогда не страдала вещизмом. Легко приходили вещи, легко расставалась с ними, кроме тех, что памятны, очень памятны. Ведь для человек с большой буквы дороговизна вещей именно в той памяти, которую они хранят в себе…
А вот внезапно всплывает в мутном окне шумная ватага выпускниц Императорского театрального училища. И голос наставницы, объявившей, что начинается репетиция выпускного концерта, на который приглашён сам Государь Император Александр III, да не один, а с супругой и с наследником престола цесаревичем Николаем.
Кажется, уже тогда забилось сердце. Так всё-таки кажется так, или действительно забилось? Почему? Она же не могла знать заранее, что произойдёт на выпускном, во что всё происшедшее, выльется в дальнейшем. И ещё вспомнилось то, о чём узнала она уже потом. В тот самый промозглый мартовский день, когда начались репетиции выпускного балетного спектакля, об этом спектакле шёл разговор в императорской семье, причём, разговор этот касался именно её, Матильды Кшесинской, тогда ещё совсем не известной цесаревичу, но известной его родителям.
Март, трагический месяц для Дома Романовых. Кто тогда в марте 1890 года знал, что произойдёт ровно через 17 лет с Россией? 17 – не мистическое ли число? Ведь 17 октября 1888 года произошло крушение Императорского поезда… Дерзкое и наглое покушение тех, кто мечтал пустить под откос не только того, кто как раз хранил Россию, слегка «подмораживая» её, но и саму Россию на радость алчным западным хозяевам.
Но Матильде Феликсовне не хотелось думать о печальном, она вспоминала о том озарении, которое пришло в день выпуска и том, что говорили в императорской семье о ней в тот самый час, когда она начинала репетицию выпускного балетного спектакля...
«…Поединок… до гибели или ранения…»
27 января 2017 года исполняется 180 лет с того горького для России дня, когда одетый в кольчугу киллер Дантес по-европейски подло убил Русского гения Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате приурочена очередная книга серии "Любовные драмы". Представляем из неё несколько глав.
«…Поединок… до гибели или ранения…»
1. УБИЙСТВО ПУШКИНА - подлая месть «надменных потомков»
Над головой Русского гения нависли чёрные тучи зла и ненависти. Чем успешнее развивалось его творчество, тем поспешнее готовилась расправа.
Тёмные силы Европы не могли простить нам своего позора на полях России в 1812 году. Несметные полчища «двунадесяти язык», профессиональные грабители и бандиты, объединённые «французским Гитлером» Наполеоном, пополнявшим своими походами музей грабежа Лувр, алчной шакальей стаей ворвались на просторы Русской Земли в июне 1812 года. Вошло около шестисот тысяч человек. Кроме того, постоянно прибывали всё новые и новые подкрепления из Европы, взамен тех, что были зарыты Русскими героями на полях сражений. Не менее миллиона пересекли границу России с запада на восток. Назад вернулось около 20 тысяч, да и то с Петербургского направления. На центральном направлении уцелели лишь сам Наполеон, бежавший под защитой верных войск, да единицы из обезумевших от страха, голода и холода корпусов. Корпус Мюрата – весь целиком – уместился после Березины в крестьянской избе.
И Запад решил отомстить России. Отомстить в год 25-летия своего позора. Отомстить убийством Русской славы, Русского гения – Александра Сергеевича Пушкина, ставшего верным и надёжным соратником ненавидимого тёмными силами Запада Императора Николая Первого.
Прежде всего, взялись за организацию травли поэта.
Бенкендорф, близкий к самым тёмным слоям «велико» светской черни, пытался найти, отчасти, и по её заданию, поводы для преследований Пушкина, но не находил их. Сексоты и соглядатаи доносили: «Поэт Пушкин ведёт себя отменно хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит Государя».
И Пушкин сам подтверждал такое своё отношение. Известна выдержка из его письма к жене, Наталье Николаевне, посвящённая трём Царям:
«Видел я трёх Царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий, хоть и упёк меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвёртого не желаю: добра от добра не ищут».
«Велико» светская чернь не хотела мириться с тем, что Пушкин потерян, как бунтарь, как разрушитель государства, что он превратился в соратника Императора, в Русского государственника и политического мыслителя, принявшего идею Православия, Самодержавия, Народности.
Как водится, посыпались клеветы и наветы, по масонскому принципу «клевещи, клевещи – что-нибудь да останется». Всем был известен высокий моральный облик Государя Императора Николая Павловича. Что бы возбудить в нём недовольство Пушкиным, от имени поэта стали сочинять всякого рода пошленькие вирши, графоманские эпиграммы, мерзкие анекдоты и целые произведения развратного и антихристианского толка. К числу подобных относится и известная «Гаврилиада», авторство которой не только приписали Пушкину, но и включили, да и что там говорить, до сих пор включают в избранные издания и собрания его сочинений.
Узнав об этом пасквиле, Пушкин поспешил заверить Государя, что поэмы той не писал и готов доказать это. Николай Первый повелел ответить поэту следующее:
«Зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем?».
Во лжи и клевете особенно преуспевал некто Булгарин, весьма яркий представитель «велико» светской черни. Его журнал «Северная пчела» старалась больнее ужалить поэта, скомпрометировать его в глазах высоконравственного Государя, что бы поссорить единомышленников и соратников. Но и этот заговор провалился. Николай Павлович, прочитав несколько номеров журнала, пометил на полях, что «низкие и подлые оскорбления обесчестивают не того, к кому относятся, а того, кто их написал».
Государь приказал Бенкендорфу вызвать на беседу в тайную полицию Булгарина и запретить печатать подобные пасквили, а если не поймёт, вообще закрыть пасквильную «пчелу».
Но напрасно Государь верил Бенкендорфу. Этот активный член Ордена русской интеллигенции лишь разыгрывал преданность престолу, а на деле был одним из самых лютых врагов Самодержавия, Православия, России и Русского Народа. Русское общество, в значительной степени состоящее из подобных бенкендорфов, было уже серьёзно, почти безнадёжно больным. Недаром, ощущая это, супруга Николая Павлович Александра Фёдоровна с горечью писала в одном из писем:
«Я чувствую, что все, кто окружают моего мужа, неискренни, и никто не исполняет своего долга ради долга и ради России. Все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются».
Да и сам Государь Император Николай Павлович чувствовал это. Недаром он как-то заметил, что «если честный человек честно ведёт дело с мошенниками, он всегда остаётся в дураках».
Клеветнические выпады в его адрес были не менее жестокими и омерзительными, нежели в адрес Пушкина. И в этом Царь и поэт были как бы товарищами по несчастью. В письме к цесаревичу от 11 декабря 1827 года, то есть через два года после восшествия на престол, Государь признавался:
«Никто не чувствует больше, чем я, потребность быть судимым со снисходительностью, но пусть же те, которые меня судят, имеют справедливость принять в соображение необычайный способ, каким я оказался перенесённым с недавно полученного поста дивизионного генерала, на тот пост, который я теперь занимаю».
Пушкин искренне вставал на защиту Императора, всегда оставаясь в числе очень и очень немногих его соратников.
Попытка оклеветать Пушкина и посеять раздор между поэтом и Государем сорвалась. Ну а поскольку принцип «клевещи, клевещи – что-нибудь да останется», оказался не действенным, «велико» светская чернь, сплетавшаяся подобно навозным червям в навозном салоне мадам Нессельроде, «австрийского министра Русских иностранных дел», получила из Европы указание физически устранить поэта. Действовать предполагалось совместно с залётными иноземными тварями, примчавшимся в Россию «на ловлю счастья и чинов». «Велико» светскую чернь пугало то, что Пушкин всё в большей степени становился трибуном «Православия, Самодержавия и Народности».
Черни оставалось только найти бессовестного убийцу из числа инородцев, ибо ни один честный человек в России не посмел бы поднять руку на Русского гения, а бесчестный доморощенный ублюдок, каковых, увы, уже было немало, просто бы побоялся это сделать. На роль киллера выбрали хорошо подготовленного стрелка Дантеса.
Уже не столь прочный как в Московском Государстве трон Русских Царей в XIX веке обступала жадная толпа «надменных потомков», по меткому определению Михаила Юрьевича Лермонтова, «известной подлостью прославленных отцов». Лермонтов ни в коей мере не имел в виду Царствующую Династию, как это, порой, пытались выдумать потомки «велико» светской черни и выкормыши Ордена русской интеллигенции. Он имел в виду лицемерных и лживых сановников, игравших роль верных слуг престола, а на деле всеми силами старавшихся разрушить Самодержавие.
Кого только не было средь тех навозных червей, что разрыхляли монолит государственной власти, подтачивая его тайно и неуклонно.
Князь А.Я. Лобанов-Ростовский в своих записках назвал высший свет, который сам себя наименовал «высшим» и назначил в «высшие», ханжеским обществом людей мнивших себя Русской аристократией. Увы, люди с дефицитом серого мозгового вещества часто мнят себя великими, часто подделываются под аристократию, ибо им мало того, что они уже и без того паразитируют на теле России, приуготовляя ей гибель. Им хочется к роскоши, как правило, достигнутой плутовством, присовокупить ещё и какие-то моральные титулы. Ныне, к примеру, так называемые новые русские, которых точнее назвать псевдо русскими, придумали, что они – элита. И кругом пестрят объявления – элитные посёлки, элитные дома, элитные рестораны и прочая, и прочая, и прочая…И невдомёк им, что мало самим себя назвать элитой, важно, чтобы народ воспринял эти сливки общества элитой, но как же их можно назвать элитой, если, по сути, по своему нравственному и моральному состоянию, они представляют собой лишь самую мерзкую навозную чернь, столь немилосердно осуждённую и высмеянную Александром Сергеевичем Пушкиным.
У этой черни свои кумиры, свои обожаемые лидеры, свои обожаемые графоманы, именуемые самою чернью писателями, даже свой язык: «не тормози – сникерсни», который не понимают даже созданные их зарубежными союзниками компьютеры, или «после обильного пиара, сходи в самет и сделай брифинг», или «оттянись со вкусом». Их язык звучит в телесериалах, где в уста сотрудников правопорядка вложен бандитский лексикон, который даже цитировать стыдно. Впрочем и смысла нет цитировать, ибо люди, принадлежащие к истинно культурному слою Русского народа, а не возомнившие себя некоей элитой, почти ежедневно слышат все эти мерзости, обильно изливающиеся из поганых ящиков, и возмущаются ими.
Милиция в телесериалах завёт себя ментами, оружие – стволами, деньги – баблом и прочее, далее уже совсем неприличное льётся из уст героев сериалов. И на всём этом воспитывается подрастающее поколение, воспитываются мальчишки, впитывая с жижей телесериалов не чудеса чудные и прекрасные Великого Русского Языка, блестяще использованного в своих произведениях Пушкиным и воспетого Тургеневым, а то, что, тужась от умственных запоров перед компьютерами, наделали «гениальные» кумиры псевдорусской интеллигенции.
Всё это – несомненные достижения и успехи выкормышей так называемого ордена русской интеллигенции. Ведь ново–, а точнее псевдо-русские являются истинными интеллигентами. Да, да – я не оговорился. Ведь что такое интеллигенция? Давайте разберёмся.
Религиозный мыслитель Русского зарубежья Георгий Петрович Федотов писал, что интеллигенция это специфическая группа, «объединяемая идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» – это «псевдоним для некоего типа личности…, людей определенного склада мысли и определенных политических взглядов». Недаром Константин Петрович Победоносцев в своё время писал Вячеславу Константиновичу Плеве: «Ради Бога, исключите слова «русская интеллигенция». Ведь такого слова «интеллигенция» по-русски нет. Бог знает, кто его выдумал, и Бог знает, что оно означает…»
Министр Внутренних Дел В.К. Плеве пришёл к выводу о нетождественности интеллигенции с понятием «образованная часть населения», о том, что это «прослойка между народом и дворянством, лишённая присущего народу хорошего вкуса». Он писал: «Та часть нашей общественности, в общежитии именуемая русской интеллигенцией, имеет одну, преимущественно ей присущую особенность: она принципиально и притом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленные к дискредитированию государственной, а также духовно-православной власти, ко всему же остальному в жизни страны она индифферентна».
Вот такое племя боролось с правдой о прошлом Отечества Российского, вот такое племя боролось с настоящим, порою, не отдавая себе отчета, что ждёт его в будущем. Ущербность ума не позволяла предвидеть свою судьбу, которая оказалась ужасной и кровавой.
Военный историк Генерального штаба генерал-майор Е.И. Мартынов, так же как и Плеве, убитый бомбистом-интеллигентом, писал: «Попробуйте задать нашим интеллигентам вопросы: что такое война, патриотизм, армия, воинская доблесть? 90 из 100 ответят вам: война – преступление, патриотизм – пережиток старины, армия – главный тормоз прогресса, военная специальность – позорное ремесло, воинская доблесть – проявление глупости и зверства».
Думаю, аналогии, напрашивающиеся из двух последних цитат, читатели проведут сами. Слишком ещё ярки воспоминания о пережитом страной в эпоху развала и мракобесия, в эпоху ельцинизма, в эпоху зарождающегося звериного, криминального капитализма. Всё это вершили потомки тех, кто извращал великое прошлое Отечества Российского, кто подменял понятия о чести, долге и доблести, кто в 1905 году поздравлял телеграммами японского императора с победой над Россией, а в годы Первой мировой призывал к поражению собственной страны. Эти, по словам А. Бушкова, «ненавидящие свою страну, не знающие и не понимающие своего народа, отвергающие как «устаревшие» все национальные и религиозные ценности, вечно гоняющиеся за миражами, одержимые желанием переделать мир по своим схемам, ничего общего не имеющим с реальной жизнью, без всякого на то основания полагающие себя солью земли интеллигенты разожгли в России революционный пожар».
И добавим: многие из них сгорели в нём дотла. Но, разжигая пожар, они действовали всеми возможными методами, основываясь на пресловутой «свободе совести», как мы уже установили, – свободе от всякой совести.
Мыслители Русского зарубежья убедительно доказали, что «русская интеллигенция находится за пределами Русского образованного класса», что «это политическое образование, по своему характеру, напоминает тайные масонские ордена».
Михаил Леонтьевич Магницкий (1778–1855) раскрыл тайны зарождения Ордена русской интеллигенции, ставшего после запрещения в 1826 году Государем Императором Николаем Первым масонства, идеологическим и духовным заместителем тайных обществ. Он писал: «При сём положении классического иллюминатства, на что ещё тайные общества, приёмы, присяги, испытания? Содержимая на иждивении самого правительства ложа сия (О.Р.И.), под именем просвещения образует в своём смысле от 20 до 30 тысяч ежегодно такого нового поколения, которое через два или три года готово действовать пером и шпагою, а в течение каждого десятилетия усиливает несколькими стами тысяч тот грозный и невидимый легион иллюминатов, которого члены, действуя в его видах и совокупно и отдельно, и даже попадаясь правительству на самих злодеяниях, ничего показать и открыть не могут, ибо точно ни к какому тайному обществу не принадлежат и никаких особенных вождей не знают. Каждый такой воспитанник через 10 или 15 лет по выходе его из университета, может командовать полком или иметь влияние на дела высших государственных мест и сословий». («Русская старина», 1989, № 3, с.615-616).
М.Л. Магницкий в 1831 году обратил внимание Николая Первого на «особый язык» масонского ордена иллюминатов, идеологемы которого помогали распознать и таких очень с виду неявных членов О.Р.И. Вам знакомы эти слова: «дух времени», «царство разума», «свобода совести», «права человека». Антипод «свободы» – «фанатизм» и обскурантизм». Он же предложил делить масонство на политическое, духовное, академическое и народное.
Свобода совести как бы освобождала от Православной совести, следуя которой человек шёл Путем Правды, высшей Божьей Правды. Свобода позволяла идти иным путём – говоря словами Иоанна Грозного, путём утоления «многомятежных человеческих хотений».
«Свобода совести»? Что это? Вдумайтесь. Это свобода от совести. Такое просится объяснение. Свобода от совести позволяла исполнять предначертания тёмных сил, направленные против Православной Державы, против народа и его Праведной веры. Задача этих сил – повернуть Державу на путь к катастрофе, нарушив её исторически сложившийся уклад жизни, подменив духовные ценности. Исторически сложившийся уклад каждого народа, по меткому определению Константина Петровича Победоносцева, драгоценен тем, что не придуман, а создан самой жизнью, и потому замена его чужим или выдуманным укладом жизни неминуемо приводит к сильнейшим катастрофам. А этапы этого пути таковы. Ложные идеи и действия правителей на основе ложных идей, создают почву для изменения психологии руководящего слоя. Усвоив чуждые национальному духу или, что ещё хуже, ложные вообще в своей основе политические и социальные идеи, государственные деятели сходят с единственно правильной для данного народа исторической дороги, обычно уже проверенной веками. Измена народным идеалам, нарушая гармонию между народным духом и конкретными историческими условиями, взрастившими этот дух, со временем всегда приводит к катастрофе.
Об этом нам говорят со страниц своих трудов консервативные мыслители прошлого, об этом предупреждают современные мыслители. Белорусский писатель и мыслитель нашего времени Эдуард Мартинович Скобелев в книге «Катастрофа» пишет: «Гибель народа начинается с утраты идеала. Даже и самый прекрасный идеал будет отвергнут, если он опаскужен и извращён. Вот отчего попечение о чистоте идеала – первая заповедь подлинно национальной жизни». Поперёк движения, согласованного с этой заповедью, и стояли западники, которые составляли Орден русской интеллигенции.
Орден русской интеллигенции зародился в первые годы царствования Императора Николая Первого именно потому, что при этом Государе масонские ложи лишились возможности действовать спокойно и безопасно, разрушая Державу. Всё усугублялось тем, что в период правления Императора, которого мы знаем под именем Александра Первого, масоны ничего не таились и не страшились, ибо при нём было гораздо опаснее быть Русским патриотом, нежели масоном, ну прямо как при Горбачёве и Ельцине сотрудником КГБ или позже ФСБ было быть опаснее, нежели шпионом, особенно американским.
Легко представить себе, сколь многотрудно было затягивать гайки после долгих лет распущенности, вольнодумства, издевательства над национальной культурой, над патриархальным укладом, даже над верой. Ведь дошло до того, что даже сама вера Православной именоваться права была лишена и называлась Греко-латинским вероисповеданием.
Но и после запрещения масонства положение поправлялось с трудом, ведь престол окружали прежние, зачастую даже вовсе не люди, а нелюди, да и общество, так называемое, светское, состояло из особей с тёмными душонками.
Внучка Михаила Илларионовича Кутузова Д.М. Фикельмон писала Вяземскому: «Я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называют обществом… Оно тяготеет над нами, его духовное влияние так могуче, что оно немедля перерабатывает нас в общую форму… Мы пляшем мазурку на все революционные арии последнего времени».
В книге «История русского масонства» Борис Башилов резонно ставит вопрос: «Имели ли политические салоны Кочубея, Хитрово и Нессельроде какое-нибудь отношение к недавно запрещённому масонству? Кочубей, начиная с дней юности, был масоном… Политический же салон жены министра иностранных дел Нессельроде тоже был местом встреч бывших масонов. Великий князь Михаил Павлович называл графиню Нессельроде – «господин Робеспьер».
В доме Нессельроде говорить по-русски считалось дурным тоном. Тырнова-Вильямс вспоминала: «Дом Русского министра иностранных дел был центром так называемой немецкой придворной партии, к которой причисляли и Бенкендорфа, тоже приятеля обоих Нессельродов. Для этих людей барон Геккерн был свой человек, а Пушкин – чужой».
Именно Геккерн и Бенкендорф, выкормыши тех омерзительных, враждебных России и всему Русскому салонов и составляли клеветы на Государя и на Пушкина, именно они замышляли и убийство Пушкина и устранение Николая Павловича.
Бенкендорф в то время возглавлял созданное по его же предложению так называемое Третье отделение. Оно было создано, якобы, для борьбы с революционными идеями. На деле же Бенкендорф старательно травил Пушкина, приписывая ему несуществующие грехи. И одновременно покрывал истинных врагов Самодержавия и России, таких как Герцен, Бакунин, Белинский, Булгарин. В доверие к Государю Императору Николаю Павловичу он втёрся с помощью бессовестного подлога.. Разбирая бумаги минувшего царствования, он, якобы, нашёл свою докладную, датированную 1821 годом, в которой раскрывались цели и задачи тайных обществ по свержению Самодержавия. Разумеется, бумагу эту он написал уже после разгрома декабристов и следствия по их делу и положил на стол Государю, пояснив, что вот каков я, докладывал, мол, но мер не приняли. И Николай, привыкший верить людям и просто не способный по своему характеру и воспитанию предположить такую подлость, поверил, что Бенкендорф верный слуга Престола. А преданных людей катастрофически не хватало. В правительстве были не только приспособленцы и карьеристы, но, зачастую, и открытые враги России, как, к примеру, тот же Нессельроде.
Известный исследователь масонства В.Ф. Иванов в книге «Русская интеллигенция и масонство: от Петра I до наших дней» писал: «По вступлении на престол (Государя Императора Николая Первого – Н.Ш.) образовалось новое правительство. Масоны меняют свою тактику. Они тихо и незаметно окружают Императора своими людьми. Противники масонства путём интриги устраняются. Уходят в отставку граф Аракчеев, министр народного просвещения адмирал Шишков. Потерял всякое значение и архимандрит Фотий, но зато приблизились и заняли высокие посты ярые масоны: князь Волконский, министр Императорского двора, впоследствии светлейший князь и генерал-фельдмаршал; граф Чернышёв, военный министр (с 1827 по 1852 годы), позднее светлейший князь; Бенкендорф, шеф жандармов; Перовский, министр внутренних дел; статс-секретарь Панин, министр юстиции; генерал-адъютант Киселёв, министр государственных имуществ; Адлерберг, главноначальствующий над почтовым департаментом, позднее министр Императорского двора; светлейший князь Меншиков (проваливший в 1854 году оборону Крыма) – управляющий морским министерством. Сохранил своё значение, а в начале играл даже видную роль и бывший сотрудник Александра I граф В.П. Кочубей».
Но как же тогда устояла Россия, если Государя окружали одни предатели и мерзавцы, жаждавшие её гибели? В книге В.Ф. Иванова мы находим ответ на этот вопрос:
«Кроме преступников-масонов, у Государя были и верные слуги. Аракчеева, по проискам масонов, убрали. Но с падением Аракчеева не пали аракчеевские традиции и остались лица, в своё время выдвинутые Аракчеевым, пользовавшиеся его доверием. Таковы Дибич и Кляйнмихель, Паскевич, граф А.Ф. Орлов, брат декабриста М. Орлова. Граф А.Ф. Орлов в 1820 году при восстании семёновцев проявил верность и твёрдость. 14 декабря Орлов первый привёл свой полк, первый же двинулся в атаку против мятежников и вообще со своей энергией и решимостью много способствовал быстрому усмирению возмутившихся».
Разгром декабристов и запрещение масонства заставили мечтателей о разорении России несколько поубавить свой пыл. На престоле твёрдо стоял Император-витязь, который не подавал надежд на скорую и лёгкую победу. Началась тщательная и осторожная подготовка к очередному государственному перевороту. Бенкендорф не случайно истребовал себе пост шефа жандармов. В его задачу входила борьба с революционными идеями, с вольнодумством, но именно с этим он и не вёл борьбу, умышленно закрывая глаза на всё антигосударственное. Он вёл борьбу с Пушкиным, потому что Пушкин представлял для масонства особую опасность. Ведь он с каждым годом всё более утверждался в роли народного вождя всей России, причём вождя, пламенно защищавшего Государя Императора.
Орден русской интеллигенции открыл жестокую борьбу против Пушкина. В.Ф. Иванов писал: «Вдохновители гнусной кампании против Пушкина были граф и графиня Нессельроде, которые были связаны с главным палачом поэта Бенкендорфом. Граф Карл Нессельроде, ближайший и интимнейший друг Геккерна, как известно, гомосексуалиста, был немцем, ненавистником Русских, человеком ограниченного ума, но ловким интриганом, которого в России называли «австрийским министром Русских иностранных дел»… Графиня Нессельроде играла виднейшую роль в свете и при дворе. Она была представительницей космополитического, алигархического ареопага (собрание авторитетнейших лиц, как им казалось самим – ред.), который свои заседания имел в Сен-Жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Миттерних в Вене и графини Нессельроде в Доме Министерства иностранных дел в Петербурге. Она ненавидела Пушкина, и он платил её тем же. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта (скорее подобие женщины) паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца, графа Гурьева, масона, бывшего министра финансов в царствование Императора Александра Первого, зарекомендовавшего себя корыстолюбием и служебными преступлениями:
…Встарь Голицын мудрость весил,
Гурьев грабил весь народ.
Графиня Нессельроде подталкивала Геккерна, злобно шипела, сплетничала и подогревала скандал. Из салона Нессельроде, чтобы очернить и тем скорее погубить поэта, шла гнуснейшая клевета о жестоком обращении Пушкина с женой, рассказывали о том, как он бьёт Наталию Николаевну (преждевременные роды жены поэта объяснялись ими же тем, что Пушкин бил её ногами по животу). Она же распускала слухи, что Пушкин тратит большие средства на светские удовольствия и балы, а в это время родные поэта бедствуют и обращаются за помощью, что будто бы у Пушкина связь с сестрой Наталии Николаевны – Александриной, а у Наталии Николаевны – с Царём и Дантесом и так далее».
Таковой была надменная Нессельроде, мнившая себя аристократкой – на деле же самая характерная представительница великосветской дурно воспитанной черни, да к тому же весьма уродливая дочь, известной подлостью прославленного отца своего – Гурьева. Очень точно охарактеризовал Михаил Юрьевич Лермонтов в стихотворении «На смерть поэта» отвратительное сообщество черни.
Эта шайка навозных червей, именующая себя русской интеллигенцией, стремилась всеми силами поссорить Александра Сергеевича Пушкина с Государем Императором Николаем Павловичем. Главными организаторами клеветы на поэта и Императора, а затем и убийства поэта и отравления Государя, были князья Долгоруков, Гагарин, Уваров и прочие.
Крупнейший Русский исследователь масонства Василий Федорович Иванов в книге «Русская интеллигенция и масонство. От Петра Первого до наших дней», разоблачая шайку убийц Пушкина, писал:
«Связанные общими вкусами, общими эротическими забавами, связанные «нежными узами» взаимной мужской влюблённости, молодые люди – все «высокой» аристократической марки – под руководством старого развратного канальи Геккерна легко и безпечно составили злобный умысел на честь и жизнь Пушкина.
Выше этого кружка «астов» находились подстрекатели, интеллектуальные убийцы – «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов» – вроде Нессельроде, Строгановых, Белосельских-Белозерских».
Пушкин боролся с ними один на один.
«Семья «заставляет Искру скрежетать зубами…»
В последние годы много пишут о невиновности Натальи Николаевны, которой, однако же, Русская поэтесса Марина Цветаева дала уничтожающую характеристику. Да и Анна Ахматова высказывала не раз своё нелицеприятное отношение к супруге поэта. Конечно, написано о Натальей Николаевне много. От оценок тех, кто её знал в детстве, до тех, кто видел на балах, которые она любила, чем, конечно, тревожила Пушкина.
Не будем повторять сплетни и перечислять рассказы о встречах Натальи Николаевны с Дантесом, которые, порой, устраивала её родная сестра Екатерина, влюблённая в этого ублюдка и сожительствовавшая с ним до брака. Дело даже не в спорах о том было или не было близости между Дантесом и женой Пушкина. Скорее всего, даже наверняка, её и не было. Дело в соотносительном уровне самого Пушкина, Русского гения, и семьи его жены.
Короткая, но очень ёмкая и уничтожающая характеристика дана этой пошловатой интеллигентской семейке Александрой Осиповной Смирновой-Россет:
«Натали неохотно читала всё, что он (Пушкин) пишет, семья её так мало способна ценить Пушкина, что несколько более довольна с тех пор, как Государь сделал его историографом Империи и в особенности камер-юнкером.
Они воображают, что это дало ему положение. Этот взгляд на вещи заставляет Искру (так Александра Осиповна называла Пушкина – ред.) скрежетать зубами и в то же время забавляет его. Ему говорили в семье жены: «Наконец-то вы как все! У вас есть официальное положение, впоследствии вы будете камергером, так как Государь к вам благоволит».
Секрет успеха врагов Пушкина заключался в том, что они, будучи омерзительными по своей натуре человекообразными особями, смогли опереться на подобную им серость в окружении Пушкина. Именно серость – иначе не назовёшь. Да ещё и мягко сказано.
Не нам судить Наталию Николаевну, супругу Пушкина. И всё же… Как она могла – нет, речь не об измене, измена не доказана – как она могла вообще не только разговаривать, а просто смотреть в сторону полного ничтожества Дантеса, человекообразной особи, не имеющей духовных качеств человека. Вот когда вспоминаются слова Льва Толстого: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». О, если бы женщина, подобная Анне Григорьевне, была рядом с Пушкиным… Но об этом многим, очень многим писателям приходилось, да, наверное, приходится ныне только мечтать…
Император, которого десятилетиями клеймили в нашей литературе, на самом деле был неизмеримо, несопоставимо выше всех, кто окружал Пушкина. Именно Николай Павлович по достоинству оценил Русского гения, сумел возвести на высоту необыкновенную, но вовсе не по чинам. Государь более других понимал, что не существует такого чина, который бы соответствовал величию национального Русского поэта.
А семья жены радовалась не блистательным произведениям Пушкина, а придворному чину – чину, который мог получить и стяжатель, и обманщик, и любой червяк из великосветской черни.
Все эти «велико» светские черви остались в истории лишь едва различимыми тёмными пятнами, плесенью, разъедающей светлое полотно картины великого прошлого России. Геккрены, Нессельроды, Дантесы и прочая нечисть вспоминаются с презрением, а многие их партнёры по «взаимной мужской влюблённости» и вовсе стёрты из памяти человечества, как не нужный мусор.
Но Пушкин будет жить в веках, причём он будет жить не только в России – его имя известно и высоко почитаемо во всём мире, во всяком случае, в тех его уголках, где живут Сыны Человеческие, а не копошатся нелюди, подобные убившей его «велико» светской черни.
Жена поэта открыла дорогу врагам Пушкина к его убийству вовсе не изменой, которой, как мы уже говорили, скорее всего, не было. Она облегчила им задачу тем, что сама не сумела оценить Пушкина по достоинству – помешало интеллигентское воспитание. Именно воспитание, а не образование. Лариса Черкашина пишет по этому поводу: «Архивные страницы хранят много доселе неизвестного о юных годах супруги великого поэта. В них – записи по русской истории, большая работа по мифологии. Знания 10-летней девочки по географии просто поразительны: подробно описывая, например, Китай, она упоминает все его провинции, рассказывает о государственном устройстве. В тетрадях – старинные пословицы, высказывания философов 18 века, собственные замечания и наблюдения. В основном по-французски. Но есть и целая тетрадь на русском, посвященная основам стихосложения с цитатами русских поэтов того времени. Знание и понимание поэзии поражают! А ведь девочке было тогда от 8 до 14-15 лет».
Сохранились и документы, свидетельствующие о том, что она даже выступила против воли матери, когда та стала сомневаться относительно Пушкина. Пушкин сразу понял, в чём было дело. Он писал, что «госпожа Гончарова боится отдать свою дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у Государя». А ведь это было совсем не так. Пушкина ведь и ненавидели за то, что он встал по одну сторону баррикад с Николаем Павловичем в борьбе за Русскую Православную Державу.
Да ведь и Наталия Николаевна понимала неправоту матери. 5 мая 1830 года перед самой помолвкой она обратилась за поддержкой к своему дедушке Афанасию Николаевичу Гончарову: «Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые Вам о нём (Пушкине – НФ.) внушают, и умоляю Вас по любви Вашей ко мне не верить оным, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета!»
Но что же стряслось? Почему она допустила, что создались причины для сплетен? Почему Пушкин в последние годы был в дурном настроении, ощущая тягостное одиночество?
Как она могла не то что иметь какие-то дружеские отношения, а просто разговаривать с полным ничтожеством? По её положению жены Русского гения это европейское нечто должно было оставаться пустым местом, и даже до разговора с ним она не имела морального права опускаться – не стала бы ведь беседовать и кокетничать с крысой или червяком. Даже самым безобидным общением она роняла честь жены Русского гения и бросала на него тень. Она не имела права даже смотреть в сторону пошленького навозного червя Дантеса Геккерна.
Во многом повинна в смерти поэта сестра Натальи Николаевны Екатерина, раболепствующая пред сим западным червём, подстраивавшая неожиданные для жены поэта встречи в своём доме. Для чего она это делала? Скорее всего, не по заданию враждебным сил, а из желания заслужить благосклонность своего ничтожного возлюбленного, ничтожество которого она не хотела, а может быть, по скудоумия, просто не в состоянии была оценить.
Пушкина раздражало волокитство Дантеса, бесило то, что презренный сожитель развратного Геккерна смеет приближаться к его жене – к женщине, которую он любил. Наталья Николаевна так и не сумела осознать свою роль.
Шайке убийц вовсе не нужно было, чтобы Дантес обязательно соблазнил жену Пушкина. Ей довольно было и того, что Наталья Николаевна не отвергала его ухаживаний. А далее уже всё вершилось с помощью самой отвратительной клеветы.
Государь знал об охоте, организованной на Пушкина, и взял слово с поэта, что тот никогда не будет драться на дуэли. Но враги учли все варианты развития событий – они распространили столь омерзительную клевету, что Пушкин не выдержал. Честь для Русского гения была превыше всего.
Геккерн, как патологический трус, от дуэли уклонился. Пушкин вызвал Дантеса.
Но даже после того, как поединок был предрешён, Пушкина ещё можно было спасти. И это попытался сделать только один единственный человек в России – Государь Император Николай Первый!
Получив сведения о готовящейся дуэли, Император вызвал Бенкендорфа и строжайше приказал предотвратить дуэль: направить к назначенному месту наряды полиции, арестовать дуэлянтов и привезти их к нему в кабинет.
Но Бенкендорф вместо того, чтобы немедля выполнить приказ Николая Первого, поспешил в салон Нессельроде, где встретился с княгиней Белосельской.
– Что делать? – вопрошал он в отчаянии. – Я не могу не выполнить приказ Императора. – Это может мне стоить очень дорого!...
– А вы его исполните! – весело сказала княгиня. – Пошлите наряды полиции не на Чёрную речку, а, скажем, в Екатерингоф… Поясните, будто получили сведения, что дуэль состоится там, – и, сжав костлявые, обтянутые кожей отвратительного цвета кулачки, уже жестоко прошипела: – Пушкин должен умереть!.. Должен… А вы будете вознаграждены нами…
Салон Нессельроде ещё и потому ненавидел Пушкина, что жена его была признанной красавицей, а в салоне Нессельроде были одни сущие уроды и уродицы, словно со всей Европы там собрались грязь и мерзость – ведь, как известно, Бог шельму метит.
Как знать, остался бы жив наш Русский гений, если б Дантес дал промах.
Писатель Дмитрий Мережковский отметил: «Борьба приняла особенно мучительные формы, когда дух пошлости вошел в его собственный дом в лице родственников жены. У Наталии Гончаровой была наружность Мадонны Перуджино и душа, созданная, чтобы услаждать долю петербургского чиновника тридцатых годов. Пушкин чувствовал, что приближается к развязке, к последнему действию трагедии.
Незадолго перед смертью он говорил Смирновой, собиравшейся за границу: «увезите меня в одном из ваших чемоданов, ваш же боярин Николай меня соблазняет. Не далее как вчера он советовал мне поговорить с государем, сообщить ему о всех моих невзгодах, просить заграничного отпуска. Но всё семейство поднимет гвалт. Я смотрю на Неву, и мне безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход... Если бы я это сделал, что бы сказали? Сказали бы: он корчит из себя Байрона. Мне кажется, что мне сильнее хочется уехать очень, очень далеко, чем в ранней молодости, когда я просидел два года в Михайловском, один на один с Ариной, вместо всякого общества. Впрочем, у меня есть предчувствия, я думаю, что уже недолго проживу. Со времени кончины моей матери я много думаю о смерти, я уже в первой молодости много думал о ней».
Проситься за границу Русский гений, Русский по духу и мировоззрению поэт мог только в положении, которое действительно стало для него безвыходным. Светская чернь травить умеет. Превратившись в орден русской интеллигенции, она впоследствии значительно усовершенствовала эти свои низменные, недостойные Homo sapiens – человека разумного и не просто… а человека Русского мира, Русской цивилизации. Но заявляя так, я помню слова великого Достоевского: «Русские без Бога – дрянь». Но Пушкин был с Богом в сердце. Это уже доказано многими исследователями, и в книге уже упоминалось об этом в предыдущих главах.
С Богом в сердце был и Государь. Известно, что, узнав о ранении поэта, Император Николай Павлович не скрывал своего гнева и негодования.
– Я всё знаю, – жёстко выговаривал он Бенкендорфу. – Полиция не выполнила моего приказа и своего долга. Вы – убийца!
– Я думал… Я посылал наряды в Екатерингоф, – лепетал жестокосердный, а оттого ещё более трусливый Бенкендорф, – Я думал, что дуэль там…
– Вы не могли не знать, что дуэль была назначена на Чёрной речке. Вы обязаны были повсюду разослать наряды!
Пушкин чувствовал приближение неотвратимой развязки. Он просился за границу! Можно себе представить, как допекла его «велико»светская чернь дома! Ведь он не любил Запад, не любил за пресловутую демократию, о котором в 1836 году писал в своём журнале «Современник»:
«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает своё поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим её положением, гордая своими учреждениями.
Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными.
Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве.
Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принуждённый к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».
. В книге «Россия перед вторым Пришествием», вышедшей несколькими изданиями уже после развала СССР, помещены пророчества современного старца, озвученные в 1990 году: «Горе возлюбившим Вавилон Запада и роскошь его и высоту его на краю Запада, небоскрёбы его… В один час придёт Суд на него и погибель его, – только дым от него будет до неба…».
А ведь Пушкин предвидел гибель Запада и предсказывал «век сияния Руси»
Вавилон… Он считается одним из главных отрицательных образов Апокалипсиса – «великая блудница», которая по словам современного священника Андрея Горбунова, «растлила землю любодейством своим, яростным вином блудодеяния своего напоила всех живущих на земле, все народы… Вавилон, город великий, царствующий над земными царями, мать блудницам и мерзостям земным». Многие нынешние православные духовные деятели полагают, что новый Вавилон – это Соединенные Штаты Америки, а ещё точнее – Нью-Йорк. Одним словом нынешний Вавилон это в первую очередь США, а в целом – вся американизированная «современная западная цивилизация. Это теперь… Но Пушкин раскусил «мертвечину США», тогда это были Североамериканские соединённые штаты, ещё в первой половине XIXвека.
11 сентября 2001 годы мы были свидетелями пришедшей «в один час» гибели небоскрёбов, от которых остался лишь дым, восходящий к небу. А не было ли то событие последним предупреждением Всевышнего Соединённым Штатам Америки?
Известный современный церковный деятель протоиерей Александр Шаргунов, отозвался на это событие статье в журнале «Русский Дом»: «Нью-Йорк не раз называли Новым Вавилоном. Вавилон, по толкованию Святых Отцов, с одной стороны – «блудница», с другой – реальный город, построенный по последнему слову техники. Это всё та же внешняя «христианская цивилизация», которая имеет чисто внешние достижения в науке и технике при стремительно возрастающем духовно-нравственном распаде и которую антихрист доведёт до предела…
Перед нами приоткрывается, не открывается во всей полноте, но только приоткрывается 18-я глава Апокалипсиса. Пожар, о котором говорится в этой главе, должен быть чем-то необыкновенным, так что стоящие вдали видят дым от пожара. Три раза в этой главе повторяется выражение: «В один час погибло такое богатство!» Буквально в течение одного часа произошло крушение башен Всемирного торгового центра на глазах у всех…
Очевидно, приближается исполнение всего остального, о чём говорит Апокалипсис… Один Бог знает, когда произойдёт окончательное падение Вавилона, города великого. Но то, что произошло сегодня, – может быть, последнее предупреждение».
Священник далее поясняет: «Библейский образ Вавилона ёмок и многогранен. Слово «Вавилон» буквально означает «смешение». Современные толкователи находят, что исторический Вавилон – этот первый в истории человечества мегаполис – прообразовал такие явления, как мировое масонство, США (как конгломерат, смешение рас и народов, утративших свои расовые, национальные, культурные корни), «общечеловечество», управляемое в соответствии с «новым мировым порядком». Вавилон немыслим без блуда телесного и духовного, поэтому и апокалипсический Вавилон неотделим от понятия «великой блудницы». Архиепископ Аверкий (Таушев) писал: «Некоторые современные толкователи полагают, что Вавилон действительно будет каким-то громадным городом, мировым центром, столицею царства антихриста, который будет отличаться богатством и вместе с тем крайней развращенностью нравов, чем вообще всегда отличались большие города».
Далее священник Андрей Горбунов приводит в подтверждение своих слов цитату из статьи известного священнослужителя, протоиерея Валентина Асмуса, «История есть суд Божий», опубликованной в газете «Завтра» после начала военной агрессии США против Ирака: «Символическое столкновение: новый Вавилон, плутократическая Великая Блудница, матерь блудниц (Откр. 17, 1, 5) всей своей чудовищной сатанинской мощью обрушивается на землю древнего Вавилона… Речь идёт об установлении сатанинского, антихристова духовного диктата. Американская обезьяна (подчеловек в квадрате многократно ухудшенный вариант современного западноевропейского подчеловека) хочет претворить всё человечество в свой образ и подобие, силой навязывает всем свою ублюдочную идеологию (под видом мифологических «общечеловеческих ценностей»), свою дегенеративную культуру. И, кажется, нет силы, способной остановить это апокалипсическое сползание в бездну…
В страшные дни новой мировой схватки христианам всех стран остается молиться о скорейшей погибели Америки – средоточия мирового зла. Не нужно придумывать слова этих молитв – достаточно взять указатель к Библии и собрать все, что сказано о Вавилоне. Горе тебе, Вавилон, город крепкий! Пал Вавилон великий».
"Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице..."
Священник Андрей Горбунов указал далее: Апокалипсическая блудница (США) «сидит на семи горах» – т. е. руководит «большой семёркой», о которой сказано в 17 главе Откровения: «Семь голов [зверя] суть семь гор, на которых сидит жена».
Однако, этот исторический период, когда миром правит «большая семёрка» («семь голов» апокалиптического зверя, которые суть «семь царей» – глав государств), при ведущей роли США, очевидно, подходит к концу. В последнее время говорилось уже об «обострении противоречий» между США и Европой, о «расколе» внутри «большой семёрки», о «кризисе отношений» между Европой и Соединенными Штатами, который всё больше приобретает, по мнению экспертов-международников, «фундаментально-глобальный характер».
Интересно, что эти пророчества совпадают с предсказаниями известной ясновидящей Малахат Назаровой, опубликованными в № 1 журнала «Чудеса и приключения» за 2006 год. Эта ясновидящая, как указал Валерий Цеюков, который вёл с ней беседу, точно предрекла в своё «и развал СССР, и Карабахский конфликт, и войну в Чечне, и «Норд-Ост», и Беслан» и события 11 сентября 2001 года в США и страшное цунами в Индийском океане. На вопрос о судьбе США, Малахат Назарова ответила:
«Эту страну ждут крупные перемены, серьёзные природные катаклизмы. Их будет девять. Четыре из них – крупные, с многочисленными человеческими жертвами. Произойдут они в ближайшие год-полтора».
Валерий Цеюков спросил и о Третьей мировой войне. Ясновидящяя ответила: «Если конфликты между странами, такие, например, как между США и Ираном, удастся погасить, то никакой войны мирового масштаба не будет. К тому же разрушительные стихийные бедствия отвлекут мысли многих государственных деятелей от войны. Им будет некогда вынашивать планы вторжения в другие государства. Необходимо будет срочно восстанавливать всё, что разрушила стихия».
Существуют также пророчества о том, что США в период правления 44 -го президента женщины распадутся на три государства и потеряют былое значение в мире. Россия же вновь объединит все 15 союзных республик.
Что ж, ещё в древности, во «Влесовой книге» говорилось о благоприятных для нашего народу временах, когда к нам повернётся «Сварожий круг». В связи с этим, интересно предсказание Малахат Назаровой о том, климат в Москве поменяется, будет тепло, как в Дубае, а «воздух будет чистым и здоровым, лекарством для лёгких».
Ну а США надлежит испытать все ужасы, о которых говорится в Священном Писании. И поделом.
Священник Андрей Горбунов приводит предсказания о том, что США падут под ударами международной закулисы, то есть будут уничтожены теми, кто создавал их и направлял вершить зло во всём мире. «Сейчас они ещё продолжают пользоваться находящейся под их контролем Америкой – как орудием для достижения своих целей, но скоро они устранят ее (во всяком случае, она перестанет быть «преобладающим царством». Старец Таврион называл Америку лающим псом, а старец Антоний (точнее, старец, названный Антонием в книге «Духовные беседы и наставления старца Антония») – дубиной в руках мирового сионизма (хозяина «лающего пса»).
По словам священника Андрея Горбунова, «ещё св. Андрей Кесарийский весьма недоумевал по поводу предсказания Апокалипсиса о том, что сами же слуги сатаны (десять царей), борющиеся против Христа, разрушат богопротивный Вавилон».
«Для меня кажется удивительным, – писал Андрей Кесарийский в «Толковании на Апокалипсис», – как враг и мститель – диавол поможет управляемым десяти рогам ополчиться и вооружиться на любящего благо и добродетели Христа, Бога нашего, а также опустошить отступивший от божественных заповедей и подчинившийся его прельщениям многолюдный город, и, подобно зверю, насытиться его кровью».
Интересны и дальнейшие рассуждения автора статьи. В 17 главе Апокалипсиса сказано, что десять рогов зверя «возненавидят блудницу, и разорят её, и обнажат, и плоть её съедят, и сожгут её в огне; потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его [т. е. Бог для наказания грешников попустил осуществление планов главарей закулисы по разрушению Нью-Вавилона (США)], исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии», – т. е. после непродолжительного (три с половиной года, по толкованиям Святых отцов) царствования антихриста наступят предреченные словом Божиим кончина мира и Страшный суд. Выражение «положил Бог на сердце» на языке Священного Писания означает именно попущение Божие, подобно тому, как в Ветхом Завете сказано, что «Господь ожесточил сердце фараона» (Исх. 9, 12). Итак, Апокалипсис говорит о том, что разрушение США (и, в частности, Нью-Йорка – начиная с провокации 11 сентября 2001 года, которая развязала мировой закулисе руки для тотальной войны с целью установления «нового мирового порядка») происходит по решению высшего органа закулисы («Верховного совета мира»), стремящегося к мировому господству. В качестве удобного прикрытия этой цели выдвинута «необходимость» противостояния мифическому (точнее, созданному и финансируемому теми же структурами закулисы) «международному терроризму», т. е. необходимость борьбы за «мир и безопасность», о чем предсказал апостол Павел. Америка же, по некоторым пророчествам, исчезнет, как континент… В 18 главе Апокалипсиса, содержащей описание гибели Нью-Вавилона (или «суда над великой блудницей»), можно увидеть указания на некоторые характерные черты «американизма»: «Повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его; и голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет». - Это, видимо, об американской музыкальной индустрии: джаз, рок-, поп-музыка и т. д. «Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества» («Художество», в данном случае, – это ремесло, а «художник» – ремесленник, производитель товаров. То есть не будет уже всей огромной американской системы, производящей многообразные и многочисленные товары и оказывающей услуги. «И шума жерновов не слышно уже будет в тебе». – Это о производстве продуктов питания.
Далее священник размышляет над пророчеством 18-й главы Апокалипсиса, в которой говорится о наказании Вавилона, и приводит в дополнение предсказания, содержащиеся в книге «Духовные беседы и наставления старца Антония» (часть 1). Там указывается на всевозможные технические катастрофы, которые станут порождением созданной человеком индутрии, разрушающей землю.
Старец Антоний указал: «Система существования, по сути, сатанистская, ибо абсолютно противоречит законам Божьим, начнёт ломаться. Будут падать самолеты, тонуть корабли, взрываться атомные станции, химические заводы. И всё это будет на фоне страшных природных явлений, которые будут происходить по всей земле, но особенно сильно – в Америке. Это ураганы невиданной силы, землетрясения, жесточайшие засухи и, наоборот, потопообразные ливни. Будет стерт с лица земли жуткий монстр, современный Содом – Нью-Йорк. Не останется без возмездия и Гоморра – Лос-Анджелес… Наиболее страшными последствиями разъяренная природа грозит городам, ибо они полностью оторвались от неё. Одно разрушение вавилонской башни, современного дома, и сотни погребенных без покаяния и причастия, сотни погибших душ».
Во 2 части «Духовных бесед и наставлений старца Антония» помещено предсказание о суде над Америкой: «Видел я своё видение о событиях, имеющих предшествовать концу мира, – современный Содом, Нью-Йорк, в огне… Печь адская, развалины и неисчислимые жертвы… Но жертвы ли? Жертва всегда чиста. Там же гибли осквернённые, не сохранившие своей чистоты, отвергшие истину и ввергшие себя в пучину человеческих, считай – бесовских – суемудрений. Они, пытающиеся создать новое подобие Вавилонской башни, этакого процветающего государства без Бога, вне Его Закона, и будут первыми жертвами его. Жертвами своих правителей, к тому же. В качестве одной из ступеней к мировому господству власти принесут на алтарь Ваалов жизни своих соотечественников. Эти власти, состоящие из людей, исповедующих иудаизм, выродившийся в сатанизм, в ожидании лжемессии-антихриста пойдут на всё, чтобы вызвать войны и трагедии мирового значения. Но огонь и разрушение от него – ещё не конец, а только начало. Ибо первоначальный огонь и разрушение вавилонских башен нового времени взрывом – дело рук человеческих, хоть и по попущению Божию. Это злодеяние, как особо тяжкий грех, вызовет и природные негоразды. Взрыв в море произведёт огромную волну, которая зальёт новозаветный Содом. Гоморра же будет уже вскоре подвергаться разрушению от страшных морских бурь, от воды».
Интересное замечание делает священник Андрей Горбунов в конце публикации: Автор книги «Духовные беседы и наставления старца Антония», ныне покойный священник Александр Краснов (эта фамилия – псевдоним), сообщил однажды автору настоящей статьи, что предсказания старца, названного в книге Антонием, – например, предсказания о гибели нью-йоркских небоскребов («вавилонских башен») и об урагане и наводнении в Новом Орлеане, – были, на самом деле, более конкретными, более детальными, но отец Александр не решился тогда, при написании книги, изложить их со всеми подробностями».
Но что же Россия? Что будет с Россией, когда начнутся все эти беды Запада? Кроме наиболее почитаемых нами преподобного Авеля-прорицателя и святого преподобного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского и преподобного Лаврентия Черниговского, о судьбе России пророчествовали многие старцы и старицы. Проведём некоторый краткий обзор таких пророчеств.
Схимонахиня Нила, ушедшая из жизни в 1999 году, на вопрос, не поздно ли сегодня возводить новые храмы, когда близятся последние времена, отвечала: «Уже поздно. Но Господь продлил время для России». Говаривала она частенько и о том, что Господь может отложить исполнение пророчеств. Это зависит от молитвенного настроя верующих, от чистоты всенародного покаяния, от уровня духовности нашей жизни. Схимонахиня учила: «Работа в руках, а молитва в устах! Молитва прежде всего… Мир держится молитвой. Если хотя бы на час молитва прекратиться, то мир перестанет существовать. И особенно нужна молитва ночная, она более других угодна Богу. Самый великий и трудный подвиг – молиться за людей… Всё, что посылается, надо делать перед оком Божиим, с памятью о Божией Матери, с обращённостью к Ним. Не внешние труды нужны, а более всего – очищение сердца. Не позволять себе никакого лукавства, быть открытым с людьми. И ничего о себе не думать».
Когда одна монахиня, приехавшая к матушке Ниле из Сибири, рассказала о том, как было страшно в самолёте из-за неполадок двигателя, та сказала ей: «Больше в самолётах не летайте, ненадёжно это сейчас, а дальше ещё опаснее будет. Лучше поездом».
Мы почти ежедневно слышим о разного рода катастрофах то в Турции, то в Египте, которые случаются с нашими туристами, слышим о гибели людей. А, между тем, Богоугодны ли подобные путешествия? Разве мы уже познакомились со всеми святыми местами, да и вообще со всеми достопримечательностями родной земли?
Схимонахиня Нила не благословляла даже поездки на Святую Землю, говоря: «Сколько в России святых мест, где вы не бывали! Преподобный Сергий не ходил на Святую землю, а его молитвами наша Русская Земля освятилась. Царство Божие внутри нас есть – и господь должен жить в нас. Поэтому и Иерусалим должен быть в сердце, внутри нас. Господь не заповедал ездить на Святую Землю…».
Ополчалась матушка и на мужикоподобную женскую моду: «Нельзя женщинам надевать мужскую одежду, а мужчинам – женскую. За это отвечать придётся перед Господом. Сами не носите и других останавливайте. И знайте, женщины, носящие брюки, во время грядущей войны будут призваны в армию – и не многие вернутся…»
Она ещё не застала полного уродства, заключающегося в полуспущенных штанах, которые теперь носят некоторые наши неумные американообразные обезьяны. Девушек стройных, у которых, как говорят, ноги от ушей растут, эти брюки делают коротконожками – таков оптический эффект. Ну а у тех, у кого фигура и без того не имеет идеальной пропорции, превращаются в каракатиц, с вываленным для демонстрации, зачастую, мягко говоря, очень некрасивым задним местом. Студенты на лекциях придумали против этого безобразия оригинальную шутку. Набирают мелких монеток и забрасывают за оттопыренный край брюк. Поскольку за счёт уродливого покроя брюки не плотно прилегают к телу, монетки делают своё дело – они с грохотом сыплются на пол, когда такая «модница» встаёт, или заставляют ерзать и чесаться, выковыривая из задней части тела презренный металл.
Но, увы, у тех, кто серьёзно и опасно болен западничеством и американизмом, разум повреждается с колоссальной быстротой, а потому достучаться до сердца такой особи, произошедшей от того существа, о коем говорил Дарвин, очень и очень сложно.
Пророчества схимонахини Нилы не всегда бывали оптимистичными – говорила она и трудных временах для верующих, и о скорбях, и о голоде, но говорила не для того, чтобы испугать, а напротив, чтобы укрепить в вере: «Всё могу в укрепляющем мя Господе. И ничего не страшитесь, дети, не надо бояться того, что будет или может быть, или даже должно случиться по пророчеству людей Божиих. Господь сильнее всех и всего, Он подаст помощь в испытаниях, даст силу потерпеть и смирит, когда нужно. Лишь бы мы были послушны святой его воле. Просите Заступницу усердно, и Она не оставит вас.
Преподобный Лаврентий Черниговский предрекал: «Наступает последнее время, когда и духовенство увлечется мирским суетным богатством. Они будут иметь машины и дачи, будут посещать курортные места, а молитва Исусова отнимется! Они и забудут о ней! Потом они сами пойдут не той дорогой, которой нужно идти, а людей малодушных поведут за собой! Но вы будьте мудры и рассудительны. Красивые их слова слушайте, а делам их не следуйте!
И вам я говорю и очень сожалею об этом, что вы будете покупать дома, убивать время на уборку больших красивых монастырских помещений. А на молитву у вас не будет хватать времени, хотя давали обет не стяжательства!
Спастись в последнее время не трудно, но мудро. Кто преодолеет все эти искушения, тот и спасется! Тот и будет в числе первых. Прежние будут как светильники, а последние – как солнце. Вам и обители приготовлены другие. А вы слушайте да на ус мотайте!»
Батюшка заповедал: молиться и поститься. В Праздники Великие и в Воскресенья ни в коем случае не работать: хоть град с неба, а пускай всё на месте стоит. Среду и пятницу, и все посты Батюшка велел соблюдать строго. Многим благословлял поститься в понедельник наравне со средой и пятницей и некоторым не вкушать мясной пищи, говоря: «Царство Божие не брашно и не питие».
Схиархимандрит Феофан вспоминал, что преподобный Лаврентий Черниговской с улыбкой радостной говорил:
«Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили жидовскому нечестию в России, не защитили Помазанника Божия Царя, церкви Православные и монастыри, сонм мучеников и исповедников святых и всё русское святое. Презрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие. И что много лет восхваляли и ублажали, и ходили на поклонение разрушителя страны – советско-безбожного идола. Батюшка сказал, что когда Ленина бесы втащили в ад, тогда бесам было большое ликование, торжество в аде…
Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь Православный Божий Помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на Церковь Православную не будет. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное предантихристово время. Просиял великий полк Мучеников и Исповедников, начиная с самого высшего духовного и гражданского чина митрополита и царя, священника и монаха, младенца и даже грудного дитя и кончая мирским человеком. Все они умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя Царствующих а Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно твердо знать, что Россия – жребий Царица Небесныя и Она о Ней заботится и ходатайствует о Ней сугубо. Весь сонм Святых русских с Богородицей просят пощадить Россию. В России будет процветание Веры и прежнее ликование (только на малое время, ибо придет Страшный Судия судить живых и мертвых). Русского Православного Царя будет бояться даже сам антихрист. А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Писании. Россия, кайся, прославляй, ликуя, Бога и пой Ему: Алилуя».
А что же Россия? Святой преподобный Серафим Саровский предрекал: «Россия претерпит много бед и путем великих страданий вновь обретет великую славу…» Авель прорицал: «Россия процветет аки крин небесный». Иеромонах Анатолий Младший еще в феврале 1917 года писал, что «явлено будет великое чудо Божие… И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся и воссоздастся корабль Россия в своей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным…» Иеромонах Нектарий в 1920 году писал: «Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом богата…» и прибавлял: «Если в России сохранится хоть немного верных православных, Бог её помилует, а у нас такие праведники есть». Схимонах Антоний (Чернов) указывал, что «Русское государство будет меньшим, чем Империя».
Впрочем, я несколько отклонился от главной темы, чтобы донести информацию и силе пророчеств и их неотвратимом исполнении. И потом, горести и печали завершающих глав, посвящённых убийству Пушкина киллером, явившимся с Запада, должны же быть хоть как-то компенсированы точными данными о неотвратимости возмездия злодеям.
Ну а пророчества Александра Сергеевича Пушкина о «веке сияния Руси», безусловно, исполнятся.
«…Поединок… до гибели или ранения…»
Тут бы справедливо уточнить: «до гибели или ранения ПУШКИНА!!!». Именно Пушкина! Дантес был надёжно защищён. Его сразить было невозможно. Дуэль именно и задумывалась для того, чтобы устранить Пушкина путём, либо его убийства, либо смертельного ранения, которое приведёт к смерти… Ну а теперь обо всём этом подробно…
Кто организовал убийство Пушкина? Русские? Нет… Во главе шайки ублюдков стояли супруги Нессельроде, Бенкендорф, Геккерн и прочие, им подобные нелюди. В киллеры был избран француз Дантес, «вышедший замуж» за Геккерна. Для «лечения» в случае ранения назначен Аренд.
Даже секундантом был инородец, Данзас Константин Карлович – лицеист, то есть человек, уже с лицейской скамьи настроенный враждебно ко всему Русскому. В словаре «Брокгауза и Эфрона» говорится, что он обладал хладнокровием. С его слов была составлена брошюра «Последние дни жизни и кончина А.С. Пушкина». Свидетель… Единственный свидетель со стороны поэта, да и тот лицеист. Он был предан суду и приговорён к двухмесячному содержанию на гауптвахте. В условиях, когда Бенкендорф был в числе организаторов убийства, и то вынуждены были признать Данзаса виновным. Правда, вместо виселицы – всего два месяца гауптвахты, а потом ссылка на Кавказ, туда же, куда был направлен Лермонтов. И там опять убийство поэта! Как знать, не приложил ли и там руку этот Карлович.
Какова же роль Данзаса? Он, де, несчастный, пишут интеллигенты. На его глазах был убит друг… Нет, господа. На его глазах был убит не просто друг. На его глазах Запад расправился с Русским гением, с Солнцем Русской поэзии. Да только ли поэзии?! Блистательна была проза Пушкина, великолепны его исторические произведения, уникальны его пророчества, которые и по сей день вызывают много споров. Причина споров – страх врагов России перед тем, что заповедал поэт. Пряча головы, подобно страусам, они твердят, что Пушкин никаких пророчеств не оставлял, что всё это глупости, словно тем самым можно изменить предначертания свыше.
Так кто же таков Дантес? Француз, сын эльзасского помещика гомосексуалист Дантес в конце 1833 года прибывает в Россию «делать карьеру». В 1834 году он – корнет, в январе 1836 года – поручик кавалергардского полка. В мае 1836 года он «выходит замуж» за голландского посланника Луи Геккерна. В 1835 году он, которому не нужны женщины, ибо он сам полуженщина, нацеливается на жену Пушкина, хотя имеет успех у многих представительниц «велико» светской черни, для коих, в связи со смещением мировоззрения и миросозерцания, лишь тот хорош, кто иноземец, тем паче француз.
А вот мнение Михаила Давидова, высказанное в статье «Дуэль и смерть А.С. Пушкина глазами современного хирурга», опубликованного в номере первом журнал «Урал» за 2006 год:
«На службе поручик Дантес не проявлял большого усердия. По данным полкового архива, Дантес «оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером». Из полкового приказа от 19 ноября 1836 г. явствует, что он «неоднократно подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе». За три года службы в полку поручик Дантес получил 44 взыскания!
С 1834 г. Дантес стал появляться в обществе с голландским посланником бароном Луи Геккерном, хитрым и искусным дипломатом, мастером интриг, которого не очень любили в Петербурге. Разница в возрасте между Дантесом и Геккерном была сравнительно небольшой (Луи Геккерн был 1792 года рождения). Поэтому многие были удивлены, когда в мае 1836 г. Геккерн усыновил Дантеса. Жорж Дантес принял имя, титул и герб барона Геккерна и стал наследником всего его имущества. Секрет этого усыновления объясняется гомосексуальной связью «отца» и «сына». Однополчанин и друг Дантеса князь А.В. Трубецкой впоследствии вспоминал о сослуживце: «За ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном или Геккерн жил с ним». На гомосексуальную связь между Луи Геккерном и Дантесом также намекал в своем донесении Меттерниху австрийский посол в России граф Фикельмон».
Враги России понимали, кто такой Пушкин, они боятся его гения, уничтожающего их. Неужели не понимал этого секундант? Как он мог, как посмел хладнокровно сопровождать Русского национального гения к месту казни? Быть может, потому и был хладнокровен, что не был Русским и не имел способностей оценить величия творчества Пушкина? Для того, чтобы наверняка убить, выбрали такое расстояние, чтобы промахнуться было невозможно. Тем более Дантес был хорошо подготовленным стрелком. И всё же он не убил, а ранил! Видно, поджилки тряслись, потому и не сумел убить наповал сразу, хотя убивал на лету голубей.
Киллер, хоть и недомужчинка, но стрелял метко. Тут всё продумано.
А секундант? Единственный человек на дуэли, который должен отстаивать интересы Пушкина. Кто он?
Данзас согласился быть секундантом, то есть свидетелем убийства. Да, по негласному кодексу чести вроде бы это обычно и не возбранялось, хотя дуэлянты и свидетели по закону должны были подвергаться суровым наказаниям, вплоть до повешения. Но неужели Данзас не понимал, что случай необычный? Неужели он не видел, что готовится не просто дуэль – готовится подлое убийство, что выбраны жесточайшие условия, когда дуэль практически не может окончиться бескровно.
Неужели он не понимал, что убийство, которое замыслили ещё в 1727 году, готовили специально, ведь близился 25-летний юбилей позора Франции в России. Сам Данзас благополучно прожил 70 лет… Пушкин погиб на 38 году жизни.
Сразу возникает вопрос: почему Данзас, если он действительно был другом Александра Сергеевича, почему отвёз Пушкина на Чёрную речку, а не в Зимний Дворец к Императору? Почему он молча созерцал, как готовится убийство, почему, если был храбр, если действительно любил Россию и Пушкина, что очень сомнительно, не принял удар на себя, почему не разрядил пистолет в Дантеса? Просто Данзас не был другом Пушкина. Разве что завистником… Да и он, как лицеист-инородец не мог оценить гений Пушкина… И вот недавно я нашёл доказательное подтверждение своим выводам о Данзасе.
Доцент Пермской медицинской академии Михаил Иванович Давидов, долгие годы занимавшийся изучением обстоятельств гибели Пушкина, Лермонтова и других русских писателей, опубликовал в 1-м номере журнала «Урал» за 2006 год историческое исследование: «Дуэль и смерть А.С. Пушкина глазами современного хирурга». В материале приведены факты о поведении Данзаса, как секунданта:
«Следует заметить, что секундант Пушкина Данзас никогда не был другом Александра Сергеевича и даже внутренне был чужд ему. Он не пытался ни расстроить поединок, как это сделали, к примеру, в ноябре 1836 г. Жуковский и другие друзья поэта, ни смягчить его условия. Вместе с секундантом противника Д’Аршиаком он пунктуально занялся организацией дуэли a outrance, то есть до смертельного исхода. То, что Данзас не расстроил дуэль и не сохранил таким образом жизнь великому поэту России, ему не могли простить до последних своих дней товарищи по Лицею. Ссыльный декабрист Иван Пущин негодовал: «Если бы я был на месте Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь...».
Тут автор, подойдя к описанию дуэли добросовестнейшим, по сравнению со многими другими исследователи, образом на основе документов доказал то, что как будто бы и вытекало из хода событий, но… всё путала настоятельная просьба самого Пушкина простить Данзаса…
Но читаем далее о том, как вёл себя лицеист и инородец Данзас, который даже не попытался хоть как-то облегчить условия поединка, поистине смертельного.
«1. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам.
2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.
3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии.
4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.
5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.
6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».
Поединок был, как видим, полностью подстроен под Дантеса, который заранее всё продумал, вплоть для упреждающего выстрела ещё на подходе к барьеру. В случае его промаха, Пушкину пришлось бы стрелять с дистанции, на которой он находился в момент выстрела киллера, хоть и одетого в надёжную кольчугу, но всё же и в этом положении опасавшегося за свою драгоценную жизнь. А как иначе мог действовать «жена Геккрена»? По-европейски, не иначе…
Поединок должен был продолжаться до гибели или ранения, столь тяжёлого, при котором уже невозможно было отвечать.
Далее автор указал:
«Использовались гладкоствольные, крупнокалиберные дуэльные пистолеты системы Лепажа, с круглой свинцовой пулей диаметром 1,2 см и массой 17,6 г. Сохранились и экспонируются в музеях14 запасная пуля, взятая из жилетного кармана раненого Пушкина, и пистолеты, на которых стрелялись Пушкин с Дантесом. Это оружие характеризовалось кучным, точным боем, и с расстояния 10 шагов (около 6,5 м) таким отличным стрелкам, как Пушкин и Дантес, промахнуться было практически невозможно. Большое значение имел выбор тактики ведения боя, в частности, учитывая характер оружия, небольшое расстояние между дуэлянтами и превосходную стрелковую подготовку обоих, явное преимущество получал противник, выстреливший первым. Дантесу, вероятно, была известна манера ведения боя Пушкиным, который в предыдущих дуэлях никогда не стрелял первым.
Шёл 5-й час вечера… По сигналу Данзаса… соперники начали сближаться. Пушкин стремительно вышел к барьеру и, несколько повернувшись туловищем, начал целиться в сердце Дантеса. Однако попасть в движущуюся мишень сложнее, и, очевидно, Пушкин ждал окончания подхода соперника к барьеру, чтобы затем сразу сделать выстрел. Хладнокровный Дантес неожиданно выстрелил с ходу, не дойдя 1 шага до барьера, то есть с расстояния 11 шагов (около 7 метров). Целиться в стоявшего на месте Пушкина ему было удобно. К тому же Александр Сергеевич ещё не закончил классический полуоборот, принятый при дуэлях с целью уменьшения площади прицела для противника, его рука с пистолетом была вытянута вперёд, и поэтому правый бок и низ живота были совершенно не защищены…»
Далее уже известно, что Пушкин нашёл в себе силы произвести выстрел, но пуля не пробила кольчугу, хотя и сбила с ног Дантеса.
Автор писал ещё до обнародования сведений о применении Дантесом кольчуги, но, тем не менее, высказал предположение, что был какой-то защитный предмет, помешавший гибели Дантеса:
«В связи с изложенным, зная непорядочность Геккернов, можно ли допустить, что вместо пуговицы был какой-то иной, защищающий тело, предмет? По кодексу дуэльных поединков, стреляющиеся на пистолетах не имели права надевать крахмальное белье, верхнее платье их не должно было состоять из плотных тканей, полагалось снимать с себя медали, медальоны, пояса, помочи, вынуть из карманов кошельки, ключи, бумажники и вообще все, что могло задержать пулю. Свой вопрос оставим открытым».
Ну и далее о том, что «один только Пушкин вёл себя достойно на дуэли.
Несмотря на ранение, вызвавшее кровотечение «Секунданты пассивно наблюдали за раненым, отмечая бледность лица, кистей рук, «расширенный взгляд» (расширение зрачков). Через несколько минут раненый сам пришел в сознание. Врача на дуэль не приглашали, перевязочные средства и медикаменты не захватили. Первая помощь поэтому не была оказана, перевязка не сделана. Это была серьёзная ошибка секунданта, оправдать которую нельзя».
Конечно же, это была не ошибка. С одной стороны, стороны киллера, уверенность, что врач Дантесу не понадобится, ну а Пушкину врача предоставлять не нужно, поскольку поставлена задача его убить. С другой, со стороны Пушкина, полное равнодушие Данзаса к судьбе Пушкина. Он даже не позаботился о враче.
И далее, цитирую:
«Придя в сознание, Пушкин не мог передвигаться самостоятельно (шок, массивная кровопотеря). Носилок и щита не было. Больного с поврежденным тазом подняли с земли и вначале волоком «тащили» к саням (!), затем уложили на шинель и понесли. Однако это оказалось не под силу. Вместе с извозчиками секунданты разобрали забор из тонких жердей и подогнали сани. На всем пути от места дуэли до саней на снегу протянулся кровавый след. Раненого поэта посадили в сани и повезли по тряской, ухабистой дороге. Подобная транспортировка усугубляла явления шока. Лишь через полверсты повстречали карету, подготовленную перед дуэлью для Дантеса, и, не сказав Александру Сергеевичу о её принадлежности, перенесли в неё раненого. Опять недопустимая небрежность Данзаса: для соперника карета была приготовлена, а для лучшего российского поэта – нет. Дантес, отдавая карету, сделал гнусное предложение в обмен скрыть его участие в дуэли, но Данзас не согласился на это». И здесь, как говорится, «торчали уши Европы», хамской, бесчестной и циничной во все времена…
И снова странное решение Данзаса. Давидов пишет:
«Уже в темноте, в 18 часов, смертельно раненного поэта привезли домой. Это была очередная ошибка Данзаса. Раненого нужно было госпитализировать.. .»
«…Иностранные лекари… залечили… Пушкина».
Итак, безжалостный выстрел прогремел… Что же дальше? Какое ранение получил Пушкин? Почему он ушёл из жизни?
Казалось бы, нам давным-давно, ещё со школьной скамьи, внушили, что рана Пушкина была смертельной, и домой его везли умирать…
Но отчего тогда было издано огромное количество книг, доказывающих, что спасти нашего великого поэта было невозможно? Почему не было книг, скажем, о том, что нельзя было спасти «храбрейшего из храбрых» блистательного графа Милорадовича, смертельно раненого на Сенатской площади таким же как Дантес гомосексуалистом и подонком Каховским? Потому что там действительно рана была смертельной и лечение – бессмысленным. И никто не выкрикивал, мол, его «иноземцы-лекари залечили».
Или почему не говорили о том, что врачи-убийцы доделали дело убийц Михаила Юрьевича Лермонтова? Там тоже было всё предельно ясно.
А вот по поводу характера ранения Пушкина тут же возникли сомнения. К примеру, наш современник Борис Моисеевич Шубин в книге «Дополнение к портретам» приводит несколько строк из доклада тайного агента Третьего Отделения Дубельту: «…двое каких-то закричали, что иностранные лекари нарочно залечили господина Пушкина».
Значит, сомнения были у многих, если подобные заявления попали в архив.
Василий Андреевич Жуковский вспоминал:
«Всё население Петербурга, а в особенности… мужичье… страстно жаждало отомстить Дантесу. Никто, от мала до велика, не желал согласиться, что Дантес не был убийцей. Хотели расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор и измена, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить».
Кстати Шубин в «Дополнения к портрету» признаёт жизнеспособность Пушкинского организма. Он пишет:
«Если верно, что продолжительность жизни в известной степени запрограммирована в генах, то Александру Сергеевичу досталась неплохая наследственность:
его знаменитый прадед Абрам Петрович Ганнибал умер на 92 году жизни,
оба его деда, бабушка по линии отца и мать прожили более 60 лет,
а бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и отец – по 73 года;
сестра Ольга, родившаяся на полтора года раньше Александра Сергеевича, пережила его на 30 с лишним лет…
Хорошая наследственность, воспринятая Александром Сергеевичем, была передана его детям:
старшая дочь Мария Александровна прожила 87 лет,
старший сын Александр Александрович, особенно напоминавший внешностью отца, успел отметить 81-ю годовщину,
младшая дочь Наталья прожила 76 лет,
и Григорий Александрович – 70 лет.
Таким образом, – заключил Шубин, – мы можем предположить, что дантесовская пуля настигла поэта на середине его естественного жизненного пути…»
Это очень важное исследование, и выводы, весьма важные. Они доказывают, что враги Пушкина не могли рассчитывать на то, что Русский гений в скором времени может оставить этот мир, а, следовательно, с тревогой предполагали, что он только ещё на взлёте своего творчества и немало послужит делу возрождения Православия, Самодержавия, Народности, борьбу за которые провозгласил Государь Император Николай Первый.
Мы уже убедились в том, что врагам России достать Пушкина оказалось непросто. Поэт был под защитой самого Императора. Но уже раз достали, неужели не приложили все старания, чтобы довести до завершения начатое дело?
Пассивное «лечение» это ведь тоже убийство и это метод, равно, как и заведомо неправильное лечение, безусловно, далеко не новый. Известны весьма серьёзные подозрения, что Императрицу Екатерину Великую её лейб-медик, тоже инородец, умышленно «лечил» так, чтобы тромб оборвался, и она умерла.
Можно привести примеры, связанные со странной смертью Иоанна Грозного, который стал болеть сразу после того, как английская королева Елизавета прислала ему своих медиков. Теперь уже путем исследований останков доказано, что и мать Иоанна Грозного, правительница Елена Васильевна Глинская, и супруга его Анастасия, и сын Иоанн, и сам Царь отравлены сулемой. При весьма странных обстоятельствах ушёл из жизни и Государь Император Николай Первый.
Но вернёмся к раненому. Первым, как известно, прибыл профессор акушерства В.Б. Шольц, который взял по пути Карла Задлера (1801-1877) доктора медицины, главного врача придворного конюшенного госпиталя, предназначенного для службы царского двора (офицеров и нижних чинов). Осмотрев рану, он сделал относительно неё вывод: «Пока ещё ничего нельзя сказать».
Ну а каков вывод вскоре явившегося на сцену Арендта? Все врачи, которые присутствовали в доме Пушкина, считали его мнение наиглавнейшим. Кто же таков Арендт? Чтобы выяснить, чьим слугой он был, достаточно взять «Исторический словарь российских масонов…», изданный Олегом Платоновым. Там свидетельствуется, что Арендт был масоном третьей степени. Не случайно масонская клика Гекернов – Нессельроде – Бенкендорфов поручила ему то, что недоделал злобный, жестокосердный, но трусливый Дантес.
Тотчас после гибели Пушкина светская чернь завопила на все лады: сам, мол, виноват поэт, да ещё виноват Император. Говорят: «на воре шапка горит». Горели шапки на головах вороватых инородцев, оттого и визжали эти навозные черви.
Не потому ли потом представители ордена русской интеллигенции ни с того ни с сего стали доказывать, что Арендт, де, молодец, что лечил правильно, что спасти Пушкина было нельзя, что и у них на головах пылали шапки – нет, не от стыда, а от страха.
И вот как раз эти яростные вопли и заставляют взглянуть, с какой целью раздаются они? Не для того ли, что бы заболтать правду. Если б молчали, скорее б сохранили свою гнусную тайну.
О Данзасе, словно умышленно, забывают. Никаких документов о ходе лечения раны Пушкина никто не оставляет.
Итак, убивали руками Дантеса ненавидевшие Пушкина и Россию Нессельроде, Бенкендорф, Геккерн, лечили руками Арендта и Шольца всё те же лица… Участвовал в лечении ещё и Спасский, которому, как известно, Пушкин тоже не очень не доверял.
Не удивительно, что потом понадобилось привлекать к доказательствам, что Пушкина лечили правильно, знаменитых хирургов Н. Бурденко, С. Юдина, А. Заблудовского, И. Кассирского, причём уже в очень далёкий от смерти поэта советский период. Они пользовались теми сведениями, которые специально подработали для истории Арендт и его компания. В первую очередь масон третьей степени посвящения Арендт, который, даже если бы и хотел – что вряд ли, – не мог ослушаться геккерновской комарильи.
В 1970 году неожиданно разразился оправдательными публикациями некий Ш.И. Удерман. А основание? Описание раны, составленной врагами Пушкина.
Ах, да, ведь у нас свобода слова! Обычно, она достигается таким образом. Промелькнула махонькая публикация в каком-нибудь малотиражном издании, где убедительно и неопровержимо доказывается тот или иной факт. Это беспокоит носителей свободы слова, и они дают команду «фас» изданиям с колоссальными тиражами. И появляются фальшивки, «разоблачающие» скромную, но правдивую публикацию. Вот вам и свобода слова. Сталин давно уже разъяснил это в статье по поводу Проекта новой Конституции СССР. Он писал:
«Наконец, ещё одна особенность новой Конституции. Буржуазные конституции обычно ограничиваются фиксированием прав граждан, не заботясь об условиях осуществления этих прав, о возможностях их осуществления, о средствах их осуществления.
Говорят о равенстве граждан, но забывают, что не может быть действительного равенства между хозяином и рабочим, между помещиком и крестьянином, если у первых имеются богатства и политический вес в обществе, а вторые лишены того и другого, если первые являются эксплуататорами, а вторые – эксплуатируемыми.
Или ещё: говорят о свободе слова, собраний, печати, но забывают, что все эти свободы могут превратиться для рабочего класса в пустой звук, если он лишён возможности иметь в своём распоряжении подходящие помещения для собраний, хорошие типографии, достаточное количество печатной бумаги и т.д.»
Полагаю, что нечего удивляться сотням публикаций с фальшивыми доказательствами невиновности Арендта. Они опровергают публикации научные, но из-за малых тиражей незаметные, авторы которых отнюдь не принадлежат к пресловутому Ордену русской интеллигенции. А орден этот пакостит и по сей день.
Неужели не ясно, что характер ранения, путь, который проложила «интеллигентская» пуля, были известны лишь Арендту и Шольцу, ведь только они и осматривали раненого поэта. Аренд был польского рода, то есть потомком тех зверополяков, которые жестоко, до людоедства, истребляли Русский Народ в годину смутного времени. Тех зверополяков, что разрушали и оскверняли православные святыни, что сожгли Москву, что устраивали резню на московских улицах и в предместьях столицы.
И уж совсем непонятно звучит такая вот фраза из книги Б.Н. Шубина: «Звание Арендта – придворный лейб-медик – не должно вас смущать, – пытается убедить он читателей. – Нельзя считать, что приставка «лейб» всегда равнозначна низким нравственным качествам врача».
Надо же, иногда, оказывается, среди лейб-медиков – отравителей Русских Государей и многих великих людей Русских, попадались и те, кто не имели низких нравственных качеств. До этих фраз Шубина никак в голову не приходило думать о том, что лейб-медик – обязательно подонок. Желание Шубина выгородить именно Арендта, изъяв его из шеренги убийц, настраивает на определённые размышления.
Вместо того, чтобы исследовать путь пули, блуждавшей по телу поэта, путь, зафиксированный лишь Арендтом, не лучше ли исследовать движение самого потомка зверополяков по Русской жизни и подивиться его блестящей карьере. Сын лекаря, осевшего в Казани, заканчивает Петербургскую медико-хирургическую академию, участвует в кампаниях против Наполеона и остаётся во Франции в качестве главного врача оккупационного корпуса. Ну а Франция – гнездо вольтерьянства, одно из главных гнёзд масонства. Известно, что строевые офицеры и те попали под влияние тайных обществ и воспылали желанием совершить революцию в России, а уж потомок зверополяков, люто ненавидевших России, и подавно.
Недаром в 1821 году, когда Арендт вернулся в Россию, комитет министров произвёл его без всяких экзаменов, то есть в нарушении порядка, в доктора медицины и хирургии. Нужно знать, кто входил в тогдашний комитет министров. Первые скрипки играли в нём Нессельроде и другие выдающиеся масоны.
В тот трагический для России день, когда коварная Европа разрядила руками Дантеса свой пистолет, сразив Русского гения, Император Николай Павлович отметил в своём дневнике:
«Арендт пишет, что Пушкин проживёт ещё несколько часов. Я теряю в нём самого замечательного человека России».
Арендт уже всё решил, и нам неведомо, какими методами он собирался исполнить то, о чём писал. Но он спешил, спешил потому, что Государь мог в любую минуту прислать другого медика, если, конечно, таковые в России были – медицина всё ещё оставалась прерогативой инородцев.
Но Арендт ошибся. Пушкину неожиданно стало лучше – могучий организм поэта боролся и, если бы медики оказали помощь в этой борьбе, Россия не потеряла своего духовного вождя.
Сегодня нередко можно слышать возражения медиков, мол, что вы говорите – рана была смертельной. На вопрос же, откуда это известно, все ссылаются на… Арендта! А мы уже разобрались, кто такой Арендт. То, что было нужно ему, то он и изложил, описывая рану.
Интересен ещё один момент, просочившийся в печать. Шольц, который, возможно, и не был связан с убийцами, впоследствии осуждал Арендта за то, что тот уже после первого осмотра заявил Пушкину о неизбежности смерти. Шольц говорил, что Пушкин, поначалу, не хотел верить, что умрёт, но Арендт убеждал его в этом.
А ведь известно – и ныне очень много публикаций на эту тему, – что внутри каждого тела скрыт уникальный, неведомый нам пока механизм самоисцеления. Возможно, нам подарил его Бог!
Что же касается заявления Арендта Пушкину, «честного заявления», что он умрёт, то есть удивительные примеры и чудодейственных исцелений и безвременных смертей. Вот один такой пример…
«Родились три девочки. Роды принимала акушерка, в пятницу 13-го. И она стала утверждать, что все дети, рожденные в этот день, подвержены порче. «Первая, – сказала она, – умрёт до своего 16-летия. Вторая – до 21 года. Третья – до 23 лет». И, как выяснилось позже, первая девочка умерла за день до своего 16-летия, вторая – до 21 года. А третья, зная, что случилось с двумя предыдущими, за день до своего 23-го дня рождения попала в больницу с гипервентиляционным синдромом и спрашивала врачей: «Я ведь выживу?». Той же ночью её обнаружили мертвой».
И напротив. Возможны удивительные исцеления, потому что, согласно исследованиям врачей «наши тела имеют свою собственную врожденную систему по самообслуживанию и ремонту»(Врачи подтверждают: от любой болезни... pandoraopen.ru›…vrachi…bolezni…izbavitsya…mysli).
И вот что удивительно. Шольц написал, что не надо было заявлять столь категорично, ибо вера зачастую спасает и не в таких положениях, что Пушкин мог выжить.
Значит, Арендт лгал о том, что рана изначально была смертельной. Слова Шольца свидетельствуют о том, что Пушкин мог выжить! Значит, Аренд постарался сделать так, чтобы она стала смертельной. Ведь и в публикациях иногда проскальзывает, что Пушкин был ранен не в область живота, а в бедро. Это уж Аренд настаивал на таком характере ранения, который не оставляет надежд. Интересно замечание Шольца о том, что вера, порой, спасает и безнадёжно больного, и вполне могла спасти Пушкина. Добавим к тому, что «любой больной человек может выздороветь только в том случае, если в победу над болезнью верит не только он сам, но и его родные, и его лечащий врач (пусть лучше врёт, чем говорит горькую правду). Это тоже доказывают исследования».
Заметьте, при советской власти, при которой со всеми её недостатками, всё же на деле выполнялся девиз «человек человеку друг, товарищ и брат», считали важным скрывать от больного самые опасные заболевания, а особенно их наиболее вероятный исход. При античеловечной демократии, где девиз не по оглашению – по оглашению-то как раз всё в расписываемых СМИ преимуществах, – а по умолчанию, в реальности: «человек человеку волк», стремятся не просто сообщать, а, якобы, из добрых побуждений, запугивать больных, находя тому самые веские причины. А причина одна – нынешняя медицина, особенно терапия, в большинстве случаев является коммерческим предприятием по сопровождению человека, попавшего ей в лапы, до гроба.
Теперь представим себе другой исход. Арендт приходит к раненому Пушкину и излечивает его. Что ему в этом случае скажут его хозяева из салона Нессельроде, старания которых окажутся напрасными? Может ли масон невысокого градуса действовать наперекор своим тайным хозяевам? Так думать просто смешно. Арендт обязан был выполнить задачу, и он её выполнил.
Арендт убедил Пушкина в том, что жить ему осталось совсем недолго…
Неужели он не знал истины, известной каждому лекарю, если это не достойный Лекарь, а не врач-рвач, как любит говорить Михаил Задорнов – врач от слова врать. А между тем, иногда для пользы дела, надо и солгать! В уже цитируемом выше материале указано: «Когда людям говорят, что им дают эффективное лекарство, но вместо этого вводят инъекции физраствора или дают пилюли с обычным сахаром, это часто оказывается даже более эффективно, чем настоящая хирургия».
Ну а мы уже разобрали примеры когда «мысли влияют на нашу физиологию» и что «с помощью одной только силы мысли мы в состоянии вылечиться от любой болезни».
Пушкин написал Государю письмо, в котором просил прощения за то, что не сдержал слова и дрался на дуэли. Государь ответил: «Если судьба нас уже более в сём мире не сведёт, то прими моё и совершенное прощение, и последний совет: умереть христианином. Что касается жены и твоих детей, ты можешь быть спокоен – я беру на себя устроить их судьбу».
После смерти Пушкина Император заплатил около ста тысяч рублей по долгам поэта и выдал жене его десять тысяч рублей серебром. Он приказал также издать за счёт государства полное собрание сочинений поэта.
Об убийце же Император писал:
«Рука, державшая пистолет, направленный в нашего великого поэта, принадлежала человеку, совершенно неспособному оценить того, в кого он целил. Эта рука не дрогнула от сознания величия того гения, голос которого он заставил замолкнуть».
С чувством брезгливости отдал Император приказ:
«…Рядового Геккерна (Дантеса), как нерусского подданного, выслать с жандармами за границу, отобрав офицерский патент».
Как созвучны с мнением Императора слова Лермонтова, написавшего в знаменитом своём стихотворении, что убийца «не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал».
Малограмотный интриган, неуч, ферт, в котором мужские начала были притушены ласками «усыновившего» его Геккерна, вполне возможно, и не понимал величия Пушкина, как зачастую киллер не понимает, да и не хочет понимать, кто тот, в кого он стреляет. Но величие Русского гения вполне осознавали те, кто направлял руку геккернского сожителя.
Император потребовал наказания Данзаса. Но наказание оказалось символичным – два месяца гауптвахты, а затем отправка на Кавказ. Кстати, когда Лермонтов в 1841 году получил назначение туда же, Данзас добивался перевода его в свой батальон. Зачем? Это наводит на мысли.
Лермонтову светская чернь не простила разоблачения убийц Пушкина. За ним охотились. И он погиб, якобы, на дуэли, хотя дуэль и в этом случае явилась удобным прикрытием убийства.
Узнав о гибели Лермонтова, Император Николай Первый с горечью сказал:
«Как жаль, что погиб тот, кто мог нам заменить Пушкина!».
Автор «Истории русского масонства» Борис Башилов с удивительной точностью подметил:
«Со смертью Пушкина Россия потеряла духовного вождя, который мог увести её с навязанного Петром Первым ложного пути подражания европейской культуре. Но Пушкин был намеренно убит врагами того национального направления, которое он выражал, и после его смерти, – на смену запрещённому масонству поднялся его духовный отпрыск – Орден русской интеллигенции. Интеллигенция сделала символом своей веры – все европейские философские и политические течения, и с яростным фанатизмом повела своих членов на дальнейший штурм Православия и Самодержавия».
Русский религиозный философ Георгий Петрович Федотов отметил, что «с весьма малой погрешностью можно утверждать – русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина».
После этого все Русские традиции, оставшиеся без могучей защиты Пушкина, стали оплёвываться с ещё большей силой, и ничто Русское не заслуживало ни любви, ни уважения, ни понимания долгие годы.
И недаром замечательный Русский исследователь старины Иван Егорович Забелин писал в XIX веке:
«Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю и о каких–либо характерах и идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем… Вся наша история есть тёмное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает большинство образованных Русских людей… Но не за это ли самое большинство русской образованности несёт, может быть, очень справедливый укор, что оно не имеет почвы под собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону».
Да, увы, так было и чем всё закончилось, теперь каждому известно.
Великая контрреволюция, начатая Императором Николаем Первым против сокрушительной для страны петровской революции чужебесия, лишилась своего идеолога и трибуна.
Рукой Дантеса, направляемой Нессельродами, Бенкендорфом и Геккерном, был нанесён серьёзный удар Русскому Православию, Русскому Самодержавию, Русским национальным традициям, Русскому возрождению и Великой Русской национальной контрреволюции, начатой Величайшим в истории Отечества Государем Николаем Павловичем 14 декабря 1825 года на Сенатской площади.
И как с горьким сарказмом заметил один из современных публицистов, рукой денацианализированного Дантеса Чебурашкина, направляемой крокодилом Геккерном, был нанесён жестокий удар по так и не родившимся наследникам Золотого Петушка и Царевны Лебедь, Серого Волка и Кота Учёного, удар по всем тем обаятельным пушкинским героям, убитым вместе с поэтом и потому так и на ставшим известными нам и любимыми нами.
Но врагам России не удалось сломить Русский дух, возрождённый Пушкиным. Философ Василий Розанов справедливо заметил, что «Россия, большинство Русских людей… спокойно и до конца может питаться и жить одним Пушкиным, то есть Пушкин может быть таким же духовным родителем для России, как для Греции Гомер». И напрасно враги России считают, что дело Императора Николая первого и Русского гения Пушкина погибло. Великая контрреволюция продолжается, хотя и с переменным успехом. Лишь слабые ростки питали её в лице немногочисленных славянофилов в XIX веке, но интеллигенты и западники получили от марксизма и троцкизма урок. Революция смела их, готовивших эту самую революцию с безжалостной жестокостью.
Николай Михайлович Смирнов как бы повёл итог в своих воспоминаниях:
«Дантес был предан военному суду и разжалован в солдаты. На его плечи накинули солдатскую шинель, и фельдъегерь отвёз его за границу как подданного нерусского. Барон Гекерен, голландский посланник, должен был оставить своё место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции, и семь осьмых общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нём его обыкновенное нахальство, но не могла истребить все его подлые страсти, его барышничество: перед отъездом он публиковал о продаже всей своей движимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая сам вещи и записывая продажу. Многие воспользовались сим случаем, чтобы сделать ему оскорбления. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена; один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял его из-под него…».
И о Дантесе: «…небо наказало даже его преступную руку. Однажды на охоте он протянул её, показывая что-то своему товарищу, как вдруг выстрел, и пуля попала прямо в руку».
«Такой подлой твари как Дантес, земля ещё не носила», – сказал один из современников, узнав о судебном иске Дантеса к семье Гончаровых, причём иск, который распространялся и на семью Пушкиных. Этот подонок пытался взыскать в свою пользу наследство покойной жены. Причём у него хватило чисто европейской наглости писать Императору Николаю Iс просьбой оказания содействия о взыскании средств с детей Пушкина! К счастью, в 1858 году опека над детьми А. С. Пушкина приняла решение об отклонении претензии.
Впрочем, Франция высоко оценила киллера. Конечно не напрямую за убийство поэта, Дантес получил звание офицера Почётного легиона, а позже был повышен в звании до командора. Кроме того он стал пожизненным сенатором Франции! Такова она, Европа, причём, во все времена.
Ну а преступления французского киллера убийством Русского гения не ограничивались.
Одна из трёх дочерей Дантеса и Екатерины Николаевны (урождённой Гончаровой) Леония-Шарлотта была увлечена точными науками и сама, по учебникам, прошла курс Политехнического института. Мало того, она освоила русский язык настолько, что могла свободно разговаривать на нём, как и на французском. С восхищение читала в подлиннике произведения Пушкина, который был супругом её родной тётушки Натальи Николаевны. И не только произведения Александра Сергеевича, но и всё, что тогда писали о дуэли, многим показавшейся весьма странной. Конечно, свидетелей было маловато, но, хорошо подготовив убийство, враги Пушкина и России упустили важный момент – не составили заранее фальшивку о её ходе. Да и вряд ли могли, ведь для того, чтобы она была достоверной, необходимо было привлечь не только медиков, которые там уж постарались выписать то, что надо, а физиков, оружейников, специалистов, которые могли бы разобраться с баллистической траекторией полёта пули. Дочь Дюма любившая отца и возмущавшаяся тем, что его обвиняют в убийстве, считала: какой же убийца? На дуэли оба противника в равной степени могут быть убитым или убившим.
Но технические знания позволили ей провести расчёты. И тогда она всё поняла, и сама назвала отца убийцей. Она-то уж смогла оценить ситуацию и понять, что тяжёлая пуля, выпущенная из пистолета двенадцатого калибра, не могла не убить человека при том попадании, которое было на дуэли. Пушкин получил тяжелейшее ранение, Дантес же отделался лёгкой контузией. Кстати и согласие на ответный выстрел раненного Пушкина, выставляемый кое-кем, как благородство, свидетельствует о том, что Дантесу бояться было нечего. Бронежилет был надёжен. Ну а придуманная пуговица защитить не могла – это Леония-Шарлотта определила с помощью всё тех же расчётов.
Но она не учла одного. Её отец – недомужчинка Дантес, не имел ни стыда, ни совести, да и вообще не обладал человеческими качествами. Выслушав обвинения, он упёк дочь в сумасшедший дом, благо от матушки её, Екатерины Николаевны, он уж давно освободился, похоронив её в 1843 году, в возрасте 34 лет!!!
Ну а дочь… На дочь и так уже смотрели с некоторой подозрительностью, как и на всех женщин, увлекающихся точными науками. Этим и воспользовался профессиональный убийца, удостоенный высших отличий Франции. В доказательство повреждения ума дочери привёл, среди прочих выдумок, то, что дочь поклонялась всему русскому, и главное, якобы, отбивала поклоны и читала молитвы перед портретом Пушкина, поставленного в её комнате вместо иконы. Портрет висел на стене действительно. Да и много ли надо, чтобы упечь неугодную личность в сумасшедший дом? Для того ведь ни судов, ни адвокатов не надобно. А вот Дантесу необходимо было уничтожить все записи и расчёты дочери, полностью изобличающие его.
Власти Франции, наградившие своего киллера за убийство русского гения, легко приняли все подлоги, связанные с обвинением в сумасшествии. Там и уморили Леонию-Шарлотту на основе уже в ту пору достаточно развитых «европейских ценностей» и «прав человека».
Но у Дантеса не было Отечества. Такие «всегда многим служат», разумеется, за деньги. В Википедии сообщаются любопытные данные и о службе России. Возможно, жизнь себе Дантес выторговал, предложив услуги секретного характера: «Многие годы Дантес был связан с русским посольством в Париже и являлся его осведомителем: посол Киселёв писал канцлеру Нессельроде 28 мая 1852 года:
«Господин Дантес думает, и я разделяю его мнение, что Президент (Луи-Наполеон) кончит тем, что провозгласит империю».
1 (13) марта 1881 года, в воскресенье, князь Орлов в шифрованной телеграмме министру иностранных дел передал следующее:
«Барон Геккерн-д’Антес сообщает сведение, полученное им из Женевы, как он полагает, из верного источника: женевские нигилисты утверждают, что большой удар будет нанесён в понедельник».
Речь шла о покушении на Императора Александра II».
"Лучше замуж за кучера, чем за Наполеона…"
"Лучше замуж за кучера, чем за Наполеона…"
Глава из книги "Любовные драмы у трона Романовых"
Казалось бы, императору было просто необходимо выдать свою сестру Екатерину Павловну за кого угодно, только бы обезопасить свой трон, да и свою жизнь – тоже. Вряд ли он мог считать, что Катиш, несомненно, желая занять престол, хочет его погибели. Но логика дворцового переворота неумолима. Он ведь тоже не желал смерти своего отца Павла Петровича, он ведь даже просил заговорщиков пообещать ему, что свергаемого Императора оставят в здравии. Но верил ли в то, что они выполнят обещание?
Конечно, он, хоть и сын своего отца по крови, сыном его по духу не был. И отваги не хватало, и твёрдости, да и порядочности тоже. Он, конечно, не признавался себе в том, что, мягко говоря, недостаточно храбр. Но разве мог забыть, как вдень Аустерлицкого сражения в панике бежал с поля брани, и как адъютанты нашли его, рыдающего, в разорванном мундире и с пораненным при падении с коня лицом далеко в тылу.
Это было известно не только ему самому, это было широко известно в обществе, и недаром впоследствии Александр Сергеевич Пушкин, который «подсвистывал ему до гроба», хоть и мнимого, написал...
Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Аустерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал…
В 1807 году до священной памяти Двенадцатого года было ещё далеко, но Императору было немало причин дрожать на протяжении всех лет, начиная с той страшной ночи с 11 на 12 марта, и вплоть до событий, последовавших за Тильзитским мирным договором.
Возмущённое его поведением русское общество не ведало, кто он на самом деле. Трудно представить себе, как бы развернулись события, если бы это стало известно.
Одним из первых, если не первым, просил руки Екатерины Павловны Император Наполеон. Окончательно решив развестись с Жозефиной, он сразу определил, что выгоднее всего ему породниться с Россией.
Разговоры о сватовстве начались ещё во время мирных переговоров в Тильзите. Но они представляли собой разве что разведку боем.
Ну а потом было у Екатерины Павловны «златое лето», сменившееся «златой осенью» с Багратионом. И вдруг в 1808 году сватовство нависло над ней уже со всею серьёзностью. В Санкт-Петербург приехали сваты из Парижа.
Император не слишком радовался этому событию, поскольку сватовство с Наполеоном, с которым они всего лишь год назад вели мирные переговоры, заключились Тильзитский мир, ставило его в весьма сложное положение. Они клялись в вечной дружбе, назывались братьями, но брататься с Бонапартом Александр не мог. Не потому что этого, скорее всего, и не хотел. И не только потому, что Аустерлицкий позор Александра навсегда разрубил возможность искренней дружбы. Он за год, прошедший с заключения мирного договора, успел убедиться в неприятии обществом политики сближения с Францией.
На первый взгляд может показаться непонятным, почему это на рубеже веков русско-французский союз был благом для России, а в 1807 стал позором. Сближение с Францией при Павле Первом происходило на фоне предательства союзниками русских интересов. В 1807 году союзники вели себя нисколько не лучше. Но тогда союз был бы почти равным, со значительным приоритетом России, поскольку Суворов в двух своих знаменитых походах разбил всех без исключения французских полководцев. А неудачи русских войск в Швейцарии не имели серьёзного значения. Теперь всё было с точностью до наоборот. Союз устанавливался на фоне Аустерлица и Фридланда.
Так может быть брачный союз Наполеона и великой княгини Екатерины Павловны мог поправить дело?
Тем не менее, и Александр в глубине души не хотел его, хотя и ссылался на то, что окончательное слово должно быть за Марией Фёдоровной.
Она же прямо заявила в письме Александру:
«…Вы знаете, что счастье, радость и спокойствие моей жизни зависят от присутствия Като. Она мое дитя, мой друг, моя подруга, отрада моих дней: мое личное счастье рушится, если она уйдёт от меня, но так как она думает, что найдёт счастье своё в этом браке, и так как я надеюсь тоже на это, я забываю себя и думаю только о Като».
Конечно, она понимала, что замужество неизбежно, а потому высказала такие свои мысли по этому поводу: «Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, надо только, чтобы её супруг имел сердечные качества»,
Наполеон сердечных качеств не имел, как теперь говорят, по определению. Откуда они у корсиканского чудовища? Честь и славу у него отождествлялись с грабежом и разбоем.В своём приказе войскам перед походом в Италию он провозгласил: «Я вас поведу в самые плодородные долины мира, богатые провинции, большие города будут в вашей власти, вы там найдёте честь, славу, богатство».
Мария Фёдоровна пришла в ужас от одного только известия о сватовстве корсиканского чудовища к Екатерине Павловне. Ну а сама Катиш ответила категорично: «Я скорее выйду замуж за последнего русского истопника, чем за этого безродного тирана – корсиканца».
Мария Фёдоровна тоже считала Наполеона исчадием зла. Ну а Катиш просто презирала его, называя безродным тираном и корсиканским чудовищем.
Конечно, пропаганда делала своё дело. Из Бонапарта лепили великого, но действовали сказки только на широкие круги обывателей. И Марии Фёдоровне, и Екатерине Павловне, да и, конечно, Императору было известно истинное лицо этого узурпатора. Пора, вкратце, поведать его истории…
Прежде всего, сразу отмечу, обращаясь к наполеонолюбцам, коих, увы, у нас немало, что не я нарёк «корсиканское чудовище» замухрышкой. Так его назвали французские генералы Ожеро, Массена и Серюрье. А за какие «подвиги», расскажу далее. Ну а теперь о том, с чего начались сказки и о том, кого впоследствии сами же его соотечественники назвали «французским Гитлером»
Наверное, многие слышали сказки про Тулон, про тулонский мост, про подвиг молодого Бонапарта.
Суть сказки такова: сражаясь на стороне якобинцев, Наполеон отличился в бою за Тулон, за что получил чин бригадного генерала в 24 года. И вот, несмотря на то, что тулонский «подвиг» давно уже оспорен историками, богоборцы-наполеонолюбцы продолжают им восхищаться. Пора взглянуть на сии деяния объективно, на основании документов той грозной и кровавой эпохи.
Невероятный взлёт после Тулона. В чем причина? За что такие почести? А очень просто – тёмные силы избрали Наполеона в исполнители своей воли, а потому началось накачивание его авторитета.
Была сочинена версия, что «генеральный план» атаки форта Эгийетт, господствующий над рейдом Тулона, принадлежит именно Наполеону. Однако письмо самого Бонапарта, отправленное из Тулона, свидетельствует об ином.
Наполеон писал:
«Граждане представители! С поля славы, хотя в крови и в крови изменников, возвещаю вам с радостью, что Франция отмщена. Ни возраст, ни пол не находили пощады. Те, которые были только ранены пушками революции, умерщвлены мечом вольности и штыком равенства. Поклон и почтение. Брут Бонапарт, гражданин Санкюлот».
Вот в чём, на самом деле заключался лозунг о равенстве, вольности и братстве, пропагандируемый якобинцами. Он означал равенство всех, кроме шайки революционеров. То есть равенство всех перед пушками и штыками этих самых революционеров.
Это страшное донесение Наполеон написал прямо на банкете, состоявшемся по случаю победы над тулонскими безоружными рабочими, которых сначала заманили на Марсово поле под предлогом переписи на работу, а затем перестреляли и перекололи. Три тысячи безвинных жертв на совести «гения» и «благодетеля», коим привыкли выставлять Наполеона не только зарубежные, но и некоторые российские историки, принадлежащие к так называемому ордену русской интеллигенции.
Огюстен Робеспьер, брат кровавого Робеспьера, палача Франции, восхищался жестокостью Наполеона. Он был рядом с палачом, истребившим около трёх тысяч тулонцев. Его восторженное донесение в Париж и принесло чин бригадного генерала будущему тирану Европы.
Благодаря лжеисторикам Наполеон не стал именоваться кровавым, а людьми безграмотными почитается гением. В то время как Николай Второй, неповинный ни в событиях кровавого воскресенья, ни в Ленском расстреле, проводниками кулачного права, проводимого под видом «диктатуры пролетариата» был бессовестно именован кровавым. Между тем кумир этих проводников кулачного права Троцкий организовал в Крыму свой Тулон после разгрома Врангеля, когда были выявлены и собраны русские офицеры, поверившие Советскому правительству и оставшиеся в России, и умерщвлены многими и многими десятками тысяч самым жестоким образом. Ледоруб, опустившийся на голову Троцкого, когда пришло время, стал заслуженным ответом Провидения на его жестокие деяния и изуверства.
После «удачного» тулонского взлёта Наполеона ожидали серьёзные неприятности. Революция, замешанная на подлости и бесчестье, споткнулась. Якобинцев свергли так называемые термидорианцы. А, как известно, революционеры разных кланов всегда жестоко пожирали друг друга.
Бонапарт оказался за решёткой вместе с его не в меру распоясавшейся шайкой убийц. И тогда он, не задумываясь, предложил свои услуги термидорианцам. Им нужны были люди, на штыках которых можно было удержаться во власти. Наполеону предложили пост командира бригады, но «молодому дарованию» этого показалось мало. Он начал конфликтовать с командованием, требуя более высокой должности, за что был уволен. Но ведь не казнён! Предательские и зачастую лживые показания на бывших соратников спасли жизнь. Бонапарт возвратился к коммерческой деятельности, торговал домами. Дело шло из рук вон плохо, и достаток его был невелик.
Между тем, начался новый виток борьбы за власть в истерзанной революционными бесчинствами Франции. Директория вынуждена была отстаивать свою власть. Против неё выступали так называемые роялисты, сумевшие взбунтовать парижан и призвать их к оружию. Так уж всегда случалось, что простые люди, легко обманываемые «борцами за свободу и равенство», натыкались на орудие той самой свободы – беспощадный революционный штык.
Узнав о готовящемся восстании роялистов, термидорианцы наделили чрезвычайными полномочиями некоего Барраса, участника кровавой резни в Тулоне. Тот сразу вспомнил о 24-летнем Бонапарте, таком же изменнике и садисте, как и он сам. Баррас сдружился с ним. Бонапарт даже успел оказать ему услугу: Баррас сбагрил молодому, но весьма уродливому коротышке-Бонапарту опостылевшую любовницу – вдову казнённого якобинцами генерала Богарне.
Это была дама уже не первой свежести, причём, старше Наполеона на шесть лет. Полное имя её Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери или Роз. Наполеону трудно было запомнить весь этот длинный словесный ряд, напоминающий отдельные клички, и он стал звать её Жозефиной. Родом она была с небольшого острова Мартиника, о котором в начале ХХ века была сложена легенда о гибели всего живого на острове, которая… является тщательно скрываемой правдой. Впоследствии, когда Наполеон провозгласил себя императором Франции, она стала рассказывать, будто в детстве гадалка напророчила ей высокое положение, которое «выше, чем королева».
Первый раз она вышла замуж ещё в 1779 году за виконта Александра де Богарне. Было ей тогда всего шестнадцать лет. От Багарне она родила сына и дочь. Сын знаменит тем, что участвуя в нашествии на Россию, после Бородинского сражения занял Сторожевский монастырь, где ночью явился ему святой преподобный Савва Сторожевский и потребовал, чтобы всё награбленное было немедленно возвращено монастырю. Савва Сторожевский обещал, что если это его повеление будет исполнено, Евгений Богарне вернётся живым из России, умрёт своей смертью, а потомки его в грядущем посетят Москву и побывают в монастыре. Богарне приказал немедленно возвратить монастырю всё, что было оттуда украдено, и выставил караулы. Пророчество исполнилось…
Детей Жозефина воспитывала одна, потому что уже через шесть лет после замужества развелась с мужем.
Но когда в 1789 году началась революция, и Александр Богарне сделался депутатом Генеральных штатов, Жозефина использовала высокое положение бывшего супруга и вернулась в высший свет.
Александр Богарне был, быть может, единственным нормальным политиком из оголтелой революционной банды. Он выступал против репрессий королевской семьи, поддерживал третье сословие, сражался с интервентами, пытавшимися возвратить королевскую власть во Франции.
В 1794 году генерал Богарне стал командующим Рейнской армией, но вскоре началось изгнание из армии дворян, и он поспешил уйти в отставку. Это не спасло. Закончилось всё доносом, арестом и гильотиной. Приговорили в смертной казни и Жозефину. Но тут случился новый переворот, и казнены уже были Робеспьер и его маниакальные сообщники.
Тут-то и стала Жозефина любовницей Барраса. Словом, у возрождающегося французского трона любовных драм и приключений было предостаточно.
Знакомство с Бонапартом произошло в 1795 году. Тогда-то Баррас и смог избавиться от своей не в меру расточительной любовницы, которая была ему уже в тягость. В марте Наполеон, взвесивший все выгоды от возможного брака с Жозефиной, сделал ей предложение, и после бракосочетания усыновил её детей. Всё это избавило Барраса от неприятностей, которые уже назревали из-за этой связи. За столь деликатную услугу Бонапарт был вознаграждён чином командующего войсками, призванными в Париж для подавления восстания рабочих.
В своих воспоминаниях, которые он писал в ссылке, Наполеон отметил:
«Моя женитьба на мадам де Богарне позволила мне установить контакт с целой партией, необходимой для установления «национального единения» – одного из принципиальных и чрезвычайно важных пунктов моей администрации. Без моей жены я не мог бы достичь взаимопонимания с этой партией».
Очередным шагом по карьерной лестнице было назначение на подавление восстания в Париже.
Ничего святого в этом человеке не было – лишь ожесточённое желание убивать. Он продумал всё с жестокостью и коварством. Заранее расставил на улицах Парижа пушки и замаскировал их до времени. А когда горожане, рабочие, ремесленники вышли на улицы, расстрелял их в упор. Реки крови текли по узким Парижским улицам, по которым обычно в восемнадцатом веке ещё текли другие ручейки от опрокидываемых в окна ночных ваз. У просвещённой Европы в ту пору туалетов ещё не было – не изобрели..
Жестокость Бонапарта потрясла Европу. Огнём в упор он превратил в кровавое месиво тысячи парижан, обманутых сначала якобинцами, затем термидорианцами, а теперь и роялистами.
Директория не скупилась на награды. Бонапарт получил солидное денежное вознаграждение, но пока ещё не разбогател, а лишь ещё более распалил свою алчность. Уже тогда он понял, что состояние легче нажить, ограбив не свой, а какой-то другой народ, ибо народ Франции был уже ограблен шайками революционеров, сменявшими одна другую.
Стало быть, нажиться можно лишь путём агрессии. Осталось только убедить в том своих покровителей. Помогла сожительница, та самая, бывшая любовница Барраса Жозефина Богарне, тоже не отличавшаяся высокой нравственностью. Она попросила Барраса назначить Бонапарта командующим Итальянской армией.
И вот 12 марта 1796 года будущий миллионер отправился в путь за первыми серьёзными капиталами. Тогда же Екатерина Великая обратила серьёзное внимание на новоявленного грабителя и убийцу.
Весьма характерен первый приказ Наполеона по армии. Принципов, изложенных в нём, Наполеон затем придерживался всю свою жизнь.
«Я вас поведу в самые плодородные на свете равнины! В вашей власти будут богатые провинции, большие города! Вы там найдёте честь, славу и богатство!»
Наполеон отождествлял такие несопоставимые понятия как честь и богатство. Ведь богатство можно было «найти» лишь одним путём – путём мародерства. Грабежи поощрялись в армии – вот одна из причин её быстрого развала и деморализации после Бородинского сражения.
Но пока был успех, была и дисциплина. В походе в «богатые провинции» Италии, Наполеон разбил сначала сардинцев, затем австрийцев, пленил войска папы римского и приступил к главному своему делу – обложил все захваченные «большие города» контрибуцией, значительную часть которой забрал лично себе. Впрочем, контрибуция была столь велика, что поправила финансовое положение Франции и укрепила влияние Наполеона в правительстве, где, естественно, закрыли глаза на то, что сам он сказочно разбогател. Ну а как иначе… Не было у правительства ограбленной им же Франции ни гроша, а вдруг – алтын…
Далее начались грабежи музеев. А грабить было что: шедевры искусства, драгоценности, старинные книги… куда всё это подевалось? Кому досталось? Сначала всё бесследно исчезло, но потом, постепенно, стало всплывать в богатейших домах французских толстосумов.
Вот один только факт…
До начала кампании Наполеон был небогат, а вернувшись во Францию после похода, разместил в банках баснословные средства. В 1799 году у него было в различных банках на счетах 30 миллионов франков – сумма баснословная. Вот таков революционер…
Награбленные миллионы ещё более сблизили его с крупной буржуазией, которая уже имела значительное влияние в Директории, но пока не обладала всей полнотой власти. Впрочем, разногласия ещё не были принципиальными. В главном буржуазия Франции была едина. На первый план выдвинулась борьба с крупными соперниками на международном рынке и, прежде всего, с Англией. В Италии, куда Жозефина выехала в сопровождении адъютанта Наполеона и своего любовника, измена открылась.
Наполеон простил жену, потому что важнее было делать карьеру. Измены продолжались, однако безродный коротышка вынужден был их прощать. Единственным утешением для него было то, что и он завёл
Двадцатилетнюю любовницу Маргариту-Полину Бель-Иль, которая была женой офицеры его армии. Лиха беда начало. Неверность жены подтолкнула к постоянным любовным связям.
А вот теперь представим, каково было бы Екатерине Павловне, если бы она вышла замуж за Наполеона? Её цельная натура, чувство собственного достоинство, её принципиальность не позволили бы мириться, не только с циничностью, лицемерием и алчностью мужа, но и с его неверностью. Позже мы ещё коснёмся её отношения к этому важному семейному вопросу.
Ну а цинизм Наполеона не только ей, многим бы в России мог показаться чем-то отвратительным. В России измены не прощались. Они обычно заканчивались в лучшем случае разводами, в худшем – дуэлями, хотя и после наказания совратителя развод был неминуем.
Конечно, залётные инородцы вносили некоторые европейские принципы в этот вопрос, но делали это именно те, кто явился Россию «на ловлю счастья и чинов». К примеру, «остзейское чудовище» Беннигсен, которому, по отзыву современников, просто нельзя было изменять – настолько он был отвратителен, – узнав о том, что четвёртая жена – первые три просто сбежали – наставила ему рога с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, просто «невзлюбил Кутузова», ну и отомстил в канун Бородинского сражения. Он помешал полнейшему разгрому наполеоновской «великой» банды, выведя из Утицкого леса скрытый там резерв, который был предназначен для «гибельного» удара по французам, когда они увязнут на Семёновских (Багратионовых) флешах. Я взял в кавычки словом «гибельного», потому что это определение принадлежит талантливому французскому полководцу и военачальнику маршалу Бертье, виновнику всех побед «безродного корсиканца». Бертье признал, что появление к концу боя за Семёновские флеши «скрытого отряда, по плану Кутузова, на фланге и в тылу», было бы «для французов гибельно».
Чтобы лучше понять подлость Беннигсена, конечно, не только по отношению к Кутузову, но и к приютившей и вскормившей это чудовище России, представьте себе, как могла окончиться Куликовская битва, если бы нашёлся в окружении Дмитрия Иоанновича вот этакий предатель, который заранее бы вывел из Дубравы засадный полк?
Так кто же он, «безродный» женишок, получивший от ворот поворот?
Несмотря на столь желанное для французов дозволение грабить, не все офицеры Итальянской армии заметили появление парижского генерала. Боевые командиры считали его выскочкой, поскольку сразу определили, что в военном деле он полнейший профан. Конечно, расставить пушки на узких парижских улицах, что бы превратить в кровавое месиво тысячи парижан, он сумел. А вот как воевать с вооруженным противником, не ведал. Ну а такое неведение закалённые в боях воины сразу подмечают.
Неопрятный, обтрёпанный, пузатый и коротконогий человечек не мог не вызывать отвращения у истых военных. Генералы Ожеро, Массена и Серюрье наградили Наполеона кличкой «замухрышка», которая приклеилась надолго. Да и как иначе было назвать угреватого, уродливого мужчинку, начинавшего свою командную деятельность на высоком посту с необыкновенным апломбом, да ещё неспособного удержать собственную супругу от любовных похождений. Была и приставка к кличке «замухрышка-рогоносец».
Но вот что удивительно! Едва начались боевые действия Итальянской армии, как вся Европа услышала о блистательных её победах. Откуда же мог взяться военный талант у 27-летнего генерала, продемонстрировавшего пока лишь умение расстреливать безоружных горожан?
На этот вопрос чётко и аргументированно отвечает русский историк Вячеслав Сергеевич Лопатин. Среди тонн лживых реляций, хранящихся в архивах, он разглядел свидетельства о том, кто принёс победы, записанные на Наполеона:
«Историки почти не упоминают, что вместе с Бонапартом в главную квартиру армии в Ницце прибыл человек, которого хорошо знали в военных кругах и особенно в Итальянской армии. Восемнадцать месяцев он готовил армию к походу и разрабатывал планы кампаний. Один из этих планов лёг в основу похода 1796 года, другой – прорыв через Сен-Бернар – был использован в 1800 году.
Сын военного, служившего при королевском дворе в Версале, блестящий инженер-картограф, участник войны за независимость северо-американских колоний Луи-Александр Бертье накануне революции был тридцатишестилетним полковником королевской армии, кавалером ордена св. Людовика и входил в небольшой корпус офицеров генерального штаба, созданного незадолго до того.
В бурные революционные годы Бертье служил начальником штаба у Лафайета и Ликнера, у якобинских генералов-комиссаров Ронсена и Россиньюля, у Келлермана и Шеррера. Известный своими роялистскими симпатиями, он чудом уцелел в годы террора, хотя ему пришлось покинуть армию уже в чине бригадного генерала.
Некоторые его начальники погибли на гильотине, другие были репрессированы, но все они оставили восторженные отзывы о выдающихся талантах Бертье.
Замечательно, что Карно, подписывая приказ о назначении Бонапарта командующим Итальянской армией, тем же числом – 2 марта – пометил приказ о назначении начальником штаба этой армии Бертье. Руководитель Директории, ответственный за ведение войны, не мог доверить столь важный пост никому не известному Бонапарту, ставленнику Барраса, не подкрепив его профессиональным военным высшей пробы».
Есть старинная пословица – «на воре и шапка горит». Безусловно, Наполеон знал, что в Италии в 1796 году он ещё не пользовался авторитетом. Подчинённые ему командиры понимали, кто на самом деле руководит боевыми действиями и является автором всех побед. Они видели, пишет В.С. Лопатин, в 43-летнем начальнике штаба дядьку при 27-летнем командующем.
Что же касается пропагандистской шумихи, то она, как и обычно, ничего общего с правдой не имела. В своё время также молодая советская революционная, а, стало быть, лживая печать умилялась от восторга, повествуя о юном военном даровании Якире, происходившем не из военной, а из аптекарьской среды. Юнец бил опытных генералов белой армии. И никто не упоминал о подобных Бертье дядьках при командующих типа Уборевича, Якира, Тухачевсого. Тухачевский хоть образование военное получил, а остальные до назначения на высокие посты вообще к армии никакого отношения не имели. Предав самодержавие, якобы, ради светлого будущего, Тухачевский с особым садизмом расправлялся с Тамбовскими крестьянами, подобно тому, как Бонапарт с Тулонскими рабочими. Именно Тухачевский, Антонов-Овсеенко и иже с ними изобрели концентрационные лагеря, которые потом чудодейственным образом стали называться Сталинскими, хотя он к ним никакого отношения не имел.
И Наполеон, и Тухачевский не знали милосердия. Оба были жестоки, и к женщинами, и к детям, и к пожилым людям. За свои кровавые действия Тухачевский, как и Наполеон, был вознесён высоко, но закончил свой путь, как участник военного заговора. Кстати, его называли «красным наполеончиком».
Интересный факт приводит В.С. Лопатин о мнимом авторитете Наполеона:
«Если верить рассказам Наполеона, то ветераны Итальянской армии долгое время даже не подозревали о наличии в их рядах столь выдающегося предводителя.
В сентябре 1796 года французская армия форсировала ущелье реки Брента, вспоминает Наполеон, и авангард остановился в селении Чисмоне. Сюда прибыл командующий без свиты. Он изнемогает от голода и переутомления. Но его никто не замечал. Лишь один солдат поделился с ним хлебным пайком. На следующий день армия одержала очередную победу при Бассано. Ну, можно ли вообразить, чтобы Суворов или Кутузов не были узнаны своими солдатами и офицерами? Немыслимо. А вот Бонапарта, уже пять месяцев числящегося командующим армией, никто не знал. Рассказывая удивительную историю, бывший император (он писал воспоминания уже на острове св. Елены) даже не замечал, как он смешон».
Слава Бертье не давала покоя Наполеону. Он пользовался опытом и талантом своего начальника штаба, но не хотел делиться славой. В мемуарах, написанных позже, в изгнании, он так рассказывал об этом поистине талантливом французском полководце, много раз выручавшим его из беды: «Бертье обладал громадной энергией, следовал за командующим во всех разведках и объездах войск, не замедляя этим нисколько своей штабной работы».
В этом своём заявлении Наполеон, сам того не замечая, свидетельствовал о том, что Бертье выполнял роль, и командующего, и начальника штаба.
А далее и вовсе он начал порочить своего благодетеля:
«Характер Бертье имел нерешительный, малопригодный для командования армией, но обладал всеми качествами хорошего начальника штаба… Вначале хотели навлечь немилость командующего, говоря, что Бертье его ментор, что именно он руководит операциями. Это не удалось. Бертье сделал всё, от него зависящее, чтобы прекратить эти слухи, делавшие его смешным».
Впрочем, каждому ясно, что подобные слухи смешным делали вовсе не Бертье, а самого Наполеона, ведь маршалы и генералы прекрасно понимали, что в каждом успехе виден труд начальника штаба и только его одного. Наполеона вполне можно было бы назвать флигель-адъютантом Бертье. Именно такую роль он и исполнял.
В последующих абзацах своих воспоминаний Наполеон сам же себя и опровергает, рассказывая, как Бертье в ответственный момент сражения с успехом заменил командира дивизии, а чуть позже совершил подвиг, о котором Бонапарт донёс Директории: «Я не должен забыть неустрашимость Бертье, который в тот день был и артиллеристом, и кавалеристом, и гренадером».
14 августа 1796 года в представлении к награде Наполеон писал о Бертье: «Таланты, энергия, мужество, характер. Обладает всеми достоинствами».
Одним словом, победы французской армии одерживались не под командованием, а в присутствии Бонапарта. Он же, имея связи в Директории, пользуясь властью, данной ему, приписал их себе. Ну а в случае неудач, он, ловко выкручиваясь, переваливал свою вину на других. И снова на выручку ему приходил Бертье, ставший сначала по поручению Директории, а затем уже по договорённости с сами Наполеоном, его тенью. Именно Бертье подарил «корсиканскому чудовищу» свой талант и своё мастерство, превратив Наполеона в общественном мнении из «замухрышки», коем тот был на самом деле, в великого полководца, кем никогда не был и не мог быть по военной безграмотности и бездарности.
Если бы не Бертье, поход в Египет мог стоить Наполеону не только карьеры, но и жизни. В этой стране, подвластной в то время Турции, Наполеон высадился с армией в 30 тысяч человек. Но поход не удался. В разгар египетского похода русская эскадра адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова при содействии английской эскадры адмирала Нельсона разгромила французский флот в устье Нила, тем самым отрезав армию Наполеона от сообщения с Францией.
Примерно в то же самое время Александр Васильевич Суворов разгромил французские войска в Италии, что в значительной степени ослабило позиции Директории внутри страны. Продолжение похода в Индию становилось бессмысленным. Наполеон понял, что настала пора подумать ему о себе – своей армии, о своих солдатах и офицерах он не думал никогда. Просто умел лицемерно демонстрировать заботу, когда это было необходимо. Но едва лишь речь заходила о его судьбе, о его личной безопасности, он и от показухи отказывался, раскрывая своё истинное лицо.
И вот такая ситуация возникла. В Египте стало небезопасно, да и во Франции всё могло повернуться не так, как бы ему хотелось. Каково же решение? Очень простое – бросить всё и мчаться в Париж.
И он, отбросив стыд и совесть, совершил чудовищный для предводителя армии поступок, в те времена не имевший ещё аналогов в военной истории, за исключением бегства Петра Первого из-под Нарвы. Ну, на то Пётр и был Первым, что б первым совершать преступления.
Пётр, узнав о приближении к Нарве шведского короля с небольшим отрядом, не рискнул с ним сразиться, а бросил осаждавшие крепость войска и бежал, якобы за подкреплениями. Армия погибла почти полностью, потому что вслед за Петром бежали и сорок нанятых им генералов-иноземцев, то есть весь поганый и никчёмный сброд, собранный им на свалках Европы.
Наполеон просто бежал, ничего никому не объясняя, чем обрёк армию на гибель. Ну а в Париж он послал лживое объяснение: «Генерал Бертье, высадившийся 17-го сего месяца во Фрежусе вместе с командующим генералом Бонапартом, генералы Ланн, Мюрат, Мармон, Андреосси, граждане Монж и Бертолле сообщают, что они оставили французскую армию в состоянии, вполне удовлетворительном».
В записке сквозит стремление свалить всю вину на Бертье. Бегство Бонапарта в Париж расценили по-разному. Двое из пяти членом Директории высказались за смертный приговор изменнику и трусу, дезертировавшему с театра военных действий.
Однако, в Директории уже набрала силы крупная буржуазия, к которой был близок Наполеон. Для окончательного захвата власти и свёртывания революции нужен был ещё один переворот, и он состоялся 9 ноября 1799 года.
Большой почитатель Наполеона французский историк Альберт Вандаль, рассказывая о тех днях, неожиданно проговорился:
«Бонапарт на своём вороном горячем коне, с которым ему подчас было трудно справиться, объезжал ряды, бросая солдатам пламенные воодушевляющие слова, требуя от них клятвы в верности, обещая возвратить республике блеск и величие. Оратор он был неважный. Порой он останавливался, не находя слова, но Бертье, всё время державшийся подле него, моментально ловил нить и доканчивал фразу с громовыми раскатами голоса. И солдаты, наэлектризованные видом непобедимого вождя, приходили в восторг».
Интересно было бы знать, кого они в тот момент считали вождём? Бертье или Бонапарта. Скорее всего, конечно, того, кто обладал громовым голосом, командирским голосом, а не блеял, как подлинный «замухрышка».
Между тем, крупная буржуазия планировала переворот и полный захват власти в Директории. Вячеслав Сергеевич Лопатин рассказывает:
«Кульминация труса, как известно, приходится на 19 брюмера. Депутаты, собравшиеся в Сен-Клу, опомнились и решили оказать сопротивление узурпатору. Дело грозило непредсказуемыми последствиями для заговорщиков. И тогда Бонапарт делает попытку лично объясниться с представителями народа. Вспомним, оратор он был неважный. Даже много лет спустя речи императора, которые он читал по бумажке глухим невыразительным голосом с сильным акцентом, производили на слушателей тягостное впечатление. Он не умел говорить на публике. Удивительно ли, что сбивчивые объяснения Бонапарта сначала в Совете Старейшин, а затем в Совете Пятисот резко ухудшили шансы переворота.
Раздались крики: «Долой тирана! Вне закона!»
Бонапарт потерял самообладание и впал в прострацию. Его спас брат – Люсьен Бонапарт, председательствовавший в тот день в Совете Пятисот. Он вызвал солдат, которые выволокли генерала из зала. Бонапарт никого не узнавал. Он даже пытался о чём-то рапортовать одному из зачинщиков переворота – директору Сайесу, назвав этого сугубо штатского человека «генералом».
Только дерзость Люсьена и наглость Мюрата решили исход дела в пользу Бонапарта. Мюрат со своими гренадерами очистил помещение от «народных избранников». Переворот состоялся. Бонапарт вошёл в число трёх консулов, сосредоточивших в своих руках всю полноту власти.
Вскоре с присущим ему коварством он обыграл соперников и сделался Первым Консулом, а вскоре провозгласил себя пожизненным главой государства. Старший брат Люсьен вынужден был уйти в отставку. Диктаторы не любят тех, кому многим обязаны. В новом правительстве Бертье получил пост военного министра.
4 августа 1880 года состоялся Закон Сената о введении пожизненного консульства Наполеона и о совмещении им должности Председателя Сената. А уже 18 мая 1804 года всем революционным преобразованиям Франции был положен конец. Наполеон был провозглашён императором, и папа римский Пий VII, войска которого ещё недавно пленил Бонапарт, приехал из Рима и короновал нового императора под именем Наполеона Первого. Католическая церковь, по всей вероятности, ничего не знала о Заповедях, данных Создателем Моисею, потому и благословляла то ливонских, то тевтонских, то шведских серийных убийц, именуемых крестоносцами, изуверствовавших на захватываемых ими землях. С лёгкостью она благословила и ещё одного Чикатило тех времён, уже показавшего свою патологическую жестокость.
Кто-то хочет возразить? Так вспомним хотя бы о том, как по приказу Бонапарта изуверски кололи штыками рабочих, стариков, женщин, малых детей в Тулоне, или как по его же «гениальному плану операции» превратили артиллерийским огнём в кровавое месиво тысячи и тысячи парижан. Тут, говоря извращённым языком демократии, «Чикатило отдыхает».
Так могла ли умная, образованная, хорошо воспитанная красавица Екатерина Павловна пойти замуж за этакое чудовище? Недаром сказала, что лучше пойти замуж за кого угодно, только не за «корсиканское чудовище».
Давая оценку великой княгине, Альберт Манфред в книге «Наполеон Бонапарт» писал:
«Тот же Стединг в мае 1810 года вновь доносил, что великая княгиня Екатерина – «принцесса, обладающая умом и образованием, сочетаемым с весьма решительным характером», крайне настроена против Наполеона и современного положения в России. Он связывал с этим её большое влияние на императорскую семью, и в особенности на великого князя Константина, и объяснял этим же ее популярность в русском обществе.
Зимой в Судак…
Вольный ветер свободы
Отдых в санатории вообще, а особенно в военном – это как тест для каждого мужчины и для каждой женщины. Тест на что? Не будем уточнять, применяя банальные слова. И так ясно.
Впрочем, в декабре 1971 года ничего этого я, конечно, не знал. Путёвку, как уже упоминал, получил совершенно случайно. Лечить особенно и нечего было, а всё ж минувшей зимой побывал к госпитале. Вот и предложил начмед поехать. Он, как оказалось, и сам понятия не имел, что такое лечение в санатории. Для молодого лейтенант слово «лечение» без кавычек как-то и применять неловко.
Роту я принял в августе, а с отпуском затянул почти до нового года. Всё дела, дела, дела. И вот в середине декабря наш начальник медпункта – лейтенант-двухгодичник, привёз из Калининского госпиталя путёвку. Начало отдыха – где-то в двадцатых числа. Встретить Новый год мне предстояло в санатории, то есть в Крыму.
А уже через несколько дней ранним декабрьским вечером я вышел из самолёта в том самом аэропорту, где мы простились с Наташей ровно три года и четыре месяца назад. Какие чувства овладевали мною? Наверное всё-таки моя жена предвосхищала события – до того самого момента, когда я ступил на Крымскую землю, особой остроты переживаний, что сопровождали меня потом всю жизнь, я не испытывал.
Взял такси, сказал водителю:
– Улица Лодыгина один!
В конце декабря темнеет рано. Было около шести вечера, когда вышел у ворот знакомого дома. Телеграммы я не давал, а телефона у Наташиных родителей не было. К сожалению, не было. Если бы три года назад был телефон в этом уютном домике на тихой Симферопольской улице, носящей имя Лодыгина, возможно, всё у нас с Наташей сложилось иначе.
Собственно, предупреждать не имело смысла – в доме том вместе с Наташиными родителями и Наташей жили её бабушка и дедушка. Такого, чтоб все куда-то разъехались, быть не могло. Ну а что касается самого по себе приезда, то я чувствовал, что еду к бесконечно родным людям.
На какие-то секунды задержался у ворот. Через заборчик был виден свет в окнах, а от кухоньки, что помещалась в саду, доносились ароматы будущего ужина. Был ли я готов к встрече с Наташей? До сих пор не знаю, потому что снова Провидение вмешалось в мою судьбу…
Я позвонил, мне открыла Наташина мама и ахнула – перед ней стоял бравый, подтянутый офицер. Представьте, я отправился в санаторий в военной форме. Глупость неимоверная. Но так посоветовал мне наш лейтенант-двухгодичник, понятия не имевший о санаторских порядках. На мой вопрос, в чём ехать, он ответил, что, поскольку учреждение военное, ехать надо, очевидно, в форме.
Меня встретили с прежним радушием. Сразу повели в дом, чтобы снял шинель – на улице было тепло, все даже пользовались ещё уличным умывальником.
Мне предложили отдохнуть, но я предпочёл посидеть на кухне, где Наташины мама и бабушка заканчивали приготовление ужина. Туда же сразу пришёл и Наташин дедушка. Не было ещё пока её отца, да и самой Наташи тоже не было.
Я не спешил с вопросом, полагая, что Наташа в это время едет из института. Судостроительный институт, в котором она училась, был в Севастополе, и приезжала она только по субботам. Я и выбрал специально субботу для своего прилёта, чтобы увидеть ей.
– Вот сейчас Володя со службы придёт, и сядем за стол, – сказала Варвара Павловна.
И только тогда я осторожно, дрогнувшим голосом, спросил:
– А Наташа?
– Наташа у нас в Ленинграде, на практике, – сказала её мама таким тоном, словно была удивлена, что это мне не известно.
Что я почувствовал в те минуты? Не знаю. Мне очень хотелось увидеть её, но я не мог себе представить, как посмотрю ей в глаза. И нужно же было случиться такому совпадению – я приехал в Крым, а она уехала в Ленинград на практику. Самое удивительное, что практика была достаточно долгой, и Наташа должна была вернуться только в январе, причём уже после окончания моей путёвки, а, следовательно, и пребывания в Крыму.
За ужином сидели долго, Наташин папа живо интересовался моей службой, ведь я после окончания училища менее двух лет командовал взводом, затем получил роту, и вот теперь – отдельную роту. Мало того, уже сменил два места службы. Успел послужить в Москве, в Калинине, а теперь вот в глухомани.
База боеприпасов дислоцировалась в 20-30 – километрах от города Бологое. Он очень удивился, что я уже давно командую ротой, к тому же с августа-месяца – отдельной, что управляюсь с пятью взводами и целым, хоть и не очень большим, войсковым хозяйством. Собственно, когда меня инструктировали перед направлением на должность командира отдельной роты, кадровик сказал, что там я буду, как маленький командир полка, ну а личного состава в роте больше чем в кадрированном мотострелковом полку.
– А я ушел в запас, – сказал он и прибавил: – По увольнению присвоили майора.
Его удивление по поводу моего быстрого шествия по службе было понятно – в послевоенные годы продвижение было медленным, ведь армия сокращалась до штатов мирного времени. А потом ему ещё пришлось застать необдуманные и ничем не обоснованные хрущёвские сокращения.
Я всё время ждал вопроса о том, что случилось между нами с Наташей, но такого вопроса никто не задал. Окунувшись в обстановку, родную до боли сердечной, я вдруг со всею остротой почувствовал и осознал, какую страшную ошибку совершил в своей жизни. Не знал одного – исправима ли теперь эта ошибка?
Мы выпили, и напряжение немного спало. Тогда я вдруг с полной искренностью и неизъяснимой печалью сказал, что очень жалею, что вышло так, как вышло.
Наташина мама стала успокаивать, но о том, как сложилась личная жизнь Наташи, так и не сказала. А я и спросить боялся. Любой ответ был ужасен для меня. Замуж вышла – удар, не вышла – тоже, поскольку в этом случае она оказывалась свободной, а я нет. Да и могла ли она простить то моё предательство? Если б ещё не был женат, полбеды, а уж коль женился, говорить нечего.

Наутро я отправился рейсовым автобусом в Судак. Автобус шёл, как показалось мне, очень долго. Из суровой зимы я перелетел в Крым, где было гораздо теплее. Но на перевале, через который перебирался по пути в Судак, было как-то не очень уютно. Всё-таки конец декабря. Серая лента шоссе, грязно-серые обочины. Низкая облачность, ветер. На душе было не очень уютно.
Наконец, я добрался до приёмного отделения. В довершении к без того уж не слишком радостному настроению неприятно поразила разметка на дорожках внутри санатория. По незнанию санаторской жизни, решил, что здесь ежедневно проводятся утренние физические зарядки и прочие физкультурные мероприятия. А я от них ещё не очень отдохнул, ведь после окончания училища, где их с лихвой хватало, прошло чуть более двух лет.
В приёмном отделении мне задали вопрос, который был, видимо, риторическим и ответ на который ничего не значил. Спросили, в какой я хочу поселиться корпус, словно я знал, куда проситься. Сказал, что хотелось бы, чтобы было больше молодёжи… Назвали номер корпуса… Кстати, поселили, что выяснилось уже во второй половине моего отдыха, более чем удачно для меня. Но об этом в своё время.
Оформился, вышел из приёмного отделения и направился к корпусу, который располагался на набережной довольно близко от моря. В летнее время, вероятно, этот корпус был самым удобным, а зимой… Зимой скорее наоборот… Порою ветер стучал в окна…
Получил ключ, вошёл в номер… В номере – четыре кровати. Правда, номер со всеми удобствами. Заканчивался 1971 год… Думал ли я, что уже в 1977-м я получу возможность выбирать себе номер, да ещё одноместный?! Не думал, поскольку вообще не представлял себе, что такое санаторно-курортный отдых…
В номере пусто. Правда видно, что две койки заняты, две – свободны. Выбрал ту, что ближе к двери, поскольку у окна, как мне показалось, могло быть холодновато.
Что делать? Как начинать отдых? Разделся и лёг отдыхать. Но заснуть не мог. И тогда достал книгу, которую предусмотрительно взял из своей библиотеки. Помню, это был один из томов Константина Федина. А нём – роман «Костёр». Лишь сравнительно недавно я подписался на собрание сочинений в Книжной лаве писателей, в которую ходил по отцовскому членскому билету Союза писателей СССР.
Даже на такое собрание невозможно было подписаться в обычном магазине. Я же не слишком понимал, что творится в советской литературе. Попытался читать – скукота. Нашёл, что взять. А ведь в моей домашней библиотеке было немало хороших книг.
И всё же некоторое время пытался читать и даже, благодаря этому чтению, из которого не отложилось нечего, стал засыпать. И вдруг… Дверь с шумом отворилась, и в комнату ворвался коренастый брюнет лет тридцати. Он спросил, которая из коек свободна и почти от двери бросил на неё чемодан.
Снял пальто, повесил в стенной шкаф, прошёл к своей кровати и, обернувшись, с удивлением спросил:
– Что лежишь? Ты что книжки читать сюда приехал?
– Я только перед вами прибыл, – пояснил я. – Решил отдохнуть с дороги.
– Поднимайся! Это ж санаторий. Здесь нельзя терять ни минуты. Вперёд и выше!
– Куда в такую погоду? Дождь на улице, – сказал я с удивлением.
– Как это куда? Знакомиться с девушками… А дождь нам не помеха, – и повторил. – Нельзя терять ни минуты… Итак уже половина первого дня отдыха прошла. Одевайся, одевайся… Кстати, как тебя зовут?
– Николай…
– Владимир, – представился он. – И безо всяких там выканий! Мы не на службе. Да и я не Бог весть какой начальник… Служу в лётном училище, учу курсантов летать на тяжёлых аэропланах. А ты, вижу, пехота?
– Да, командую отдельной ротой в лесу.
– Уже ротный? Неплохо. Давно училище окончил?
– Два года назад…
– Ну, так вперёд, пехота! Как там у вас? Быстрота и натиск!?
Я нехотя оделся, нацепил шинель…
– Это что же ты в форме заявился сюда? – спросил он.
– Спросил у начмеда, в чём ехать, а тот сказал, что лучше в форме, – пояснил я.
– Ну и начмед! Он что, в санаториях не бывал?
– Двухгодичник…
– Тогда ясно…

Владимир раскрыл чемодан, извлёк оттуда белую рубашку. Из неё выпала какой-то листок, как оказалось, фотография. Он поднял фотографию, развернул её и рассмеялся, заметив:
– Ну, молодчина моя жена, ну молодчина... Ты послушай, что пишешь… «Знаю, что первым делом возьмёшь рубашку… Когда будешь надевать её, вряд ли вспомнишь обо мне, но прошу: вспомни о детях…» Н-да, не сомневалась, что я в первый же день отправлюсь куда-то…
Он быстро разложил какие-то вещи по полкам прикроватной тумбочки, остальные так и оставил в чемодане и вновь обратился ко мне:
– Ты готов? Идём.
Я повиновался, но, прямо скажем, без особого энтузиазма. В чём заключается отдых в санатории, пока ещё не знал совершенно. До обеда оставалось часа два. Что же делать на пустынной набережной в первой половине дня? Чай не лето… Пляж пустынен, да и на набережной никого.
По серому небу мчались серые тучи тех же оттенков, что и само небо. Моросил надоедливый дождь. Сердитые волны бросались на волнорезы, дробились, поднимая облака брызг и пены, а за ними накатывались новые и новые. Море гудело, рычало, бурлило, и насколько хватало глаз бежали по нему буруны с пенными хребтами.
– Да, летом здесь веселее, – сказал Владимир.
– Приходилось отдыхать летом? – спросил я.
– Конечно… Это ж наш санаторий. Он так и называется Судакский санаторий ВВС…
– А что это там? – спросил я, указывая на крепостную башню вдали, на скале.
– Генуэзская крепость…
– Почему Генуэзская? – подивился я.
– А шут её знает. Вроде как построена генуэзцами.
– Это понятно, что раз Генуэзская, значит, построена генуэзцами, – сказал я. – Но они-то как здесь оказались? Постой, постой, что-то помню. Слышал, что хана Мамая после разгрома орды именно в Крыму удавили генуэзцы, которых он нанял для битвы и которые там потеряли всех своих воинов.
– Может быть, вполне может быть, – проговорил Владимир, пристально вглядываясь в какие-то строения на берегу.
Это уж значительно позже я узнал, что крепость действительно построена где-то в четырнадцатом, пятнадцатом веках и что она служила прикрытием колонии Генуэзской, которая называлась Солдайя (итал. Soldaia). Вот для обороны колонии и построена. А в тот день я подивился, что новый мой знакомый, не раз здесь отдыхавший, так и не удосужился узнать, что это за крепость, и даже не попытался попасть туда на экскурсию. Подумал тогда, что уж я-то точно побываю на такой экскурсии. Рано подумал… Не знал, что такое «активный отдых» в военном санатории.
А Владимир, между тем, уже тащил меня куда-то, преодолевая инертное моё сопротивление.
– Видишь, – говорил он с воодушевлением. – Дамская парикмахерская. То, что нам нужно…
– Зачем? Зачем нам дамская парикмахерская? – удивился я.
– В этой прибрежной пустыни только там можно счастье найти, – весело отозвался Владимир, решительно открывая стеклянную дверь.
Я робко вошёл следом. Небольшой коридорчик уставленный стульями. В коридорчике никого. Если кто и есть, то только в зале. Владимир уверенно вошёл в зал. Я осторожно заглянул туда. На приятеля моего зацыкали, возмущённые пациентки, но он тут же рассыпал бисером комплименты каждой сидящей в зале. Это возымело действие. Он стал что-то с жаром рассказывать, а сам осматривался и оценивал обстановку. Через некоторое время он уже выбрал цель и стал разговаривать с парикмахершей лет тридцати, высокой, дородной и миловидной.
Я продолжал робко стоять в дверях. Меня никто не прогонял, но и особого интереса ко мне некому было проявить – все, находившиеся в зале женщины, были старше меня, по меньшей мере, на пять-семь, а то и более лет. Ну а о моём ещё почти юном возрасте красноречиво свидетельствовали лейтенантские погоны.
Наконец, Владимир, дождавшись паузы в работе приглянувшейся ему парикмахерши, и попросил её выйти на минутку в коридор. А там сразу, без предисловий, предложил вечером встретиться и попросил взять с собой подругу, для… Он кивнул в мою сторону.
– Есть подруга, есть, – весело ответила парикмахерша. – Как раз для вас, молодой человек…
Условились, что встретимся у забегаловки под названием «Бочка». Я так и не понял – официальным являлось то название или употребляемым отдыхающими между собой.
Бочка, надо думать, потому что там продавали бочковое пиво. Ну и шашлыки. Курортные города отличались некоторой, хоть и незначительной, но свободой торговли пивом, лёгкими винами. В той же «бочке» были и «бочковые вина». Скорее даже из-за бочковых вин она приобрела это название.
Владимир, как постоянный отдыхающий санатория, прекрасно знал, где находилась эта «бочка».
Мы покинули парикмахерскую и вышли на улицу. Всё также моросил дождь, темнело на глазах – декабрь. К сумеркам ветер стал немного стихать, и море ворчало уже не так грозно, как днём, когда я впервые увидел его в столь неурочное время года.
Судак… Это восточнее Алушты, восточнее того незабываемого для меня места, где я всего лишь три года назад, а если точнее три года и три месяца, провёл волшебные недели с Наташенькой Черноглазкой. Это было недавно, но как это было давно – давно, потому что за эти три года произошло столько событий и свершилось то невозвратное, о чём я давно уже жалел, с грустью вспоминая свои ошибки, всё более осознаваемые…
– Ну что ж… Начало положено. Но не будем почивать на лаврах. Попробуем ещё кого-то найти…
– Зачем же? Ведь договорились, кажется, – удивился я.
– Вот именно, «кажется», – возразил он. – Во-первых, могут не прийти, во-вторых, неизвестно, что там будет за подруга… Ну и потом у нас впереди целый отпуск – не зацикливаться же на первых встречных… Работать надо! Работать!
Этот подход мне был непонятен. Хотя я, конечно, понимал, что подруга может оказать и такой, что придётся для приличия побродить с ней с полчаса, да и ретироваться под благовидным предлогом.
Набережную постепенно окутывали сумерки. Неожиданно впереди замаячила одинокая женская фигура. Владимир оживился.
– Давай догоним, – предложил он. – Фигурка вроде бы ничего. Пошли, пошли…
Мы догнали молодую женщину, которая показалась довольно миловидной, во всяком случае, при мутном свете фонарей. Владимир заговорил с ней, она охотно отвечала на какие-то его обыкновенные в таких случаях вопросы и дежурные комплименты.
Мне всё это не очень нравилось, но, тем не менее, я шёл рядом. Женщина осмотрела нас оценивающим взглядом и вдруг как-то неожиданно прильнула ко мне. Я вежливо отстранился. Она снова пострела на меня и, видимо, оценив возраст, обратила внимание на Владимира. Потом она на протяжении прогулки ещё раз показывала своё преимущественное расположение то мне, то Владимиру и, наконец, очевидно, поняв, что я сторонюсь её, забыла обо мне окончательно.
Я потихоньку отстал от них, и встретились с Владимиром мы уже в вестибюле столовой.
– Ты что ушёл? – спросил он.
– Не хотел мешать…
– Чудак человек. Ну ладно. Не забыл, что после ужина рандеву?
– Не забыл, – вздохнул я.
Идти мне, между нами говоря, никуда не хотелось. В столовой тепло, в жилом корпусе даже уютно, а на набережной ветер задувал, да изморозь лезла в лицо. Белые буруны волн хоть и поубавились, но были видны сквозь ночной мрак и даже казались зловещими в тусклом отсвете фонарей, выстроившихся вдоль набережной.
Ну, да делать нечего. Попал я под влияние своего соседа по комнате. Он буквально подавлял окружающих своей неукротимой энергией, своей напористостью.
Точно в назначенное время мы подошли к «бочке», и спустя минуту появились наши девушки. Посмотрели мы с Володей на ту, что предназначалась мне, и невольно переглянулись. В его глазах я прочитал удивление. Обычно девицы, собираясь на свидание, стараются взять с собой дурнушек, чтобы на их фоне выглядеть эффектнее. Но парикмахерша оказалась выше всех этих тайных соображений. Она привела с собой девушку очень и очень привлекательную, даже красивую.
– Тамара! – представила она её.
Мы пригласили девушек в «бочку» выпить по бокалу вина и съесть по шашлычку. Когда заходили, пропуская их вперёд, Володя сказал:
– Ну тебе повезло… Смотри, что б были быстрота и натиск. А то отобью! – и прибавил засмеявшись: – Шучу.
Но я понял: в каждой шутке есть доля правды, а потому собрался, оживился и привёл в действие своё красноречие, несколько задремавшее в минувшие годы первой семейной клетки.
Вечер прошёл весело. Потом мы прошли провожать новых своих знакомых. Провожали по разным маршрутам. Пришлось поглядывать на часы – санаторские корпуса закрывали в ту пору рано, ну а всякие там лазейки, наподобие проникновения через огромную лоджию, первого этажа и окно, пока мне были неведомы.
Мы с Тамарой немного посидели в тихом и уютном дворике на скамеечке под навесом. Свет фонарей освещал часть дворика, но мы были в неосвещённой его части.
Я выяснил, что новая моя знакомая работает на городской телефонной станции, что фамилия у неё Ефанова. Была она моей сверстницей, ну разве что на годик другой моложе, а, может, и нет. О возрасте не спрашивал. Не потому что у женщин спрашивать непринято, просто незачем было. Холостяком я не сказывался, да её этот вопрос особенно и не волновал. Просто не касались темы. Кроме того, что она родилась и выросла в Судаке и живёт здесь с родителями и младшей сестрой, она ничего не рассказала. Да и что рассказывать? Городок небольшой, курортный. За счёт Военного санатория здравствует. Отдыхающие круглый год, хотя, конечно, зимой их не так уж и много. Зато летом пруд пруди. На пляже яблоку некуда упасть.
В таких городках, где есть санатории, и особенно военные санатории, самое престижное место работу именно в этих самых здравницах. Там есть шанс и замуж выйти. А так? Наверное, небогат был городок женихами, если такая красивая девушка как Тамара встречалась с отдыхающим без особых надежд на то, что эта встреча изменит её судьбу. Ну а встречаться с лейтенантом, если уж цели какие-то есть, наверное, целесообразнее с холостым. Иначе ни развлечений богатых, ни подарков… Возможности не так уж и велики. Если не помышлять о чём-то серьёзном, тогда уж лучше выбрать себе ухажёра постарше. Я не слишком тогда вдумывался во все эти перипетии курортных дел, но то, что на встречи со мной пошла такая девушка как Тамара, не могло не льстить моему самолюбию.
Назад возвращался по пустынным улицам. Темно… Лишь изредка попадались участки тротуаров, освещённые фонарями. Было такое впечатление, что город уже спал. Возможно… Ведь зимние ночи в тех краях длинные, ветреные, холодные. Даже если плюсовая температура, ветер с моря выдувает тепло. Недаром говорили, что в Судаке зимой, как в аэродинамической трубе.
Развлечений в Судаке зимой не так уж и много. Центр всего и вся – всё та же «бочка» с шашлыками и сухим вином в разлив...
Продолжение следует.
«…лучшее украшение женщины».
Эту картину, на которой княгиня Мещерская изображена с дочерью и с будущей послушницей, французы в 1812 году повредили сабельными ударами
Княгиня Мещерская - дочери: «…скромность есть лучшее украшение женщины».
Княгиня Евдокия Николаевна Мещерская так и не смогла забыть любимого супруга, с которым её связывали, судя по всему, не только несколько кратких месяцев супружеской жизни, но и долгое знакомство до замужества, ведь их имения были рядом. Быть может, пример вот такой любви, зародившейся с детства и сопровождавшей всю жизнь, и привёл к мысли о том, что дочери нужно помочь сделать главный выбор в её жизни..
Воспитанная в лучших русских традициях и получившая хорошее домашнее образование, в котором принимали самое действенное участие родители, не слишком полагавшиеся на учителей, особенно из числа залётных иноземных неучей-мошенников, решила она сама дать всё то лучшее, что досталось ей от родителей.
Относительно иноземных учителей нет никаких преувеличений в том, что сказано выше. Историк русского зарубежья А.Н. Фатеев привёл такой факт:
«Французский посланник при Елизавете Петровне Лопиталь и кавалер его посольства Мессельер, оставивший записки, были поражены французами, встреченными в России в роли воспитателей юношества. Это были большей частью люди, хорошо известные парижской полиции. «Зараза для Севера», как он выражается. Беглецы, банкроты, развратники, убийцы, воры. Этими соотечественниками члены посольства так были удивлены и огорчены, что посол предупредил о том русскую полицию и предложил, по расследовании, выслать их морем».
Занимаясь воспитанием дочери, княгиня Мещерская избрала весьма действенные и необычный способ. С того момента как Настеньке исполнилось десять лет, она стала писать ей небольшие наставления или поучения получили название «Беседы с моей дочерью».
Евдокия Николаевна завела специальную тетрадку и в день рождения, когда Анастасии исполнилось десять лет, вручила её.
В тетради она делала записи, в которых давала оценки поведения дочери, хвалила за успехи и деликатно журила за недостатки.
Начало положила «Беседа 1».
Княгиня обращалась к дочери уже не как к ребёнку, она разговаривала с ней как бы на равных, приглашая принять участие в оценке своего поведения, своих поступков.
«О многом я доселе не рассуждала с тобой, любовное дитя моё, теперь же, когда ты ещё не достигла полного развития телесного, а потому и умственного, но уже уклоняешься от детства и вступаешь в возраст, где всё должно делаться разумно, принимаю на себя труд, желая душевно видеть тебя благополучной и любя тебя нежно, рассуждать с тобою и указать тебе, как отныне ты должна себя вести.
Ты дашь веру моим словам, ибо убеждена, что никто так внимательно не следит за твоими поступками, как твоя мать, что весьма естественно, ибо никто не может наравне с твоею матерью столь истинно утешаться твоим добрым поведением и столь много огорчаться худым. Это убеждение вменяет тебе в обязанность всегда повиноваться воле моей и следовать моим искренним советам».
Удивительно это вступление. В нём сквозят и материнская любовь, и забота о том, чтобы дочь следовала правильным путём в своей жизни.
Евдокия Николаевна давала наставления, которые не худо было бы перенять и нынешним матерям, да и отцам, воспитывающим детей, порою, не на подвигах великих предков, а на отвратительных инородных «гарри- поттерах» и прочей мерзости, обильно истекающей из давно уже потерявшего благочестие Запада.
Княгиня Мещерская писала дочери:
«Люби Отечество своё и верховную власть... По твоим летам довольно и сего, тебе сказанного. Впредь будем рассуждать пространнее, как велики и в чем именно заключаются твои обязанности к Отечеству».
Вот так! Не нужно слишком многого в отроческом возрасте. «Довольно и сего», важного! Любовь к Отечеству! Не это ли нужно прививать каждому ребёнку, будь то мальчик или девочка, с самых ранних лет.
«Люби родственников своих, – писала далее княгиня. – Кто из них к тебе милостив, умей быть благодарной. Кто холоден и невнимателен, не досадуй и не огорчайся, но надейся, что постоянным вниманием и покорностью заслужишь благоволение старших, чтобы, когда состаришься сама и делами своими заслужишь уважение, искали бы и твоей благосклонности».
Здесь уже ощущается влияние христианских заповедей. И это неслучайно. С момента смерти супруга княгиня Евдокия Николаевна начала свой особый путь к Богу. Её связывало с земным миром только желание наставить на путь праведный самое дорогое существо – свою дочь.
И снова наставление:
«Люби и уважай приятелей и знакомых твоей матери. Примечай: с кем мать твоя короче и искреннее обходится, в тех и ты более ищи любви к себе и внимания, но и с прочими будь вежлива и учтива...
С товарищами твоих лет будь ласкова и обходительна, но не болтлива. Повторяю: скромность есть лучшее украшение женщины».
Начало бесед было положено наставлениям по поводу отношения к людям. Далее же княгиня коснулась и других важных вопросов.
Терпеливо, ненавязчиво, деликатно и участливо она готовила дочь к будущей взрослой жизни. Конечно же, она учила её каждый день и каждый час своим личным примером, своими советами, но тетрадь помогала внести во взаимоотношения с дочерью элемент особый, искренний и располагающий к ощущению особой доверительности.
А далее перед нами прямо-таки учебник хозяйствования, который заставляет подумать о том, что, если бы не нашествие «корсиканского чудовища» с бандитским отребьем, собранным со всей Европы, какая была бы замечательная жена у славного русского генерала Александра Кутайсова.
Вот советы относительно будущей взрослой жизни:
«Желая видеть тебя соблюдающей во всём порядок, дабы ввести тебя в оный и приучить к хозяйственному употреблению вещей, отделяю особую комнату, в которой помещу всё для тебя нужное. У тебя будет своя прислуга, и я дам тебе немного денег, чтобы ты с сего дня располагала своею собственностью по своему усмотрению. Я не вмешиваюсь в твои распоряжения, а буду ожидать твоего донесения и тогда сделаю тебе свои замечания. Но так как ты по сие время собственности не имела и никогда ничем не располагала, то считаю своею обязанностью сказать тебе несколько слов, после которых и мысли, и действуй уже сама.
В комнате найдёшь два шкафа: в одном – твои книги, бумага для письма, карандаши, ящик с чернильницей и прибором к ней, ящик с красками, деньги и всему этому реестр; в другом – твои платья, твоё бельё, ящик с лентами и другими мелочами и тоже всему опись. Куда что употребишь, отметь на записке. Что будет худо, к делу не годно, мне доложи, я заменю другим.
Найдёшь стол рукодельный, стол или бюро для письма и рисования, стол туалетный со всем, что нужно для одевания. Что откуда вынешь, опять на своё место положи или поставь, дабы не терять времени в бесполезном отыскивании вещей, в чём ты доселе слишком много упражнялась».
Прямо-таки учебное пособие для будущей невесты, жены, хозяйки, а впоследствии – будущей матери.
Но не только наставления были в тетрадке. Там содержались оценки, даваемые матерью дочери в разделе:
«Замечания по истечении года»
Княгиня писала:
«Хорошего заметила в тебе, любезная дочь:
1. Привязанность ко мне, которая особенно проявлялась, когда я бывала больна или грустила более обыкновенного. Ты жалела меня тогда, всячески старалась утешить, ласкала. Я благодарна за это и ставлю тебе в достоинство твою привязанность ко мне; но желаю, чтобы ты подумала, хорошенько рассудила, какое именно проявление твоей любви может меня особенно утешить, сделать покойной и счастливой: работа твоя над собою как в больших, так и малых случаях.
Хорошего заметила ещё:
2. Твою готовность уделять другому от всего, что имеешь.
3. Вежливость с родными и знакомыми.
4. Обходительность с подчинёнными: ты ценишь оказываемые ими услуги и вознаграждаешь их по возможности».
Были в тетрадке и замечания:
«Указала на всё, что заметила в тебе хорошего. По что, любезная дочь, заставляешь меня говорить и о худом?
1. Хотя ты ещё и молода, почему тебе и не предписывают и от тебя не требуют продолжительного моления, строгого соблюдения постов, воздержания, но в меру твоих лет и умственного развития, если бы даже тебе о том никто не напоминал, не следует ли тебе хотя краткой, но усердною молитвою обращаться ежедневно утром и вечером к Подателю жизни и соединённых с нею благ? Ты же, любезная дочь, часто забываешь значение молитвы и молишься нехотя, рассеянно.
2. В тебе иногда проглядывает желание учиться, но редко. Что касается до игры на фортепиано, то я почти всегда замечаю, что ты с крайним принуждением учишь свои уроки, отчего и время, и деньги пропадают даром.
3. Когда одеваешься, прилагаешь слишком много труда к этому делу, а в продолжение дня никогда не сделаешь на себя оборота: чисто ли на тебе платье? Так ли оно держится, как должно? А в сём-то и состоит опрятность. Не о красоте своей должна думать женщина, а чтобы все, что на ней надето, было во весь день чисто и опрятно.
4. Нет у тебя охоты ни к какому рукоделию, а для женщины рукоделие необходимое занятие. Оно бывает ей нужно в бедности, в которой человек, какое бы он ни имел состояние, находиться может; или даже как удовольствие, ибо случается работать для любезных нам людей, в знак памятования о них, и для себя, в дом (свой труд всегда приятнее иметь на глазах, нежели чужой), или ещё когда находишься в таком состоянии здоровья, что не можешь ни читать, ни рассуждать – сие часто бывает с людьми слабого здоровья, – тогда, чтобы не быть в праздности, занимаешь себя каким-либо рукоделием и время проходит не так скорбно.
5. С весьма недавнего времени, хотя не часто, случается с тобою, что, если кто тебя в чём оговорит или остановит, ты тотчас переменяешь выражение своего лица. Если бы перемена эта изъявляла сознание твоё в ошибке, было бы хорошо; но, напротив, на лице твоём тогда видна бывает досада, что очень дурно.
6. Часто споришь с товарищами и всегда стараешься, чтобы твой был верх.
Сего 1807 года, 19 мая».
«Жизнью своею украшал гражданство…»
Александр Кутайсов родился 30 августа 1784 года.
Его отец был мальчишкой подобран в Бендерах, взятых штурмом 2-й армией Петра Ивановича Панина в 1770 году, в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов, и подарен Императрицей Екатериной Великой наследнику престола великому князю Павлу Петровичу. Павел играл с ним и привязался к нему. Турчонок стал в крещении Иваном Павловичем, а фамилию получил Кутайсов, поскольку родился будто бы в городе Кутая (Кютахья).
Смышлёный турчонок постепенно продвигался по иерархической лестнице, служил камердинером, учился в Париже, куда Павел Петрович отправил его учиться парикмахерскому искусству, затем, как выразился о нём Суворов «чесал и брил своего господин. Став Императором, Павла I сделал его обер-шталмейстером двора (начальником императорских конюшен) и пожаловал графский титул.
Великий князь Николай Михайлович писал о нём:
«Кутайсов был одним из самых ненавистных всем фаворитов. Значение его было велико, но у него не было никаких убеждений, и широкие государственные интересы ему были чужды; склонность к интригам, корыстолюбие, страх за своё положение руководили им. В конце своей блестящей карьеры Кутайсов оставался тем же, чем был при её начале; влияние его было пагубно для его благодетеля».
А вот женил Император своего любимца на женщине высоких достоинств – Анне Петровне Резвой – происходившей из доброго дворянского рода.
О ней и о её предках – разговор особый… Но это в последующих главах.
У Кутайсова было три сына и три дочери. Сын Николай и дочь Софья умерли в детском возрасте. А вот Павел Иванович (1780-1840), старший брат нашего героя, генерала Александра Кутайсова, дослужился до чина камергера и стал уже в позднейшие годы членом Государственного Совета.
Сестра Мария (1787 – 1870), которая была замужем за графом Владимиром Фёдоровичем Васильевым, ничем особенным не отличалась, а вот фрейлина Надежда Ивановна (1796 – 1868), известна тем, что написала воспоминания, посвящённые восстанию 1830 – 1831 гг. в Польше. В 1821 году она вышла замужем за князя Александра Фёдоровича Голицына.
Десяти лет от роду Александр, второй по старшинству сын павловского фаворита, десяти лет отроду был записан в лейб-гвардии конный полк. В 1796 году был пожалован сержантом Преображенского полка, а вскоре получил назначение капитаном в Великолукский полк с причислением к штабу Михаила Илларионовича Кутузова.
После вступления на престол Павла Петровича отец Александра И.П. Кутайсов в короткий срок превратился из парикмахера во влиятельного царедворца и кавалера высших орденов. Естественно, всё это отразилось и на судьбе будущего генерала.
О предках Александра Кутайсова по материнской линии сохранились сведения значительно более полные.
Мать Александра Ивановича Кутайсова Анна Петровна, урождённая Резвая, родилась в семье подрядчика дворцового ведомства Петра Терентьевича Резвого, который был хорошо известен Императрице Екатерине Второй, частенько называвшей его «мой подрядчик».
Пётр Терентьевич продолжал дело, начатое его отцом, Терентием Резвым, родоначальником фамилии, название которой происходило от старинного правописания прилагательно «резвой», то есть «резвый». А нарекла «резвым» Терентия Императрица Елизавета Петровна за то, что тот однажды очень быстро и сноровисто исполнил какое-то её поручение. Она же своим указом освободила Терентия Резвого «от всякой службы», а дом «от всякого постоя», чтобы он мог всё своё внимание уделять основной задаче, поставленной ему, – поставкам для императорского двора живых стерлядей.
Терентий занимался этим делом ещё при Петре Первом, являясь, кроме того, поставщиком ряда петербургских учреждений. А, когда был создан в Петербурге Сухопутный шляхетный кадетский корпус, ему были поручены поставки рыбы и для кадет.
В Петербург Терентий приехал из Осташкова, где и сам он прежде, а, впоследствии, и его родственники пользовались всеобщим уважением и были в почёте, а один из них, Кузьма Резвой, стал депутатом от города Осташкова в «Екатерининской комиссии о сочинении нового Уложения».
Торговое дело у деда Дмитрия Петровича было поставлено неплохо. Продолжал традицию и отец, Пётр Терентьевич Резвой, открывший в Петербурге торговлю гастрономическими товарами и фруктами. Сохранились свидетельства о том, что это был человек широкой души, отличный, примерный семьянин. Он дал всем детям вполне достойное по тем временам образование. И не случайно на его памятнике было начертано: «Жизнью своею украшал гражданство и с пользою тому служил, а смертью причинил неутешную горесть многочисленно семье своей».
Одну из своих дочерей – Анну – как уже упомянуто выше, он выдал замуж за Кутайсова, тогда ещё, конечно, не графа, но любимчика наследника престола. То есть брак был весьма и весьма выгодным.
Сыну турка-брадобрея
«дала жизнь русская женщина… из чисто русской семьи»
Тут хотелось бы остановиться на одном весьма и весьма забавном эпизоде из моего литературного творчества, связанного именно с сыном Анны Петровны, Александром Кутайсовым.
В восьмидесятые годы я служил в Военном издательстве Министерства Обороны СССР. Конечно, для издательской деятельности более подходит слово работа, нежели служба. Но, поскольку я был до мозга кости военным: за плечами Калининское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, служба в войсках в должностях от командира мотострелкового взвода до командира батальона, то и работу в военном журнале, предшествующую издательской, и издательскую работу, всегда называл службой.
В военную печать я пришёл из войск, специального образования не имел, ну и занимался в основном теми темами, которые были мне близки по роду военной службы. Во всяком случае, на исторические темы до того случая, о котором хочу поведать, писать довелось лишь однажды. В журнале «Советское военное обозрение» опубликовал очерк «Гордость России», посвящённый 150-летию со дня рождения Александра Васильевича Суворова.
А тут на одном из Всеармейских семинаров молодых военных писателей, которые регулярно проводились Главным Политическим управлением Советской Армии и Военно-Морского Флота, подружился с молодым ещё в ту пору журналистом капитаном Александром Бондаренко. Вот он-то и решил привлечь меня к темам историческим… Ныне Александр Юльевич Бондаренко, полковник запаса, возглавляет отдел литературы и искусства газеты «Красная Звезда», а в ту пору руководил небольшой газеткой-многотиражкой военного училища.
Заняться историей он меня убедил не сразу. Я же, желая ему помочь, решил познакомить с ребятами из издательства «Молодая гвардия». Дружил я в ту пору с редакцией ЖЗЛ. Вот и привёл приятеля к редактору Владимиру Левченко, ну а тот сразу, с места в карьер: готовим, мол, к 175-летию Отечественной войны 1812 года ряд изданий, а потому предлагайте, о чём писать будете.
Бондаренко сразу сказал, что будет писать об Орлове…
– А ты? – спросил он у меня.
– О генерале Резвом, – упредил с ответом Бондаренко.
Я хотел возразить, но приятель мой шепнул, чтобы помолчал. Обещал всё рассказать, как и с чего начать.
Как раз готовился довольно объёмный том «Герои 1812 года». Володя Левченко согласился с предложенными героями, правда, с большими сомнениями – всё-таки не того они были уровня, что бы помещать очерки о них в столь престижный сборник. Ну и тогда же предложил сделать по очерку в альманах «Прометей», который издавала редакция ЖЗЛ. Бондаренко снова взял инициативу в свои руки и распределил между нами героев. Если о Дмитрии Петровиче Резвом я в ту пору и не слышал, то имя генерала Кутайсова было на слуху.
Ну а что касается моих сомнений, справлюсь ли, то, когда мы вышли из издательства, приятель мой пообещал подготовить список литературы, в которой я смогу найти нужные факты.
В конце концов, конечно, герои наши в большой том серии не попали, а вот очерк об артиллерии генерал-майоре Александре Ивановиче Кутайсове в альманахе «Прометей» был опубликован.
Вот я и подошёл к тому моменту, который и подвиг на это краткое воспоминание.
Рассказывая о родословной Александра Ивановича Кутайсова по материнской линии – по отцовской там и говорить не о чем, – я решил хоть в какой-то мере отделить славного генерала от прилипшего к его отцу прозвища, связанного с его национальностью, которая, впрочем, точно и не установлена. «Турок Кутайсов», «титулованный турок Кутайсов», «титулованный брадобрей Кутайсов» и так далее. Мне показалось, что и на славного героя Александра Кутайсова, в какой-то степени бросают тень такие вот определения. Ну и, рассказав о родословной его матери Анны Петровны, написал в очерке:
«Как видим, Александру Кутайсову, талантливому генералу и разносторонне одарённому человеку, дала жизнь русская женщина, происходившая из чисто русской семьи, корни которой уходят в исконно российские земли, в город Осташков, где берёт начало великая русская река Волга. Именно из этой семьи, давшей потом России многих замечательных сыновей, вынес Александр всё лучшее, что в нём было. Безусловно, не от отца, титулованного турка-брадобрея, он мог получить широту русской души, безудержную храбрость, замечательный военный талант…»
Когда работали с вёрсткой, Володя Левченко заметил, что к этому абзацу обязательно кто-то придерётся. Заменили «русская река Волга», на словосочетание «наша река Волга», но больше ничего менять у редактора рука не поднялась. Это и стало причиной забавного происшествия.
Вышел альманах к 175-летнему юбилею Отечественной войны, хотя и не был посвящён этой дате – просто очередной, выпуск – он так и назывался: «Прометей – 14», то есть четырнадцатый выпуск.
И вот как-то осенью, когда я был в гостях у сценариста-документалиста, Евгения Латия, позвонила ему одна его знакомая и сказала:
– Николай Шахмагонов у тебя? Да!? Так включи скорее телевизор, там Генрих Боровик его отца в передаче «Позиция» критикует…
В ту пору даже канал не надо было называть. Все важнейшие телепередачи шли по первому каналу.
Включить то включили, да вот опоздали, конечно. Генрих Боровик своё выступление закончил. Стали выяснять, о чём вообще речь была. Оказалось, что разговор был об очерке «На поле чести», опубликованном в альманахе «Прометей». Женя Латий знакомой своей сказал тогда:
– Так это не отца Боровик критиковал, а именно Николая.
Большого труда стоило выяснить, что же сказано было. Далеко не у всех была аппаратура, с помощью которой можно записать телепередачу. Но кто-то из знакомых записал звук, без видео.
Генрих Боровик вышел с книжкою альманаха, раскрыл её и заявил, что вот, мол, пример великодержавного шовинизма. В то время очень часто эту тему поднимали тогдашние либерасты. Боровик и заявил, мол, «посмотрите, что пишет молодой литератор Шахмагонов». Прочитал он тот абзац полностью, на всю страну прочитал и сделал заключение: почему же это Кутайсов все лучшие, указанные в очерке качества мог получить именно от матери Анны Петровны, а не от отца?
Что тут сказать? По-моему, и так ясно. Достаточно привести примеры из военной истории, примеры соотношения сил в сражениях и битвах с турками и соотношения потерь и станет ясно.
Вспомним, как относился к бывшему брадобрею Кутайсову Александр Васильевич Суворов. Мемуарист эпохи Николай Иванович Греч в «Записках о моей жизни» так описывает свидание Кутайсова с Суворовым:
«Кутайсов вошёл в красном мальтийском мундире с голубою лентою через плечо.
– Кто вы, сударь? – спросил у него Суворов.
– Граф Кутайсов.
– Кутайсов?! Кутайсов?! Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что же вы такое по службе?
– Обер-шталмейстер.
– А прежде чем были?
– Обер-егермейстером.
–А прежде?
Кутайсов запнулся.
– Да говорите же?
– Камердинером.
– То есть вы чесали и брили своего господина.
– То.. Точно так-с.
– Прошка! – закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофию. – Ступай сюда... Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты вечно пьян и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.
Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил Императору, что князь в беспамятстве и без умолку бредит».
Словом, что уж там говорить, какие такие высокие душевные качества, какую такую храбрость можно унаследовать у турка-брадобрея, кстати спустя менее чем через год после описанной встречи, 11 марта 1801 году сбежавшего из дворца и не осмелившегося прийти на спасение к своему благодетелю.
Сначала я хотел как-то ответить, высказать свои соображения на этот счёт. Даже отыскал адрес Генриха Боровика в справочнике Союза писателей СССР, но смутило количество указанных там отчеств – Аверьянович, Авиазерович и Эзеншульевич… Которое правильное? Впрочем, многие товарищи мне советовали не сердиться, а выразить сердечную благодарность за столь необыкновенную рекламу моего творчества.
Но реклама рекламой, а времена были такие, когда партийные организации ещё работали по устоявшимся принципам.
Утром пришёл я на службу в Воениздат, как ни в чём не бывало. Подумаешь, упомянули в передаче. Но «Позиция» в ту пору была очень и очень популярна. Дискуссии там развёртывались, порою, серьёзные.
И вот что сразу бросилось мне в глаза – странное какое-то отношение «старших товарищей», истых партийцев, ну то есть членов КПСС. Коммунистами их как-то вот всех назвать язык не поворачивается.
При встрече глаза отводили, руки прятали, чтобы не случилось рукопожатия дружеского. Все чего-то ждали. Ну а чего можно было ждать? Конечно же, реакции парткома. Я всё же, как никак уличён шовинизме. Надо реагировать. Во всяком случае, ещё несколько лет назад реакция была бы вполне предсказуемой. Но тут – тишина.
На обед мы ходили в столовую Воениздата. Нужно было немного в очереди постоять. Так вот и в очереди тоже почувствовал настороженность. Перед разбором персонального дела некоторые считали, что лучше бы не засвечиваться добрым отношением к провинившемуся.
Прошёл обед, я встал из-за стола – а зал у нас был просторный, широкий, с большими окнами. Словом, строение нового уже типа – «из стекла и бетона». И вот в зал как раз в тот самый момент вошёл заместитель главного редактора Воениздата полковник Евгений Павлович Исаков.
Это был строгий и требовательный начальник. Он – выпускник Казанского суворовского военного училища, я – Калининского СВУ. Конечно, существует девиз «кадет кадету друг и брат», но и поговорка известна: дружба дружбой, а служба службой. Дисциплина превыше всего. И никаких поблажек, если речь о деле.
Одно можно сказать твёрдо – Евгений Исаков был не из когорты либерастов и им сочувствующих, не из компании сокрушителей России. Но тут случай особый. Я перед всей страной был уличён в шовинизме, строго осуждаемый партией! И кому было дело до того, что Румянцев, Потёмкин, Суворов, Кутузов били турок даже в тех случаях, когда те превосходили числом в десять, а то и более, раз. Кому было дело в данном случае до того, что даже при штурме мощнейших крепостей, коими были Очаков и Измаил, и Потёмкин, и Суворов брали крепости, имея силы, вдвое меньшие, чем в крепостях. А ведь любая даже полевая наступательная операция требует для того, что бы добиться успеха, пятикратное преимущество.
Как можно оскорблять извечных врагов! Вот если бы было в девятнадцатом веке телевидение, глядишь, какой-нибудь либерал мог бы назвать шовинистом русского генерала Валериана Мадатова, армянина по национальности, заявлявшего, что «в сражениях с азиатскими народами не соотношение сил, а решительный натиск и смелость дают перевес, что уступить неприятелю один шаг, значит, придать ему бодрости и отважности и, следовательно, при превосходстве сил его обречь себя на поражение».
Я был уверен в правильности того, что написал. Но не все были уверены в том же…
И вдруг Евгений Павлович Исаков пошёл прямо ко мне, широко раскинув руки и провозглашая на весь зал своим командирским голосом – большинство сотрудников различных учреждений печати были в прошлом строевыми офицерами.
– Коля! – провозгласил Исаков, а ведь если командир недоволен, то подчинённый для него не Коля или Серёжа или Миша, – Коля, дорогой! Ну, поздравляю. Каков успех! Когда враг ругает – высшая оценка!
И вокруг сразу все наши партийцы заулыбались. Начальство определило, что нарушения в моём очерке нет! Кстати, партком никак не отреагировал, потому что там тоже уже был вполне нормальный офицер, грамотный, авторитетный, полковник Войнов.
Но и это ещё не всё. Передача была в среду. А в четверг и пятницу в кабинете, в котором работал я не один, а с двумя своими сослуживцами, находиться было просто невозможно. Поздравления не прекращались до самых выходных, и накал их спал лишь на следующей неделе. Либерасты, конечно, были недовольны и осуждали, но то, что осуждают либерасты, которым всегда хорошо, если России плохо и всегда плохо, если России хорошо, любо и дорого тем, кому дорога Россия.
Ну а в издательстве «Молодая Гвардия» выступление тоже не осталось незамеченным. В редакции ЖЗЛ порадовались. Но вот ещё что интересно. В вестибюле там был, да, наверное, и сейчас есть киоск. Только в восьмидесятые в нём можно было приобрести книги, которые на прилавки обычных магазинов практически не поступали. Так вот уже на следующий день после передачи этот киоск атаковали посланцы из множества самых различных учреждений, расположенных по соседству с издательством. Альманах брали целыми пачками…
Остаётся добавить, что Художественный образ графа Ивана Павловича Кутайсова нам знаком по кинокартине «Крепостная актриса». А из биографии брадобрея известно, что была у него и внебрачная дочь. С её матерью, актрисой мадам Луизой Шевалье, урождённой Пуаро, интимных связей своих он не скрывал.
Вероятнее всего брадобрей Кутайсов впервые увидел свою возлюбленную на премьере комической оперы «Рено д`Аст», которая состоялась 17 июня 1797 года в придворном театре, в Павловске. Ну а потом Император устроил торжественный ужин в честь актрисы и её супруга, танцовщика Пьера Шевалье. На ужине, разумеется, присутствовал и бывший брадобрей граф Кутайсов.
Подробности завязки романа на поверхности не лежат. Их, наверное, можно отыскать не в архивных документах, а в воспоминаниях современников. Известно же, что вскоре брадобрей граф Кутайсов (приходится постоянно повторять приставку «брадобрей», чтобы отвести сочетание «граф Кутайсов», от блистательного генерала Александра Ивановича Кутайсова), приобрёл дома для актрисы Шевалье на набережной Невы в Петербурге и в Гатчине, поскольку Павел Петрович подолгу, порой, находился там.
Архитектор Н.В. Якимова в статье повествовании, посвящённом «Усадьба Клодницких», опубликованной в Историческом журнале «Гатчина сквозь столетия», предположила, что в одном из гатчинских домов, специально приобретённых для любовных утех, «происходили интимные встречи с актрисой Шевалье, которая была не только влиятельной фавориткой Кутайсова, но и платной шпионкой Наполеона. Не исключено, что именно здесь формировался мирный договор с Францией, только разговоры о котором послужили одной из причин убийства 11 марта 1801 года».
О договоре необходимо сказать несколько слов, поскольку он имел колоссальное значение для предотвращения столкновений в Европе, которые впоследствии получили название Наполеоновских войн.
Император Павел Петрович вовремя уловил важные перемены в европейской политике. Предательство союзников в 1799 году открыло ему глаза. В те дни датский посланник докладывал своему двору о важном разговоре с Императором: «Государь сказал, что политика его остаётся неизменною и связана со справедливостью, где Его Величество полагает видеть справедливость. Долгое время он был того мнения, что она находится на стороне противников Франции, правительство которой угрожало всем странам; теперь же во Франции в скором времени водворится король, если не по имени, то, по крайней мере, по существу, что изменяет положение дела».
Идея, по словам биографа Павла Первого Н.Шильдера, заключалась в «предложении тесного союза с представителями мятежной, но теперь успокоенной Франции, и связанного с ним раздела Турции. Центром плана должен быть Бонапарт, который должен был найти в предполагаемом разделе вернейший способ к уничтожению Великобритании и утверждению при общем мире всех завоеваний, Францией сделанных… «России он уделяет Романию, Булгарию и Молдавию, а по времени греки и сами пойдут под скипетр Российский». Союз с Францией предполагался во имя освобождения славян».
Вскоре представитель Императора Павла Первого встретился с Наполеоном, уже ставшим первым консулом Франции. Наполеон сразу заговорил о своём желании заключить прочный мир с Россией, объясняя это тем, что географическое положение обеих государств создаёт условие для того, чтобы жить в мире и согласии. Так от союза с первым министром Англии Вильямом Питом Император Павел Первый перешёл к союзу с первым консулом Франции Наполеоном, которого назвал монархом «если не по имени, то по существу». Вот и ещё одна причина, по которой слуги тёмных сил зла готовили расправу над Русским Государем, желавшим управлять Державой в интересах самой Державы, а не её врагов. Между тем, над Англией стали сгущаться тучи, что ещё более ускорило подготовку к покушению на Русского Государя.
12 января 1801 года по приказу Императора Павла Донской казачий корпус был направлен в Индию. Этот приказ иные историки рассматривают, как факт ненормальности Русского Государя, либо умышленно скрывая правду, либо, по собственному невежеству, не зная её. Ведь одновременно с Павлом Первым Наполеон тоже отдал распоряжение корпусу французских войск идти в Индию. Причём этот корпус Бонапарт собирался возглавить сам. Его, однако, интеллигентские историки сумасшедшим за это решение не посчитали. Император Павел придавал казаков в помощь Наполеону для осуществления общей задачи – изгнания англичан из Индостана.
Французский корпус должен был выступить от берегов Рейна. Маршрут его пролегал по реке Дунаю, Чёрному и Азовскому морям, до устья Дона. По Дону предполагалось подняться до переволоки (там, где ныне канал «Волга–Дон»), переволокой добраться до Волги, затем уже по Волге, войти в Каспий. Соединение русских и французских войск планировалось в Астрабаде. Были даже заготовлены специальные прокламации и воззвания к мусульманскому населению стран, через которые предстояло следовать соединённым силам. В них говорилось: «Армии двух могущественных стран в мире должны пройти через ваши земли. Единственная цель этой экспедиции – изгнать англичан из Индостана… Два правительства решились соединить свои силы, чтобы освободить индусов от тиранического и варварского ига англичан».
Как тут было не торопиться разорвать союз России и Франции, становившийся губительным для Англии!
Так вот актрисаЛуиза Шевалье работала на Наполеона, но в заключении мира с Францией Император был заинтересован и содействие в этом шпионки Бонапарта не мешало. О её тайной роли, скорее всего было известно, поскольку сразу после убийства Императора, соучастник злодейства, вступивший на престол, выслал Луизу Шевалье к большому огорчению Кутайсова, который до конца дней своих носил медальон с её изображением. Но вступиться он уже не мог, поскольку потерял всякое влияние, да и вообще на некоторое время предпочёл покинуть Россию.
Правда новоиспечённый Император повелел выдворить шпионку без конфискации всех несметных богатств, которые она приобрела в России благодаря своей неуёмной алчности и жадности.
Возможно, показывая брадобрея, авторы кинофильма «Крепостная актриса» не ушли далеко от правды в изображении самого Кутайсова, но вот графиня Анна Петровна Кутайсова, урождённая Резвая, представленная там в шутовском стиле, явно не заслужила того, что ей приписано. Думается, эта женщина заслуживает другого к ней отношении. Ведь она дала России талантливого генерала, героя Отечественной войны 1812 года, сложившего голову на Бородинском поле и оставившего заметный след в русской военной истории.
Кстати, род Резвых, богатый славными именами, тянется до нашего времени…
«Впервые участвуя в бою, выказал храбрость и распорядительность».
Конечно, военная судьба Александра Кутайсова складывалась значительно легче, нежели у его дяди Дмитрия Петровича Резвого, участника разгрома турецкого флота в Днепровско-Бугском лимане в июне 1788 года и штурма Очакова 6 декабря того же года, штурма предместья Варшавы Праги, Швейцарского похода Суворова и многих других славных походов. Он получил генеральский чин в зрелые годы.
Александр Кутайсов был, безусловно, одарённым человеком. Современники отмечают, что он знал несколько иностранных языков, причём по-французски он мог не только говорить, но и писать стихи. Он хорошо рисовал, разбирался во многих вопросах архитектуры, но с особым пристрастием изучал военное дело и прежде всего, артиллерию и фортификацию.
Всё это способствовало успехам, но главную роль на первых порах, конечно, сыграло высокое положение отца.
Особенно быстро пошло продвижение по службе после того, как на престол вступил Император Павел.
В 1799 году, пятнадцати лет от роду, Кутуйсов был уже полковником лейб-гвардии артиллерийского полка.
Артиллерию он избрал не случайно. Прежде всего, конечно, повлиял на выбор его дядя Дмитрий Петрович Резвой, который, кстати, в том же 1799 году стал генерал-майором, пройдя большой и славный путь боевого артиллерийского офицера.
Все племянники Дмитрия Петровича, в том числе и Александр Кутайсов, души не чаяли в добром, остроумном дядюшке, влюблённом в артиллерию и знавшем её досконально.
И вот результат – сын младшего брата его Орест Павлович Резвой стал артиллеристом и дослужился до чина генерала от артиллерии. Все три сына старшего брата Николая Петровича – Пётр, Дмитрий и Николай – тоже стали офицерами-артиллеристами. В артиллерию пришёл и сын сестры Анны Александр Кутайсов. Любознательный, способный к наукам, он легко постигал всё, чему учили, много занимался сам.
Важную роль в службе Кутайсова сыграла работа в «Воинской комиссии для рассмотрения положения войск и устройства оных», в работе которой он участвовал вместе со своим дядей Дмитрием Петровичем.
Комиссия была образована 24 июня 1801 года и имела задачу определить численность и устройство войск, порядок пополнения, вооружения и обмундирования.
Генерал Резвой и полковник Кутайсов занимались преобразованиями артиллерии. Необходимость таких преобразований назрела давно. Дело в том, что уже во второй половине XVIIIвека линейная тактика стала постепенно заменяться новой – тактикой колонн и рассыпного строя. А как известно, развитие нового способа военных действий предопределяет в первую очередь совершенствование новой техники.
Появление ударно-кремниевых ружей, стального штыка и гладкоствольной артиллерии, которая оказывалась привязанной к строю и не могла выполнять задачи, не имея возможности совершать манёвры, сосредоточивать огонь по наиболее важной цели или рассредоточивать его по различным целям.
Одним словом, потребовалось разрабатывать новую тактику и новую стратегию генерального сражения.
Артиллерия стала приобретать манёвренность, а манёвр огнём и колёсами повысил её эффективность. Изменения в тактике, в свою очередь, потребовали реконструкции артиллерийских систем и совершенствования организации артиллерийских произведений.
Задачи решались самые разнообразные: рассматривался вопрос о необходимости ликвидации фурштата и введения нового положения о содержании артиллерийских лошадей, а также введения вместо зарядных фур зарядных ящиков, одинаковых для всех орудий, принятия на вооружение единообразных орудий и лафетов и диоптра Маркевича, удобного для стрельбы.
Значительная реорганизация проводилась в строевом обучении: устанавливались единые команды, поскольку артиллерийского устава ещё не было. Комиссия дала необходимые установки по проведению занятий и практических учений.
До начала войны с Францией, то есть до 1805 года, комиссией была проделана важная работа, в результате которой русская артиллерия с успехом выдержала все испытания наполеоновских войн.
Все эти годы Кутайсов усиленно изучал военные науки, в совершенстве освоил новую тактику действий артиллерии и к своему боевому крещению подошёл хорошо подготовленным артиллерийским командиром.
Не только и не столько работа комиссии оказала в то время влияние на реорганизацию русской армии. Значительную роль в этом сыграли кампании 1805 и 1806-1807 годов.
К примеру, учреждением постоянных дивизий было раз и навсегда покончено с импровизированными высшими войсковыми соединениями, характерными для организации войск в XVIIIвеке. Они страдали отсутствием достаточной внутренней спайки между отдельными частями, говоря языком нынешним, невозможно было добиться должного боевого сколачивания.
Дивизии имели разнообразную численность – в среднем 10 600 штыков, 2700 сабель, 54 полевых орудия, – но заключали в себе все роды войск. Примерно было 6 – 7 пехотных полков, 4 – 5 кавалерийских полков с казаками, 4 – 6 рот батарейной или тяжёлой, лёгкой и конной артиллерии, атак же пионерную (сапёрную) роту.
Полевая артиллерия взамен батальонов и полков была переформирована в бригады, причём к каждой дивизии приписывалась своя артиллерийская бригада. Этим достигалось более тесное взаимодействие между пехотой и артиллерией.
В те годы русская артиллерия не раз показывала образцы блестящего ведения боя. Артиллерийские роты искусной стрельбой, смелым манёвром, своевременным массированием сил нередко оказывали решающее влияние на ход и исход сражений.
В июле 1803 года Александр Кутайсов был определён во 2-й артиллерийский полк. В этом полку 11 сентября 1806 года он получил генеральское звание.
А 14 декабря 1806 года принял боевое крещение под Голымином.
В тот день Наполеон, ошибочно посчитав, что главные силы русской армии находятся не под Пултуском, где они были на самом деле, а под Голымином, атаковал небольшой отряд князя Голицына, численностью в 10-12 тысяч человек.
Этот отряд образовался случайно из полков различных дивизий, частью заблудившихся во время отступления от реки Вкры вследствие противоречивых указаний главнокомандующего графа Каменского, частью отрезанных от своих соединений при наступлении французов в северном направлении.
Генерал Кутайсов спас отряд от разгрома, умело командуя артиллерией и рассеивая метким огнём атакующих французов.
Сам Каменский сделал отзыв: «Впервые участвуя в бою, выказал храбрость и распорядительность».
Возглавив артиллерию корпуса генерал-лейтенанта Николая Алексеевича Тучкова, Кутайсов успешно действовал в сражении при Прейсиш-Эйлау, где как уже говорилось, спас от разгрома всю русскую армию. Затем он отличился под Ломитеном, за что получил орден Св. Владимира 3-йстепени, и при Гейльсберге, где артиллерия корпуса оказалась в критическом положении и была спасена лишь благодаря личной отваге Кутайсова.
В послевоенные годы, обобщая полученный опыт, Кутайсов написал «Общие правила для артиллерии в полевом снаряжении».
Это был труд, отражавший передовые взгляды на роль артиллерии и принципы её боевого применения. Генерал Кутайсов, иллюстрируя свои рассуждения примерами из опыта войны, доказывал необходимость своевременного сосредоточения сил артиллерии на главных направлениях, расположения батарей на высотах для стрельбы через головы своих войск, манёвра силами артиллерии в бою.
В 1812 году инструкция была принята для всей русской армии. Она сыграла важную роль в установлении единых взглядов на боевое применение артиллерии и восполнила отсутствие боевого устава.
Работая над документами и наставлениями, Кутайсов чувствовал недостатки своего образования. Он часто повторял: «Надобно спешить учиться».
В 1810 году он взял годовой отпуск и отправился за границу. В Вене он изучил арабский и турецкий языки настолько, что мог свободно разговаривать на них. В Париже занимался математикой и баллистикой.
По утрам, переодеваясь в штатское платье, слушал лекции известных учёных или работал в библиотеках, а вечерами беседовал на военные темы с французскими генералами – участниками недавних кампаний.
Привлекательный внешне, весёлый и приветливый, он был принят в любом обществе, где нередко читал свои стихи и музицировал.
Не удивительно, что юная княжна Анастасия Мещерская проводив его в путешествие, тосковала и с нетерпением ждала возвращения.
С ранних лет считала своим суженым…
Когда Александр Кутайсов, взял отпуск и отправился в Европу, княжне Анастасии шёл всего лишь четырнадцатый год, а княгиня Евдокия Николаевна Мещерская и княгиня Анна Петровна Кутайсова мечтали, что поженят своих чад, когда Настеньке исполнится шестнадцать или семнадцать. Шестнадцать ей должно было исполниться 2 июня 1812 года.
Кто знал в 1810 году, когда Кутайсов отправлялся в Вену и Париж, что будет в том, впоследствии столь памятном для России году?
Летом 1809 года Александр часто гостил у родителей в имении, видел юную княжну, да, пожалуй, даже не юную, а совсем ещё княжну-ребёнка. Он знал о планах матери, не противился им, но о чём-то серьёзном думать было рано. И всё же он охотно бывал в гостях у соседей, принимал участие в вечерах, на которых читал стихи, играл на рояле…
А княгиня Мещерская продолжала готовить дочь к будущей жизни, и остались замечательные свидетельства этой удивительной подготовки.
Мы видели, как воспитывала княгиня совсем ещё маленькую, десятилетнюю дочь.
Вслед за первой беседой, была «Беседа 2»:
«Скажу здесь о праздности, что она губит совершенно все добрые свойства человека, ибо кто ничем не занят в продолжение дня, у того мысли не сосредоточиваются, стремясь к какой-либо разумной цели, не имеют между собою связи, остаются в бездействии. Лишь только мыслящая способность остаётся без должного употребления, человек уже не существует, он делается подобием машины, которая не сама собою двигается, а разными пружинами, дающими ей ход. Таков и человек, не мыслящий, а действующий под влиянием одних физических побуждений. Он уже ничего ни правильного, ни основательного сделать не способен, переходит от смеха к слезам, от пустой скуки в пустую же радость, и если настанет для него минута проверить себя и обсудить свои действия, он ужаснётся своего положения, ибо уже не найдёт себя разумной тварью, а неким животным с свойственными последнему, а не человеку побуждениями.
Сего 30 мая, 1807 года»
Так писала она дочери, когда ещё шла русско-прусско-французская война 1806-1807 годов, когда Александр Кутайсов закалял свою волю от сражения к сражению, что потом, осмысливая свой опыт, работать, работать и работать умственно. Вот именно так, как воспитывала княгиня Мещерская его будущую невесту.
Важными поучениями полна и «Беседа 3»
«Твоя чрезмерная робость меня огорчает, а для тебя самой она крайне невыгодна. Не следует смешивать скромность с робостью. Скромность – добродетель и украшение женщины, а неуместная робость – подобие глупости. Скромность научает нас, когда и что говорить, не соваться на глаза старшим, не вмешиваться в разговоры, до нас не касающиеся, не хвалиться нашими познаниями и т.д. Такая робость происходит частью от самолюбия, которое внушает тебе желание казаться лучше, чем ты есть на самом деле, почему и являешь из себя дурочку. Надо помнить, что я везде слежу за тобою, и буде что по детству сделаешь не так, я остановлю; следовательно, робеть нечего. Если даже и в моё отсутствие ты что неудачно сделала бы, то по молодости лет твоих тебя всякий извинит, лишь не уклонилась бы ты от скромности и благопристойности и действовала бы в простоте сердца своего.
1809 года, 20 июня, во время пребывания в селе Рековичах».
А время шло, Настенька подрастала и распускалась как прекрасный цветок… 1810 год принёс ей первую грусть разлуки с тем, кого она с ранних лет считала своим суженым…
В том году княгиня Мещерская писала в «Беседе 4»:
«Тебе минуло четырнадцать лет. Бог благословил меня взрастить тебя и дождаться от тебя некоторых добрых плодов в награду за труды мои. В кратком замечании на истекший год увидишь, что я тобою довольна.
Призывая Бога к помощи, я направляла твоё воспитание к тому, чтобы ты всегда могла, в каких бы ни была обстоятельствах, находить в самой себе убежище, не зависела бы от других и не искала бы своего отдохновения в пустом рассеянии, которое только химерически облегчит бремя жизни, а на самом деле, окончательно утомив, оставляет пустоту в душе, призванной к вкушению истинного блаженства, а потому не удовлетворяющейся одними наружными приманками. Бесспорно то, что человеку бывает нужно временное рассеяние, но не иначе как после трудов».
И далее уже говорит прямо о предназначении дочери, поскольку предназначение женщин в ту пору было в первую очередь хранить семейный очаг, ну а жёнам военным предстояло обеспечивать, как принято говорить ныне, тыл! Княгиня не забывала о том, что решили они с Анной Петровной Кутайсовой, её радовало, что дочь не противится материнскому выбору и похоже будущий жених тоже не противится желанию своей матери. Радовало то, что Александр Кутайсов, не в пример некоторым «современным» молодым людям тянется к знаниям, работает над собой, что он, будучи и так образован более своих сверстников, не останавливается на достигнутом. И она писала дочери:
«Тебя ожидает семейная жизнь, ты призвана заимствовать счастие от того семейства, к которому будешь некогда принадлежать, а также и доставлять ему оное. Питаю себя лестною надеждою, что кротостью, послушанием, ровностью характера ты действительно не возмутишь семейного спокойствия, но чтобы быть довольной собою и чтобы тобою другие были довольны, нужно ещё иметь те качества, о которых я говорила выше: знание своих обязанностей как в отношении своих семейных, так и общества. Знание хозяйства и наблюдение в оном порядка – необходимое условие семейной жизни.
Расход денежный, который сама ведёшь и своевременно вносишь в книгу, уже научает тебя ограничивать свои желания, чтобы в конце года не войти в долги, которые, как бы ни казались малы сравнительно с состоянием того, кто их делает, причиняют ему много забот и, незаметно накопляясь, часто окончательно его разоряют».
Удивительно то, что княгиня Евдокия Николаевна всё раскладывает по соответствующим уровням значимости в жизни. Да, прежде всего духовность и задушевные отношения с близкими людьми, в семье, но нельзя забывать и делах насущных, надо заботиться о том, чтобы желания не превышали возможностей. Она, как человек глубоко верующий, часто говорила дочери о том, что сравнивать своё положение, свой достаток надо не с теми, кто выше в иерархической лестнице, кто богаче материально, а с теми, кто уступает в достатке, кто стоит ниже тебя в тех условностях, которые создали люди и за которые они держатся на протяжении многих веков.
Не указана дата, но, видимо, «Беседа 5» относится к несколько более позднему времени. Возможно, минул ещё один год, приближая час вступления Анастасии в возраст уже полетам юный, а по общественным правилам вполне подходящий для строительства семьи. Вот строки из очередной беседы:
«В нынешнем году я не заметила большой разницы в проявлениях твоего характера с теми, что отметила в предшествующем. Не сделаю никаких новых замечаний, только обращу твоё внимание на расход истекшего года, из которого явствует, что много лишнего было принесено в жертву малодушию, почему и недоставало денег на священнейшую для всех нас обязанность: нашими избытками помогать ближнему, который, быть может, нуждается в необходимом в то самое время, как мы роскошествуем и прихотничаем».
Благотворительность была в характере княгини Евдокии Николаевны. Милосердие, доброе отношение к людям она унаследовала от матери. В первые годы своего вдовства она много внимания уделяла помощи сиротам, очень сильно прочувствовав, что это такое. Пусть дочь и не осталась круглой сиротой, но она росла без отца, а что такое расти без мужской защиты, мужской силы, княгиня испытала, когда набросились на неё братья покойного супруга, пытаясь отсудить состояние, по праву её принадлежавшее.
И вот, наконец, «Беседа 6». Княжне 16 лет… Евдокия Николаевна написала в тетрадке:
«Приятно мне, любезнейшая дочь, встречать дни твоего рождения. Ныне тебе минуло шестнадцать лет!
Ты вступаешь в такой возраст, где должна уже быть моим сотоварищем и отчасти даже помощницею в моих делах и заботах – так и держи себя.
Да пребывает на тебе благословение Божие и моё до конца дней твоих».
«Артиллерия должна жертвовать собою…»
В начале Отечественной войны 1812 года генерал-майор Кутайсов был назначен начальником артиллерии 1-й Западной армии, которой командовал генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклая-де-Толли.
В трудные месяцы отступления под давлением превосходящего противника Кутайсов отличился в кровопролитном и упорном сражении за Витебск, в героической обороне Смоленска.
В «Описании Отечественной войны 1812 года», сделанном А.И. Михайловским-Данилевским, есть такие строки:
«Неустрашимость Неверовского, подкреплённого гвардейскими егерями, и искусные распоряжения начальника артиллерии графа Кутайсова, лично управляющего действиями орудий, восторжествовали над усилиями Понятовского и поляков его. Неоднократно кидались поляки к самым стенам, даже врывались в ворота небольшими толпами, от 15 до 20 человек… Ни один из ляхов не возвращался…»
Другой автор, Ушаков, в своём труде «Деяния российских полководцев, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Франциею в 1812, 1813, 1814 и в 1815 годах», посвящает Александру Кутайсову такие строки:
«Где только было сражение, и он полагал, что распоряжение его и личная деятельность могут быть полезны для успеха российского оружия, он удивлял и восхищал всех своею неустрашимостью и присутствием духа в самом пылу губительного огня и, служа личным примером подчинённым своим, оказывал великое содействие в приобретении победы».
Зная беззаветную храбрость молодого талантливого генерала, Михаил Илларионович Кутузов во время представления генералов по случаю назначения его главнокомандующим, сказал Кутайсову, что просит его не подвергать себя излишней опасности, помнить об ответственности, возлагаемой на него званием начальника артиллерии.
А ответственность оказалась необычайно высокой. В Бородинском сражении Кутайсов был поставлен начальником артиллерии всей русской армии.
Накануне сражения Кутайсов лично осматривал позиции батарей, занимался организацией доставки боеприпасов. Артиллерийские батареи он поставил на всех пяти основных опорных пунктах русской позиции: на высотах между рекой Колочей и ручьём Стонец, у деревни Горки; на Курганной высоте в одном километре к югу от Бородина (Центральная); между нижним течением реки Семёновки и ручьём Огник, впадающим в Стонец; на высоте в 200 метрах юго-западнее деревни Семёновское; на кургане, восточнее деревни Утицы.
Всё в точности по разработанной им же самим инструкции. Такое расположение батарей позволяло вести огонь через головы своих войск, а следовательно, поддерживать их не только в оборонительном бою, но и при проведении ими контратак.
Позаботился Кутайсов и об обеспечении флангов. Правый прикрыл 26 орудиями, поставив их у села Маслова, чтобы в случае необходимости препятствовать артогнём глубокому обходу неприятелю.
Ближе к левому флангу, где местность не благоприятствовала ведению оборонительного боя, юго-западнее деревни Псарёво, разместил артиллерийский резерв, который мог в любое время выдвинутся на помощь тем, обороняющимся корпусам, который в нём наиболее нуждались в складывающейся обстановке.
Памятуя об указаниях Михаила Илларионовича Кутузова, который не уставал повторять, что «резервы должны быть оберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранил резерв, не побеждён», Александр Кутайсов запретил без его ведома трогать резервные батареи. Примерно в том же духе распорядились Барклай-де-Толли и Багратион.
Барклай требовал:
«Командирам без особой надобности не вводить в дело резервы свои, разумея, о второй линии корпусов, но и по надобности распоряжаться ими по усмотрению».
Князь Багратион указывал:
«Резервы иметь сильные и сколько можно ближе к укреплениям как батарейным, так и полевым».
Понимая, сколь важная задача, возлагаемая на артиллерию, Кутайсов отдал приказ, который стал широко известен впоследствии:
«Подтвердить от меня во всех ротах, чтоб они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что, отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции.
Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесёт неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий».
Этот приказ был особенно важен потому, что внушение артиллерийским командирам чрезмерного опасения за потерю орудий приводило к тому, что артиллеристы раньше времени снимались с позиций и не использовали возможностей своего оружия для поражения противника.
К сожалению, это опасение не только внушалось свыше, но и спускалось в руководящих документах и приказах.
Вот строчки из рескрипта Александра I, данного Кутузову: «…тех командиров артиллерийских рот, у которых в сражениях потеряны орудия, ни к каким наградам не представлять».
Отдавая свой приказ, Кутайсов брал всю ответственность за него на себя. А исходил он из того, что артиллерийские командиры, не опасающиеся возмездия за потерю орудий, будут держаться до последнего, и картечные выстрелы, выпущенные в упор, в подавляющем большинстве случаев не позволят неприятелю взять орудия, поскольку зачастую именно «последний выстрел в упор» решит судьбу позиций, которыми противнику так и не удастся овладеть.
Ночь перед сражением Кутайсов провёл вместе с начальником штаба 1-й армии генерал-лейтенантом Алексеем Петровичем Ермоловым и полковником Петром Андреевичем Кикиным, исполнявшим должность дежурного генерала при ставке главнокомандующего.
Говорили о грядущем дне…
В русском лагере наступила тишина, зато с французской стороны доносился шум, здравицы во имя Наполеона…
Вспомним знаменитое Лермонтовское «Бородино»:
…И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус….
Не знали французы, куда завёл их император, которого впоследствии их же историки назвали «французским Гитлером», а современники – «корсиканским чудовищем».
Вечером, объезжая боевые порядки артиллерии, Кутайсов,по воспоминаниям одного из офицеров «соскочил с лошади, сел на ковер и пил с нами чай из черного обгорелого чайника».
Пояснил:
– Я сегодня еще не обедал
Потом высказал некоторые соображения по поводу грядущего сражения.
Офицер с горечью отметил:
«Мы следили долго этого любимого нами человека, и кто знал, что в последний раз».
Денис Васильевич Давыдов в своих воспоминаниях«Гусарская исповедь. Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» писал:
«Проведя вечер 25-го августа с Ермоловым и Кикиным, он был поражен словами Ермолова, случайно сказавшего ему: «Мне кажется, что завтра тебя убьют». Будучи чрезвычайно впечатлителен от природы, ему в этих словах неизвестно почему послышался голос судьбы»
Произнёс же Ермолов эту фразу не случайно. Историк Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенант М.И. Богданович отметил:
«Уверяют, что ввечеру, накануне Бородинского сражения, он Кутайсов, беседуя с несколькими избранными друзьями... сказал: «Желал бы я знать кто-то из нас завтра останется в живых?»
Этими «избранными друзьями» были Ермолов и Кикин. Странно только то, что чаще человек сам чувствует, что ждёт его в грядущей кровавой битве. А тут почувствовал Ермолов. А что же Кутайсов? На сей счёт тоже есть воспоминание одного из участников тех событий…
Адъютант Барклая-де-Толи Павел Хористофорович Граббе рассказал в своих воспоминаниях о встрече с Александром Ивановичем 14 августа:
Он «В Вязьме я зашёл к графу Кутайсову под вечер. Он сидел при одной свечке, задумчивый, грустный: разговор неодолимо отзывался унынием. Перед ним лежал Оссиан в переводе Кострова. Он стал громко читать песнь Картона. Приятный его голос, дар чтения, грустное содержание песни, созвучное настроению душ наших, приковали мой слух и взгляд к нему. Я будто предчувствовал, что слышу последнюю песнь лебедя».
Не случайно тонкая душа Александра Кутайсова требовала таких стихов, таких песен. Видно, интуитивно чувствовал молодой генерал приближения чего-то рокового в его жизни. Ведь Оссиан – легендарный шотландский народный певец III века н. э., воспевавший былую славу соей родины, пел песню в ожидании смерти, и была она обращена к уже ушедшим в мир иной.
Современник Кутайсова известный поэт и переводчик Николай Иванович Гнедич (1784-1833) писал по поводу этих поэтических произведений:
«Мне и многим кажется, что к песням Оссиана никакая гармония стихов так не подходит, как гармония стихов русских». А о переводе Ермила Ивановича Кострова (1755-1796), русского переводчика и поэта славного Екатерининского века, сделал пометку: «Это не перевод, но подражание Оссиану».
То, что Александр Иванович Кутайсов не только знал творчество Оссиана, но даже брал с собой поход его произведения, ещё раз свидетельствует о его уникальном образовании, о его тонком понимании поэзии.
Почему он взял с собой в свой последний военный поход среди прочих именно эту книгу, ведь он не знал, да и не мог знать, что этот поход последний?
А ведь последний приезд домой и последнее свидание с родными были совсем не печальными. К тому же добавилось много радостного. Княжна Анастасия Мещерская необыкновенно расцвела. В июне 1812 года ей исполнялось шестнадцать лет! А мы помним, что графиня Анна Петровна Кутайсова и княгиня Евдокия Николаевна Мещерская решили поженить своих чад, когда Анастасии исполнится шестнадцать – семнадцать, то есть, фактически обозначили временные рамки венчания.
Графиня Анна Петровна не могла не оценить отношение княгини Мещерской к себе, к своей семье и к своему сыну. Нелегко пришлось семье Ивана Павловича Кутайсова после убийства Императора Павла Петровича, которое, кстати, он вполне мог предотвратить. Но об этом позже.
Филипп Филиппович Вигель, знаменитый мемуарист, писал:
«После перемены царствования всякий почитал обязанностью лягнуть падшего фаворита, который поспешил удалиться за границу, а жену и детей оставил в Петербурге на жертву ненависти и презрения...»
Ну а причина известна. Вспомним, что писал о нём русский историк великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, в своих исторических произведениях, посвящённых прошлому России:
«Кутайсов был одним из самых ненавистных всем фаворитов….». Ну и так далее – полностью цитата приведена в предыдущей главе.
Примеров тому множество. Об одном таком «влиянии», которое могло оказаться пагубным для Императора, рассказал в своих «Записках» Николай Александрович Саблуков:
«Однажды, на одном из балов, данных в Москве по случаю его приезда в 1798 году, Император был совершенно очарован огненными чёрными глазами девицы Анны Лопухиной. Кутайсов, которому Павел сообщил о произведённом на него впечатлении, немедленно же рассказал об этом отцу девицы, с которым и был заключён договор, имевший целью пленить сердце Его Величества».
Ну а цель, думаю, понятна – получить хоть какую-то личную выгоду от возможной интриге. Но в данном случае замысел провалился. Анна Лопухина призналась, что влюблена в князя Гагарина, находившегося в это время в армии Суворова. Н.А. Саблуков рассказал реакции Павла Петровича:
«Император был поражён, но его врождённое благородство тотчас проявило себя. Он немедленно же решил отказаться от любви к девушке, сохранив за собою только чувство дружбы, и тут же захотел выдать её замуж за человека, к которому она питала такую горячую любовь. Суворову немедленно посланы были приказания вернуть в Россию князя Гагарина. В это самое время последний только что отличился в каком-то сражении, и его потому отправили в Петербург с известием об одержанной победе... И вечером на «маленьком дворцовом балу» он имел положительно счастливый и довольный вид, с восторгом говорил о своем красивом и счастливом сопернике и представил его многим из нас с видом искреннего добродушия. Со своей стороны, я лично ни на минуту не сомневался в искренности Павла, благородная душа которого одержала победу над сердечным влечением».
Как видим, Иван Павлович Кутайсов и с семьёй поступил бесчестно, ведь все, кто был хоть чем-то обижен на павловского фаворита или просто питал неприязнь от завести, старались выместить эти свои обиды и выказать оскорбительное презрение к семье.
Но, как сообщил Вигель, «на спокойное, благородное и прекрасное лицо меньшего его сына ни один дерзкий взгляд не смел подняться». И пояснил: «Что удивительного, если все женщины были от него без ума, когда мужчины им пленялись?»
Влюблена была в Александра Кутайсова и юная княжна Мещерская.
Перед отъездом молодого генерала в армию состоялась помолвка. Обряд этот, хоть и очень давний, но достаточно живучий. Иногда помолвку называли обручением. То есть после того, как жених просил руку избранницы своей у её родителей, он надевал ей на пальчик кольцо, к которому порою добавлялось ещё одно, венчальное, а порою оставалось и то, что вручено при помолвке единственным.
Мы помним описание в романе «Война и мир» помолвки князя Андрея с Наташей Ростовой, правда, там она была проведена тайно, и жених оставил невесте свободу выбора на целый год.
Здесь же обручение графа Кутайсова с княжной Мещерской не скрывалось – об этом знала, как свидетельствую современники, вся армия, и друзья Кутайсова, и обожавшие его подчинённые, искренне радовались за молодого графа.
Конечно, к началу девятнадцатого века многое сильно изменилось, но всё же и тогда помолвленные или обручённые считались почти что супругами, правда, до венчания не имели права вступать в близкие отношения.
Быть может история любви графа Александра Кутайсова и княжны Анастасии Мещерской особенно волновала современников своею необыкновенной трогательностью и, конечно же, чистотой. Долгое знакомство – ведь юный граф знал свою будущую невесту, когда и невестой то ещё её нельзя было считать. Ещё летом 1801 года, когда графиня Кутайсова поселилась по соседству с Мещерскими, княжне исполнилось 5 лет.
Как воспитывалась Анастасия, мы уже узнали. Ну а воспитанием Александра занималась в основном его мать Анна Петровна, урождённая Резвая, не без помощи брата Дмитрия Петровича Резвого. Ивану Павловичу Кутайсову было не до семьи.
Его интересовали интриги, забавы, женщины. Ведь даже в ночь покушения на Императора он бежал в одном нижнем белье, босиком не куда-то, а к своей любовнице.
История знает немало примеров, когда дети небезгрешных родителей, становятся их противоположностью, порою, едва ли не праведниками.
Елизавета Петровна Яньковая, автор воспоминаний «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово» писала: «...неподалеку было имение Кутайсовых. Этот Кутайсов… был женат на Анне Петровне Резвой, очень доброй и почтенной женщине, которая умерла гораздо спустя после своего мужа, дожив до преклонных лет. Она была очень дружна с княгиней Мещерской, и они между собой положили, чтобы меньшой Кутайсов, Александр Иванович, женился на княжне Мещерской, когда ей исполнится шестнадцать или семнадцать лет. Но родители улаживали, а Господь решил иначе: 26 августа [1812 г.] граф Кутайсов, не имея еще и тридцати лет, но, будучи уже генералом, был убит под Бородином. Это очень поразило графиню и не менее опечалило и княгиню, которая желала этого брака; но, видно, не было суждено ему совершиться».
«…Твоею, граф, рукой воздвигнут памятник нетленный твой»
В день сражения, как писал генерал-лейтенант А. Михайловский-Данилевский, «граф присутствовал повсюду, где было нужно, и с неустрашимостью свойственною одним только великим душам, распоряжался орудиями, наносившими неприятелю великий вред».
Далее историк отметил:
«Несколько раз во время сражения призывал его к себе Кутузов и разговаривал с ним о ходе битвы». Причём, когда сам Кутузов, требовавший оберегать резервы до последней возможности, предложил Кутайсову подкрепить артиллерию на переднем крае, «Кутайсов до такой степени был уверен в возможности удержать за нами поле сражения, что сказал Кутузову: «Я не вижу необходимости посылать за резервною артиллерией».
Обладая великолепной памятью и талантом военачальника, Кутайсов держал в голове всю организацию и систему огня артиллерии, своевременно отдавал распоряжения на пополнение боеприпасов, на замену выбывших из строя орудий, на постепенное, в случаях острой необходимости, введение некоторых подразделений из резерва в бой.
В разгар сражения прискакал офицер связи с левого фланга и доложил, что неприятель подтянул свежие батареи и усилил артиллерийский огонь, что убит командир пехотной бригады генерал генерал-майор Александр Алексеевич Тучков 4-й и раненначальник Главного Штаба 2-й Западной армии генерал-адъютант Эммануил Францевич Сен-При.
– Алексей Петрович, – спокойно, словно ничего серьёзного не произошло, обратился Кутузов в Ермолову, – поезжай туда, голубчик, погляди, что случилось и чем помочь надобно…
Едва Ермолов отошёл от главнокомандующего, к нему подбежал Кутайсов и заявил:
– Я поеду с тобой!
– Тебе надо находиться возле главнокомандующего. И так уж он сердился, что не мог найти тебя, – попытался отговорить Ермолов, но это было сделать невозможно.
Кутайсов, возглавлявший артиллерию всей русской армии, ему не подчинялся. Доводы же он привёл убедительные:
– Необходимо усилить огонь нашей артиллерии. Кто ж, как не я, может сделать это лучшим образом.
– Хорошо, только возьми с собою три конно-артиллерийские роты, – согласился Ермолов и сел на коня. – Не сам же ты её усилишь.
Они поскакали на левый фланг. Артиллеристы едва поспевали за ними.
Впереди, на холме, открылись бастионы центральной (курганной) батареи, той самой, которая впоследствии получила наименовании батареи Раевского, поскольку располагалась в боевых порядках пехотного корпуса генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского.
На батарее были французы…
Алексей Петрович Ермолов впоследствии вспоминал в своих Записках:
«Кутузов запретил мне от него отлучаться, равно как и... Кутайсову, который на него за это и досадовал, ибо отличная храбрость уже влекла его в средину опасности... Когда послан я был во 2-ю армию, граф Кутайсов желал непременно быть со мною. Дружески убеждал я его возвратиться к своему месту, напомнил ему замечание князя Кутузова, с негодованием выраженное, за то, что не бывает при нём, когда наиболее ему надобен (Граф Кутайсов с самоотвержением наблюдал за действием батарей, давая им
направление, находился повсюду, где присутствие начальника необходимо, преимущественно, где наиболее угрожала опасность): не принял он моего совета и остался со мною... Проезжая недалеко от высоты …пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского, названная, я увидел, что она была уже во власти неприятеля, остановил бежавших стрелков наших... Три
конные роты облегчили мне доступ к высоте, которую я взял... в десять минут... Граф Кутайсов, бывший со мною вместе, подходя к батарее, отделился вправо, и, встретив там часть пехоты нашей, повел её на неприятеля…»
А.Н. Михайловский-Данилевский отметил: «На долю Кутайсова досталось вести пехоту на левое крыло французов... Пожав руку Паскевичу, Кутайсов двинулся вперед, ударил в штыки, и – более не видали его».
А вот строки из воспоминаний ... 2-й батарейной роты 11-й артиллерийской бригады, подпоручика Гавриила Петровича Мешетича:
«В одиннадцать часов одно возвышенное место, где поставлена была одна значительная российская батарея, которая имела выгоду действовать весьма удачно по равнине по атакующим, вдруг покрылась несметным множеством врассыпную конницы и в нескольких колоннах идущей из-за лесу их правого фланга пехотою, и с этим вместе оное место облеклось облаками густого порохового дыму, сверканием огней, блеском разного оружия, и слышны поминутные крики «Ура!» и «Виват император Наполеон!»
Уже французская конница на батарее – летит на помощь оной юный герой, уже известный своею доблестью, доброю душою и умом, начальник артиллерии в звании генерал-майор граф Кутайсов, схватил ближайший полк кавалерии – «Вперед, в атаку, защитить свою батарею!» Увы! защитил, но не остановил порыва бегу своей лошади, не оглянулся, далеко ли от него позади полк, померк в очах его сей свет, множество посыпалось на него сабельных неприятельских ударов, лошадь его одна назад только возвратилась; он имел уже Георгия 3-й степени на шее, и дух его отлетел для украшения небесными лаврами.
Французы же, заваливши трупами ров батареи, тут нашли свою смерть от картечных выстрелов и тучи пуль позади стоявших второй линии густых колонн с артиллериею. Дивизионный их начальник, будучи окружен одними трупами своих войск, среди оных был взят в плен бригадный генерал Шарль-Август Бонами, не могший завладеть артиллериею».
Весть о гибели молодого генерала Александра Ивановича Кутайсова опечалила не только его подчинённых, которые в нём души не чаяли, но стала большой, горестной потерей для всей русской армии…
Известная поэтесса того времени Анна Бунина посвятила этому горькому событию одно из лучших своих стихотворений:
Ужель и ты!.. и ты
Упал во смертну мрежу!
Ужель и на твою могилу свежу
Печальны допустил мне рок бросать цветы,
Потоком слёзным орошенны!
Увы! Где блага совершенны?
Где прочны радости? Их нет!
Вотще объемлюща надежду лживу
Нежнейша мать тебя зовет:
Твой заперт слух к её призыву!
Вотще в свой дом, ликуя твой возврат,
Отец, сестры и брат
Заранее к тебе простерли руки!
Их дом ликующий стал ныне храмом скуки!
Как светлый метеор для них
Ты миг блистал лишь краткой!
И сонм друзей твоих,
Алкающих твоей беседы сладкой,
И сонм отборнейших мужей,
Что юного тебя с собой чли равноденным,
с кончиною твоей
Увяли сердцем сокрушенным!
Вотще и сонм краснейших дев,
Устроя громкие тимпаны,
Ждёт в пиршества тебя избранны:
Не будешь ты!.. тебя похитил смерти зев!
Так жизни на заре коснулся он заката!
На место гипса и агата
На гробе у него с бессмертным лавром шлем,
И вопли слышны Муз на нём!
Но что герою обелиски?
Что мой несвязный стих?
Не будет славен он от них!
Поверженные в ад враги российски
Твоею, граф, рукой
Воздвигнут памятник нетленный твой,
А жизнь Отечеству на жертву принесенна
Есть слава, храбрых вожделенна!
30 августа в Санкт-Петербург пришла весть о Бородинском сражении.
Адъютант управляющего свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части князя П.М. Волконского, записал в своём дневнике:
«Август…30. Так как сегодня тезоименитство Императора Александра, я отправился на Каменный остров. Курьер привёз известия из нашей Главной армии о генеральном сражении, которое было дано 26 числа сего месяца при деревне Бородино. Утверждают, что неприятель был разбит по всем статьям, но, несмотря на победу, мы должны были отступить на следующий день. Это вызывает сомнения. Мы потеряли невероятное количество людей. Вся гвардия была введена в бой. Генералы князь Багратион, князь Горчаков, Тучков, Кретов, граф Воронцов, два брата Бахметевы были ранены. Граф Кутайсов пропал. Полагают, что он взят в плен. Один из братьев Тучковых был убит…».
Запись относительно плена Кутайсова несколько сгладила огромное горе, которое ворвалось в семью Кутайсовых. Тем не менее, оно в первую очередь, сразило графиню Анну Петровну, как помним, урождённую Резвую. Весть безмерно опечалила и подругу Анны Петровны княгиню Мещерскую, и юную княжну Анастасию, с нетерпением ожидавшую с войны своего возлюбленного.
О любви Кутайсова и княжны Мещерской было известно в армии, ей посвящены прославленным поэтом Василием Андреевичем Жуковским трогательные строки знаменитой оды «Певец во стане русских воинов».
Княгиня Евдокия Николаевна Мещерская и княжна Анастасия в это время были вгороде Моршанске Тамбовской губернии. Они покинули Аносино при приближении французской бандитской армии, уже прославившейся жесточайшим беспределом. Нашествия на Россию всегда сопровождались дикими грабежами, разорениями, убийствами мирных граждан.
Бесчинствовали наполеоновские мародёры и в Аносине. Они разграбили дом, в котором проводили летние месяцы мать с дочерью, сгорел и в Москве на Староконюшенном переулке дом, доставшийся княгине от мужа.
В Аносине висела картина, на которой были изображены княгиня Мещерская с княжной и своей подругой Елизаветой Алексеевной Ельчаниновой.
Трудно сказать, чем уж так не понравилась картина «просвещённым» обладателям европейских ценностей, неизменных во все времена, но на ней остались отметины от сабельных ударов. Рубили, но не изрубили. Скорее всего, это просто показатель европейского отношения к искусству вообще и к живописи в данном случае. Хотя шедевры, которые имели большую ценность, перекочёвывали в Лувр, метко названный «музеем грабежа» и в личные коллекции Наполеона и его маршалов. Что делать – они же просвещённые европейцы! Для европейцев воровство и грабёж – норма.
Как же тогда хотелось и матери Александра Кутайсова, и княгине Мещерской и княжне Анастасии верить, пропажу, пусть связанную с пленом… И они верили.Верили и ждали известий от французов…
Между тем, Михаил Илларионович Кутузов спустя месяц после сражения написал письмо отцу героя…
Милостивый Государь мой Граф Иван Павлович,
Несколько дней уже прошло, как получить я имел честь письмо Вашего Сиятельства и доселе не смел приняться за перо, дабы не быть первым
горестным вестником родительскому вашему сердцу. Есть ли общее участие, приемлемое всею армиею в значительной потере сделанной ею (в потере) на
поле чести достойного сына вашего может усладить, хотя несколько живую скорбь вашу, то примите, Ваше Сиятельство, уверение в таковых же чувствах
имеющего быть с отличном почтением. Вашего Сиятельства вечно скорбный слуга Князь Михайла Г-Кутузов.
Сентября 24 дня».
Кутузов употребил слова «потеря», ведь и плен тоже потеря. Но надеждам не суждено было сбыться. Александр Иванович Кутайсов пал смертью героя на поле чести.
Княжна Анастасия Мещерская ждала своего жениха до последней возможности, и лишь когда Русская армия вошла в Париж и стало окончательно ясно, что среди пленных Кутайсова не было,она вышла замуж за Семёна Николаевича Озерова, который впоследствии стал сенатором, тайным советником и кавалером ордена Белого Орла.
Василий Андреевич Жуковский выразил общее горе в поэтических строчках…
И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?..
Пойдёт прекрасная в слезах
Искать, где пепел милой...
Там чище ранняя роса,
Там зелень ароматней,
И сладостней цветов краса,
И светлый день приятней,
И тихий дух твой прилетит
Из таинственной сени;
И трепет сердца возвестит
Ей близость дружней тени.
После того как дочь вышла замуж, княгиню Евдокию Николаевну уже не могли удержать мирские дела. Она и так много лет занималась сиротами, которых воспитывала у себя дома с помощью дочери. Теперь же окончательно решила посвятить себя служению Богу.
Восстановила разрушенную французами церковь, пригласила священника заново освятить приделы храма, а затем и основной престол.
Шли годы. Она продолжала воспитывать сирот, одновременно всё глубже уходя в служение Богу. В 25-летие кончины супруга князя Бориса Мещерского, в 1821 году она в его память основала женскую общину и дом призрения, а в 1823 году положила начало поныне действующему Борисоглебскому Аносину женскому монастырю (Аносина пустынь).
Название своё монастырь получил в честь русских князей и святых страстотерпцев Бориса и Глеба и память о князе Борисе Ивановиче Мещерском…
Император: «Моё дело... не забыть вашей услуги».
Император: «Моё дело будет никогда не забыть вашей услуги».
Военный историк генерал-лейтенант Александр Иванович Михайловский-Данилевский так описал сложившуюся обстановку после прорыва французов:
«В то время Русская Армия образовала почти прямой угол, стоя под перекрёстным огнём Наполеона и Даву. Тем затруднительнее явилось положение её, что посылаемые к Беннигсену адъютанты не могли найти его. Желая ускорить движение Лестока, он сам поехал ему навстречу, заблудился, и более часа армия была без главного предводителя.
Сильно поражаемый перекрёстными выстрелами и видя армию, обойдённую с фланга, Сакен сказал графу Остерману и стоявшему рядом начальнику конницы левого крыла Панину: «Беннигсен исчез; я остаюсь старшим; надобно для спасения армии отступить…».
Кому не известно, сколь опасно для войск потерять управление, да ещё в те минуты, когда противник владеет инициативой! Можно представить себе, чем могло кончиться сражение, но «вдруг неожиданно, – сообщает историк далее, – вид дел принял выгодный нам оборот появлением тридцати шести конных орудий».
Что же произошло в эти, едва не ставшие трагическими для Русской армии часы? Куда и с какой целью ездил главнокомандующий барон Беннигсен? Указание историков на то, что отправился искать корпус Лестока, сделаны со слов самого барона и не выдерживают никакой критики. Неужели необходимо самому главнокомандующему отправляться на поиски корпуса? Ведь для этого всегда и всеми используются адъютанты, ординарцы и офицеры квартирмейстерской (штабной) службы, которым и поручается подобное дело.А тут, в разгар сражения, главнокомандующий бросил армию на произвол судьбы, ради того, чтобы исполнить роль обычного штабного офицера.
Французы продвигались вперёд на левом фланге Русской армии и были близки к тому, чтобы отрезать ей пути отхода, окружить и начать её уничтожение. Русским трудно было, не имея единого плана, что-то противопоставить врагу, который уже находился в тылу.
Но в этот момент двадцатидвухлетний генерал-майор граф Александр Иванович Кутайсов, возглавлявший артиллерию корпуса генерал-лейтенанта Тучкова, действовавшего на правом фланге, слабо атакованном неприятелем, решил взглянуть, что же делается на других участках сражения. Вскочив на коня, он отправился на левый фланг корпуса. Застоявшийся без дела конь резво взял с места, рысью пронёс седока по дороге, и с трудом преодолевая сугробы, поднял его на высокий холм.
Адъютант Кутайсова поручик Арнольди подал подзорную трубу. Александр Иванович вскинул её, провёл с юга на восток и ужаснулся: там, где ещё недавно был тыл расположенного в центре Русской армии корпуса генерал-лейтенанта Ф.В. Остен-Сакена, разгуливали французы. Впрочем, они не просто разгуливали, их передовые колонны рвались вперёд и уже заняли мызу Ауклаппен, берёзовую рощу и своим правым флангом овладели селением Кушиттен.
«Коммуникации нарушены, – понял Кутайсов, – путь на Фридланд, а через него и в Россию, отрезан…»
Действительно, главная цель, которую преследовали французы в кампании 1807 года, – отрезать Русскую армию от сообщения с Россией, окружить и уничтожить её – оказалась близка как никогда. Неприятелю уже удалось захватить господствующие над окружающей местностью Креговские высоты. Там он установил орудия. Батареи конной артиллерии приближались к ручью, рассекающему лес юго-западнее Ауклаппена.
Оценить обстановку было делом одной минуты. Но что предпринять? Указаний никаких не поступало. Даже командира корпуса никто не известил о том, что произошло, ибо извещать было некого – бегство Беннигсена парализовало управление.
И Кутайсов принял самостоятельное решение: срочно провести манёвр артиллерией и ударить в упор по прорвавшемуся неприятелю. Спасти положение, по его мнению, было ещё не поздно.
Обернувшись к Арнольди, приказал передать распоряжение о выдвижении с правого фланга в центр трёх конно-артиллерийских рот князя Л.М. Яшвиля, А.П. Ермолова и Богданова. Большего он взять не мог, не рискуя ослабить артиллерийскую группировку правого фланга, где вполне можно было ожидать активизации действий французов. Французы вполне могли атаковать с целью завершения окружения, угроза которого нависла в результате успешных действий Даву.
Арнольди умчался на позиции артиллерии, и вскоре артиллерийские роты вытянулись на полевой дороге, ведущей в тыл. Кутайсов возглавил колонну, скомандовав:
– За мной, рысью, марш! – и поскакал в сторону Ауклаппена.
Порывистый, горячий и беззаветно храбрый, граф Александр Иванович с раннего утра безуспешно ждал момента, когда представится случай «исполнить обет, которому он посвятил жизнь, – прославить имя Кутайсова». И вот настала славная минута!
Две роты он развернул на пологой высоте перед Ауклаппеном, приказав ударить картечью по пехоте противника и брандкугелями по Ауклаппенской мызе. Третью сам повёл к ручью, рассекающему лес, где ещё раньше заметил французов.
Внезапный огневой удар в упор ошеломил французов. Их продвижение остановилось.
Одновременно с конноартиллерийскими ротами прибыл к месту схватки и пехотный резерв под командованием генерала князя Багратиона, «который, – как отметил в своих воспоминаниях Денис Давыдов, – в минуты опасности поступал на своё место силою воли и дарования…»
Ободрённые артиллерийской поддержкой, 2-я и 3-я пехотные дивизии русских перешли в контратаку. Французы были выбиты из Ауклаппена. Положение вскоре окончательно восстановилось, но не по воле главнокомандующего, а благодаря инициативе и распорядительности русских генералов и прежде всего Александра Кутайсова.
А спустя два месяца после сражения Император побывал в Прейсиш-Эйлау, выслушал подробный доклад о ходе битвы и сказал Кутайсову, с которым пожелал непременно встретиться на следующий же день:
«Я осматривал вчера то поле, где вы с такою предусмотрительностью и с таким искусством помогли нам выпутаться из беды и сохранить за нами славу боя. Моё дело будет никогда не забыть вашей услуги».
Но где же прятался в критические моменты битвы главнокомандующий барон Беннигсен и как он объяснил своё исчезновение?
Поняв, что опасность чудодейственным образом отведена и разгрома, на грани которого, по мнению, барона находилась армия, не случилось, он поспешил придумать более или менее удобное для себя объяснение своего исчезновения. Но разве можно представить себе главнокомандующего, который в критический момент сражения легко слагает с себя руководство боевыми действиями, даже не ставя никого в известность и не поручая никому командования, и покидает командный пункт, предоставляя подчинённым самим решать, что и как делать? Главнокомандующий в критические минуты обязан быть на месте и принимать срочные меры, использовать все имеющиеся под рукой силы и средства для достижения успеха.
Именно в сражении при Прейсиш-Эйлау молодой генерал Кутайсов впервые был озарён лучами воинской славы, именно там доказал, что высокий чин, пожалованный ему, благодаря положению отца, он получил по заслугам. А было ему всего лишь 22 с половиной года.
Впрочем, мы несколько отвлеклись от основной темы, темы любви, и хотя говорить об этом чувстве, быть может, ещё очень и очень рано, поскольку будущей невесте нашего славного героя шёл всего лишь одиннадцатый год, но нельзя не упомянуть о том, как росла, как воспитывалась будущая неотразимая красавица княжна Настенька Мещерская.
Фавориты и любовники в фантазиях пасквилянтов
Сегодня получена из типографии 4-я книга серии
"Любовные драмы"
Представляю главу из третьей части книги.
Фавориты и любовники в фантазиях пасквилянтов
Настала пора поговорить о фаворитизме. Но давайте посмотрим на эту проблему не с бульварной, а документальной точки зрения.
Возьмём три примера. Не брать же в самом деле десятки сплетен, опровергать которые весьма сложно в силу их глупости и полной никчёмности.
Первое обвинение, которое предъявляли Екатерине, заключалось в её развратном поведении в период до встречи с Потёмкиным.
К сожалению, даже Валентин Пикуль поймался на удочку пасквилянтов и, «художественно» развивая клевету, навалял в романе «Фаворит» такую сцену…
«Сдаваясь без боя, женщина однажды не вытерпела и, потупив глаза, как стыдливая девочка, сказала, что снова ночует на пустой елагинской даче:
– Навести меня, одинокую вдову…
Как бы не так! Потемкин переслал ей через Елагина записку: у тебя, матушка, перебывало уже пятнадцать кобелей, а мне честь дороже, и шестнадцатым быть никак не желаю».
Кто читал роман, наверняка помнит исполненную историзма сноску, мол, это письмо было известно среди современников. Архив ЧБС (чья-баба сказала)? Очень похоже, что так.
Интересно, это что же, Государыня сама распространила это письмо в светском обществе, чтобы оно стало известно современникам?
Не было такого письма в природе, да его и не могло быть в природе, потому что, во-первых, Григорий Александрович Потёмкин был человеком высочайшей культуры и никогда бы не позволил такого хамского обращение к женщине вообще, а тем более, к Императрице, которую, кстати, искренне уважал с первых лет знакомства; во-вторых, ни одна настоящая, уважающая себя женщина не стерпела бы такого оскорбления, да к тому же ещё и незаслуженного – в «Чистосердечной исповеди» она откровенно и честно рассказала, с кем и по какой причине имела любовные связи.
Она написала, что не пятнадцать, а третья доля от сих! Даже такое написать женщине нелегко. Но она писала своему избраннику, причём, как показало время, действительно избраннику всей её жизни.
Интересно, что свидетельство современника, причём иностранца, дошедшее до нас, тоже опровергает ложь о, якобы, пятнадцати любовниках.
В 1770-1772 французский дипломат Оноре-Огюст Сабатье де Кабр был поверенным в делах при дворе Императрицы Екатерины Второй.
В своём донесении в Париж он писал о Государыне:
«Не будучи безупречной, она далека в то же время от излишеств, в которых её обвиняют. Никто не мог доказать, чтобы у неё была с кем-нибудь связь, кроме трёх всем известных случаев: с Салтыковым, с польским королем и с графом Орловым».
Сабатье де Кабр не назвал Васильчикова, потому что, вероятнее, всего просто не застал его, ведь он был в России до 1772 года.
Фраза «никто не мог доказать» говорит о многом. Да, всё, что выдумывали о связях Екатерины, на проверку оказалось клеветой.
Ну а теперь остановимся на обвинении в фаворитизме после 1776 года. В 1774 – 1776 году рядом с Императрицей был Потёмкин – тут разночтений нет.
Ну а далее… Каких только гадостей не навыдумывали. Иные авторы, забыв о чести и совести, со знанием дела списки фаворитов составляли.
Не будем разбирать эти списки – противно. Однако, навскидку, проверим хотя бы один факт. Возьмём так называемого фаворита, наиболее известного своим именем. Вот что говорится о нём в интернете. (См. Самые известные фавориты Екатерины II. Интересно знать anydaylife.com› Факты›post/1026
А также: Фавориты Екатерины Великой. Григорий Орлов - фаворит...
fb.ru›article…favorityi-ekaterinyi…ekaterinyi…)
Начало таково:
«Правление Екатерины II было омрачено не только многочисленными социальными проблемами в стране, но и тем фактом, что фаворитизм достиг невиданных до этого времени масштабов».
Ну а далее приводится длинный список, неведомо кем составленный, а финал великолепен!
«Несколько слов в заключение
Фавориты Екатерины II, бывшие в основном адъютантами Светлейшего князя Потёмкина, стали сменять один другого. Некоторые из них, наподобие будущего героя Отечественной войны, Алексея Петровича Ермолова, получили известность и народную любовь…»
Ну и ещё один перл, для закрепления:
«Фавориты Екатерины II, получившие наибольшую известность: Алексей Петрович Ермолов (будущий герой войны с Наполеоном), Григорий Александрович Потемкин (великий государственный деятель той эпохи) и Платон Зубов, последний фаворит Императрицы…»
Ну и, конечно, указаны годы, когда Ермолов состоял в фаворитах. Это 1783 – 1786 годы.
Что ж, характерный образчик клеветы. Алексей Петрович действительно стал героем Отечественной войны 1812 года. Да и не только этим он знаменит. Немало подвигов на его счеты.
Ну а первый «подвиг», если верить клеветникам Государыни, он совершил в 6 лет от роду. И совершал его на протяжении трёх лет, то есть пока ему не исполнилось 9 лет. Да, да… Герой Отечественной войны 1812 года Алексей Петрович Ермолов родился в 1777 году и ко времени, указанному пасквилянтами, ему исполнилось шесть лет.
Можно было бы ещё разобрать ложь о Милорадовиче и других, да только зачем занимать внимание читателей этакой дребеденью.
Часто любители сплетен и хулы на великих деятелей прошлого любят, когда им это выгодно, требовать, к примеру, а вот докажите, что Иоанн Грозный сына не убивал? Но ведь сначала следовало бы доказать, что Государь своего сына убил. А таковых доказательств в природе нет. Есть выдумки папского шпиона Антонио Поссевино, секретаря генерала ордена Общества Иисуса, папский легат в Восточной Европе и первого иезуита.
Клевета была подхвачена шпионом германского императора Генрихом Штаденом, а спустя годы растиражирована некоторыми недобросовестными русскими историками «по свистку из-за бугра».
Точно так же и здесь. Ни одного документального свидетельства о том, что некоторые генерал-адъютанты Императрицы Екатерины II были её любовниками, нет. Так и говорить не о чем. Мы не можем утверждать, что ничего не было. Да ведь то, что было, это дело самой Государыни…
То же самое можно сказать и о других всевозможных пасквилях.
Возьмём сплетню об истопнике, превращённом в постели Государыни в графа Теплова.
В течение двадцати лет занимаясь исследованием золотого века Екатерины, опровергая сплетни, домыслы и клеветы, я так и не добился от своих оппонентов хотя бы одного достоверного документа, подтверждающего их сладострастные выдумки. Понятно, что пасквилянты, а все они в большинстве своём, обличием своим напоминали особей мужского рода, именно потому с таким сладострастием заглядывают под чужое одеяло, что сами им в силу определённых патологий, под одеялом собственным делать нечего.
В 2004 году в невероятно популярной в советские времена серии «ЖЗЛ», доктор исторических наук Н.И. Павленко опустился до безобразной клеветы, касающейся истопника-любовника.
Да, простит меня читатель за мерзкую и пошлую цитату из книги господина Павленко и в особенности да, простят меня женщины:
«Случайных, кратковременных связей, не зарегистрированных источниками, у Императрицы, видимо, было немало».
А позвольте узнать, сколько зарегистрированных источниками связей может назвать господин Павленко? И в каком архиве находится сия документальная регистрация? Доказал бы хоть одну, но доказал так, как это принято доказывать в суде – со свидетельскими показаниями столь занимающих вас интимных подробностей. Уверен. Не назвал бы ни одного факта. И даже список так называемых фаворитов, приведённый на станице 355 книги «Екатерина Великая» рассыплется в прах, ибо все эти лица по официальным документам проходят чаще всего как генерал-адъютанты. Все же иные их назначения имеют подтверждение лишь в одном всем известном источнике – архиве ЧБС.
Заключение же о «кратковременных связях» господин Павленко делает на основании, так называемых семейных преданий. Он пишет:
«Основанием для подобного суждения можно считать семейное предание о происхождении фамилии Теплова. Однажды Григорий Николаевич, родоначальник Тепловых, будучи истопником, принёс дрова, когда императрица лежала в постели.
«Мне зябко», – пожаловалась она истопнику. Тот успокоил, что скоро станет тепло, и затопил печь. Екатерина продолжала жаловаться, что ей зябко. Наконец робкий истопник принялся лично обогревать зябнувшую императрицу. С тех пор он и получил фамилию Теплов».
Садясь за книгу, тем более историческую, надо несколько унимать свои сладострастные воображения и хоть чуточку думать над тем, что пишешь.
Семейное предание!? А ведь семейное предание, если говорить о семье Екатерины и её преданиях, это предания Павла Первого и его семьи, Николая Первого и его семьи и так далее вплоть до Николая Второго, приходящегося, ей уже пра-пра-правнуком. Представьте себе, как все эти достойные Государи и достойные их супруги скабрезно улыбаясь, обсуждают, как их мать, бабушка, прабабушка (и т.д.) затащила в пастель истопника. Быть такого не может. Да ведь ничего подобного и не было, ибо «предание» плод воображения г. Павленко. Впрочем, известно, что каждый судит о поступках других по своим собственным. Переведите на себя, дорогие читатели, всё сказанное г. историком, и вы, несомненно, вздрогните от омерзения при одной только мысли о существовании подобных преданий.
Прочитав следующий абзац книги Н. Павленко, я невольно ещё раз взглянул на обложку – не ошибка ли, ужель это книга серии ЖЗЛ? Увы, господин Павленко со знанием дела указывает, что «Екатерина не пренебрегала случайными связями, и Марья Саввишна Перекусихина выполняла у неё обязанности «пробовальщицы», определявшей пригодность претендента находиться в постели у Императрицы. Таким образом, императрица имела за 34 года царствования двадцать одного учтенного фаворита. Если к ним приплюсовать…».
Всё, далее цитировать эти сплетни, недостойные звания мужчины, сил нет. Лишь гнев и возмущение могут вызвать рассуждения очередного самозваного учетчика фаворитов, уподобляющегося представителям известной профессии…
А ведь Православная Церковь учит: «Клевета является выражением недостатка любви христианской или даже обнаруживает ненависть, приравнивающую человека к убийцам и поборникам сатаны: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8,44)»; «Дети Божии и дети дьявола узнают так: всякий, не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» (1Ин. 3,10); «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей» ( 1Ин. 3,15); В то же время клевета – порождение зависти, гордости, стремящейся к унижению ближнего, и других страстей. Поэтому то дьявол и называется в Св. Писании клеветником».
Ну а что касается самого Теплова, то документов о нём существует более чем достаточно и все они не за семью печатями скрыты. Вот вам самые краткие о нём данные:
Григорий Николаевич Теплов родился 20 ноября 1717 в Пскове. В Википедии говорится, что он «русский философ-энциклопедист, писатель, поэт, переводчик, композитор, живописец и государственный деятель. Сенатор, действительный тайный советник, противник Петра III, ближайший сподвижник Екатерины Великой, близкий друг и наставник графа Кирилла Разумовского, глава гетманской канцелярии в Малороссии с 1741 года и фактический инициатор её упразднения. Действительный член Академии наук и художеств, адъюнкт по ботанике (с 1742 года), почётный член Императорской Академии наук и художеств (с 1747), фактический руководитель Академии с 1746 по 1762 год. Создатель устава Московского университета и «Проекта к учреждению университета Батуринского».
Перечисляется немало и других заслуг. Но заслуживает внимание один факт: родился Теплов в семье истопника. Но случилось это в годы правления Петра I. Вот и перепутал господин историк самую малость. Ошибся этак на полсотни лет. Да ведь и в те годы Тепловы фамилию свою вовсе не в постели заработали.
Ну и далее: «Во время обучения в петербургской школе Феофана Прокоповича, куда попал по его настоянию, привлёк внимание последнего и в 1733 году был направлен на учёбу в Пруссию. По возвращении (1736) служил переводчиком в Академии наук и искусств. 3 (14) января 1741 года определён адъюнктом Академии по ботанике, выбыл 7 (18) марта 1743 года, но в апреле снова принят адъюнктом. Затем продолжил обучение в Париже и в «городе Тубинге». …Граф Алексей Разумовский, под впечатлением от образованности Теплова приставил его воспитателем к своему младшему брату Кириллу. После путешествия по Европе 18-летний брат фаворита 21 мая (1 июня) 1746 года получил назначение президентом Академии наук и художеств, хотя в реальности всеми делами Академии занимался Теплов».
Кто сочинил совершенно несуразную сплетню, теперь уж не установить. Зато весьма известны имена тех, кто её распространяет. Казалось бы, удивительно слышать, что доктор исторических наук Н.И. Павленко писал свои перлы, пользуясь известным во все временя источником – ЧБС… Но давно уже подмечено русскими мыслителями, что зачастую историки и являются главными специалистами по извращению русской истории.
Полагаю, что нет смысла разбирать все клеветнические выпады против Императрицы. Они не более достоверны, чем те, что приведены выше. Ну а этот краткий экскурс необходим для того, чтобы пояснить читателям, почему в дальнейших главах, посвящённых любви Императрицы Екатерины, считаю недопустимым касаться каких-либо «неслужебных» отношений её с генерал-адъютантами.
Не лучше ли придерживаться здравого смысла и не забывать о том, что клевета в любом случае омерзительна.
Адмирал Павел Васильевич Чичагов, сын знаменитого екатерининского адмирала Василия Яковлевича Чичагова, не понаслышке, не по сплетням изучивший золотой век Екатерины и имевший все основания писать о нём правду, а не «сладострастно» измышлять с приставками «думается» и «иначе и не могла поступать» в своих «Записках…» заявил:
«Всё, что можно требовать разумным образом от решателей наших судеб, то – чтобы они не приносили в жертву этой склонности (имеется в виду любовь – Н.Ш.) интересов государства. Подобного упрёка нельзя сделать Екатерине. Она умела подчинять выгодам государства именно то, что желали выдавать за непреодолимые страсти. Никогда ни одного из фаворитов она не удерживала далее возможно кратчайшего срока, едва лишь замечала в нём наименее способности, необходимой ей в благородных и бесчисленных трудах…
Самый упрёк, обращённый к её старости и обвинявший её в продолжении фаворитизма в том возрасте, в котором, по законам природы, страсти утрачивают силу, – самый этот упрёк служит подтверждением моих слов и доказывает, что не ради чувственности, а скорее из потребности удостоить кого-то своим доверием она искала существо, которое по своим качествам было бы способно быть её сотрудником при тяжких трудах государственного управления».
То есть, П.В. Чичагов вовсе не отрицает, да и мы не можем отрицать, что любовные связи, конечно, могли иметь место в жизни Государыни, но они не доказаны и всю правду о них знала лишь она сама, да тот, кто был выбран ей. Ну а каков был характер отношений, судить не нам, да и тем более уж не всякого рода «Павленкам», заражённым явно не здоровым сладострастием в виду определённых личных патологий
Пасквилянты даже не принимали во внимание возраст Императрицы, состояние её здоровья. Ведь она венчалась с Потёмкиным в сорок пять лет, а рассталась – наверное, определение не совсем точно – разъехалась с ним, поручив ему в управление южные губернии России, когда ей уже исполнилось сорок семь. Ну а далее, она, вполне понятно, не молодела. Разумно ли приписываться ей возрастающую не по дням, а по часам любвеобильность?
В 1789-м, когда появился Платон Зубов, Императрице было 60 лет, а ему – 22 года. Когда мужчина старше на 38 лет, уже многовато, а когда старше женщина?
Дорогие читатели мужчины, прошу вас, представьте себя ухаживающими в двадцать лет за шестидесятилетней женщиной. Вряд ли получится.
Дорогие читательницы женщины, прошу вас, представьте себя в почтенном возрасте, а рядом юнца… Ну сами понимаете, что сказать хочу.
Думаю, что после таких представлений вы отнесётесь к пасквилям соответствующим образом.
И не надо искать объяснений в том, что Екатерина, мол, Императрица… Она, прежде всего – Женщина! Я же привёл её письма к Потёмкину, в которых она забывает о своём Императорском Величестве и помнит лишь о своей любви! Искренней, женской любви. Что же чувства такие превращать в балаган, как делали и, увы, порой делают недомущинки, желая заработать на изощрённых выдумках.
Достоверно известно, что в последние годы царствования Императрица Екатерина часто болела, причём состояние здоровья постепенно ухудшалось. Она уже не могла без посторонней помощи подняться на второй этаж. Когда родился внук Николай Павлович, будущий Император Николай Первый, Екатерина, писавшая о нём своим корреспондентам восторженные письма, не смогла полностью выстоять обряд на крестинах малыша…
Разве Государыня, которая возвела страну на высоты славы и могущества, которая на государственной службе Державе Российской растратила своё здоровье, не заслуживает более деликатного отношения к со стороны всякого рода биографов и исследователей, особенно если эти биографы и исследователи – мужчины?!
Рассуждая же на тему «Екатерина Великая в государственной деятельности и любви» не лучше ли сосредоточить внимание на том, большая любовь, которую она пронесла через всю свою жизнь, от бракосочетания и до ухода в мир иной любимого человек.
В тридцатые годы Анна Кашина, русская женщина, эмигрантка, на основе изучения переписки Екатерины Великой и Потёмкина, которую готовила к выходу в свет по заказу французского издателя Жоржа Удара, сделала вывод, что Потёмкин – не любовник, не фаворит, а горячо любимый супруг, соединяя свою жизнь с которым. Анна Кашина отметила, что Екатерина «впервые узнала, что значит любить по-настоящему». Она с убеждением писала, что «любовь к нему заполняет её (Екатерины) жизнь», что Императрица понимает: «уже никогда больше она не полюбит так, как она любит сумасшедшего, но гениального Потёмкина» и заключила: «При желании дать какое-то определение любви Екатерины к Потёмкину, я бы сказала: суеверная любовь…». Любовь, которую Императрица пронесла через всю свою жизнь!
Вот об этой любви и о том, как она способствовала успеху государственных дел, мы и поговорим в последующих главах.
Суворов: "...брак… совершился благополучно…»
"Соизволением Божьим брак… совершился благополучно…»
Всем известны слова Александра Васильевича Суворова: «Я был ранен десять раз: пять раз на войне, пять раз при дворе. Все последние раны – смертельные».
Раны на войне легко найти в биографии полководца. К примеру, в одном только Кинбурнском сражении 1 октября 1787 года Суворов был ранен дважды. Получил ранние и спустя год во время осады Очакова, когда отражал вылазку турок из крепости…
А вот что касается ран при дворе, тут чего только не навыдумывали авторы различных книг и статей. Сам Суворов дал волю их воображению, не назвав эти раны конкретно.
Попробуем разобраться в этой головоломке...
Да, представьте, эти раны получены из-за женщин, благодаря им или, точнее, при их участии. И получены эти раны, основные и наиболее жестокие, прежде чего, по прямой вине супруги Варвары Ивановны и некоторые из-за дочери Суворова Наташи, но не по её вине.
Что касается дочери, то из множества повествований о Суворове хорошо, как трепетно любил полководец свою Суворочку-Наташу, что и использовали со всем своим коварным изуверством враги Суворова, которые, прежде всего, были врагами России, врагами Светлейшего князя Потёмкина, и Императрицы Екатерины Второй.
О ранах, нанесённых ими Суворову, мы и поговорим.
Множество жестоких ран нанесла Александру Васильевичу и супруга его Варвара Ивановна. Многие раны, ею нанесённые, можно вполне отнести к ранам при дворе, причём ранам, воспринимаемым человеком с честной, открытой к людям душой, горячим, преданным Отечеству сердцем, человеком долга и чести, именно как смертельные.
Ну а теперь к теме…
О личной жизни Александра Васильевича Суворова, о его любовных увлечениях в юности сведений не сохранилось. Впервые упоминается его имя в связи с женщиной в письмеот 23 декабря 1773 года, адресованном главнокомандующему Первой армией Петру Александровичу Румянцеву.
«Сиятельнейший Граф
Милостивый Государь!
Вчера я имел неожидаемое мною благополучие быть обручённым с Княжною Варварою Ивановною Прозоровской по воле Вышнего Бога!
Ежели долее данного мне термина ныне замешкаться я должен буду, нижайше прошу Вашего Высокографского Сиятельства мне-то простить: сие будет сопряжено весьма с немедленностью. Препоручаю себя в покровительство Вашего Высокографского Сиятельства и остаюсь с глубоким почтением….»
Просьба эта, как видим, о продлении отпуска в связи с бракосочетанием…
Суворов считал Румянцева своим учителем. Со времён Кольбергской операции Семилетней войны он относился к нему с особым уважением и потому просился в Первую армию, которой командовал Пётр Александрович.
4 апреля 1773 года Суворов был направлен в распоряжение Румянцева.
К тому времени он уже был достаточно известен своими победами, поскольку, подобно Румянцеву, не спрашивал, каков по силе неприятель, а стремился разбить его и уничтожить. «Надо бить уменьем, а не числом», – говорил он и действовал согласно этому принципу.
Подчинённых учил: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, дерись зло, дерись до смерти; побеждает тот, кто меньше себя жалеет».
6 мая 1773 года Суворов прибыл в местечко Негоешти, что на Дунае, а уже 10 мая совершил первый поиск за Дунай, где овладел турецкими укреплениями и городком Туртукай. 17 июня он совершил второй блестящий поиск на Туртукай, и 30 июля был награждён орденом св. Георгия 2-й степени.Затем было успешное дело под Гирсовом, куда в августе месяце Суворов Румянцев направил Суворова для обороны Гирсовского моста на правом берегу Дуная.
3 сентября турки крупными силами атаковали отряд Александра Васильевича. Отбив атаки, Суворов решительным контрударом разгромил превосходящего противника.
Об этой победе Пётр Александрович Румянцев в письме к Григорию Александровичу Потёмкину, датированном 4 сентября 1773 года, сообщал:
"…Вашему Превосходительству сим извещаю, что сей день торжествует армия Её Императорского Величества одержанную 3-го числа настоящего течения совершенным образом победу на той стороне Дуная г. генерал-майором и кавалером Суворовым над неприятелем, в семи тысячах приходившим атаковать пост наш Гирсовский, где речённый генерал с своими войсками, встретя оного, разбил и преследовал великим поражением и сколько еще из краткого и первого его рапорта знаю, то взято довольно и пленных, и артиллерии, и обозов. Ваше Превосходительство имеете о сём благополучном происшествии принести в вашей части торжественные молитвы Богу с пушечною пальбою».
В Журнале военных действий 1-й армии о потерях сообщается следующее:
«В сие сражение побитых с неприятельской стороны около редутов и ретраншаментов 301 человек на месте оставлено, да в погоне побито пехотою более тысячи, гусарами порублено 800, кроме тех, коих по сторонам и в бурьянах перечесть не можно.
В добычь получено пушек 6 и одна мортира с их снарядами и одним ящиком, премного обоза, шанцового инструмента и провиант.
В плен взято до двухсот человек, но из них большая часть от ран тяжелых умерли, а 50 живых приведены.
С нашей же стороны убиты: Венгерского гусарского полку капитан Крестьян Гартунг, вахмистр 1, капрал 1, гусар 6, мушкатер 1…»
Соотношение потерь, как видим, совершенно в Суворовском духе. Турки потеряли убитыми по меньшей мере более 2100 человек. Русские, как видно из документа, 10 человек. Во всех реляциях раскрывалось подробно, кто погиб, а офицеры, как правило, перечислялись пофамильно, что ясно доказывает точность сведений о своих потерях.
Потери же врага полностью указывать было невозможно, потому что «по сторонам и в бурьянах» оставалось немало неучтённых убитых.
Умение беречь людей, умение побеждать малой кровью отличало полководцев и флотоводцев «из стаи славной Екатерининских орлов».
А Суворов, думается, по значению своему был из первых, а, может быть, и самым первым… Я написал об этом в стихотворении, ставшем песней, которую охотно исполняли суворовцы моего родного Калининского (ныне Тверского) СВУ, когда в его стенах учился мой сын, избравший мою армейскую дорогу в жизни.
Кто же он?.. Я попытался ответить на этот вопрос несколькими поэтическими строчками:
Он первым был «из стаи славной
Екатерининских орлов»,
Он шёл дорогой Православной,
Разя Отечества врагов.
И наша Русская Держава
Смотрела гордо на Него,
И трепетно Орёл Двуглавый
Крылами осенял Его!
Так кто же он?
Кто в час суровый
В сраженьях отдыха не знал?
То Чудо-Вождь,
То наш СУВОРОВ!
Он Русскою Святыней стал!..
Русская святыня! Символ непобедимости и славы Русского Оружия!
Вспомним непревзойдённые, пламенные строки замечательного русского поэта и государственника Гавриила Романовича Державина, посвященные Александру Васильевичу Суворову:
И славы гром,
Как шум морей,
как гул воздушных споров,
Из дола в дол, с холма на холм,
Из дебри в дебрь,
от рода в род
Прокатится, пройдёт,
Промчится, прозвучит,
И в вечность возвестит,
Кто был Суворов...
Залогом бескровных для своих войск побед были – любовь к солдату, чуткое и бережное отношение к нему, в основе – суворовские глазомер, быстрота, натиск.
В ноябре 1773 года после окончания кампании Суворов получил отпуск и отправился в Москву.
Там-то и состоялось сватовство. Подробности до нас не дошли, но в письме от 30 января 1774 года, адресованном Александру Михайловичу Голицыну следующее:
«…Изволением Божиим брак мой совершился благополучно. Имею честь при сём случае паки себя препоручить в высокую милость Вашего Сиятельства…»
Вячеслав Сергеевич Лопатин сопровождает письмо Румянцеву таким комментарием:
«Прозоровская Варвара Ивановна (1750-1806), княжна – по отцу и по матери принадлежала к цвету старой русской аристократии.
На сестре её матери – княжне Екатерине Михайловне Голицыной – был женат Румянцев. (То есть жена Суворова приходилась родной племянницей жене Румянцева)
Невесту Суворову подыскал отец.
По мнению биографа Алексеева, Прозоровские приняли предложение Суворовых не в последнюю очередь, потому, что отец невесты, отставной генерал-аншеф князь Иван Андреевич, прожил своё состояние.
Засидевшейся в девках Варваре Ивановне приданое, очевидно, дали состоятельные родственники Голицыны. Для обедневших Прозоровских Суворов был богатым женихом, а его победы уже доставили ему довольно громкую известность».
Суворову недавно исполнилось сорок четыре года, его невесте – двадцать два.
Едва обвенчавшись, Суворов снова умчался в Первую армию. Впереди – летняя кампания 1774 года.
17 марта подписан указ о производстве Александра Васильевича в чин генерал-поручика.
Письма Суворова к супруге не сохранились. Но он нередко упоминал о Варваре Ивановне в письмах к своим друзьям и знакомым. Причём, упоминал как о любимой супруге.
В апреле-месяце Александр Васильевич был уже в Слободзее. Оттуда 7 апреля он отправил письмо Андрею Ивановичу Набокову, советнику Государственной коллегии иностранных дел, в котором сообщал:
«Милостивый Государь мой, почтенный друг Андрей Иванович!
Милость Императорская воздвигла меня на способнейшую дорогу к управлению Её высокой службы.
Собственность моя в будущих случаях покойнее быть может.
Варвара Ивановна почувствует лучшую утеху, и Вы, мой друг, тому сорадуйтесь. Слава Всевышнему Богу! Да дарует он России мир и любезное спокойствие…»
В мае Генерал-фельдмаршал Румянцев отправил Суворова во главе корпуса в глубокий поиск на правобережье Дуная.
10 июля произошло «достопамятное сражение при Козлуджи».
Суворовскую победу при Козлуджи военные истории ставят в один ряд с победами П.А. Румянцева при Ларге и Кагуле и победой А.Г. Орлова в Чесменском морском бою.
Суворов, имея всего 8 тысяч человек, атаковал 40-тысячную турецкую армию и наголову разбил её, взяв 107 вражеских знамен.
Поражение при Козлуджи нанесло не только военный, но и моральный удар по командованию турецкой армии и по самой Порте. Порта (название турецкого правительства) боялась после этого даже думать о продолжении войны и запросила мира. Именно Суворов поставил точку в «Первой турецкой войне в царствование Императрицы Екатерины II». Так именовали военные историки России русско-турецкую войну 1768-1774 годов.
3 августа 1774 года Суворов был отозван из Первой армии и назначен командующим 6-й Московской дивизией. В Москве, где ему довелось пробыть совсем недолго… Уже 19 августа он был направлен в распоряжение генерал-аншефа П.И. Панина для действий против Пугачёва.
Говорить о том, что для ликвидации пугачёвщины понадобился гений Суворова, явное преувеличение. Суворов прибыл на место действий, когда бунтующие орды Пугачёва уже были разбиты. Всевышний уберег Суворова от участия в подавлении внутренней смуты, главным образом от избиения мятежников, среди коих было много просто обманутых. Направление же Суворова «состоять в команде генерал-аншефа П.И. Панина до утушения бунта» говорит о том, что последние месяцы пугачёвщины не на шутку встревожили Государыню.
Летом 1774 года бунт стал особенно опасен. Мятежные банды напали на Казань. Войск там не оказалось, и город защищали гимназисты. Пугачёвские варвары из 2867 домов, бывших в Казани, сожгли 2057, в том числе три монастыря и 25 церквей, что явно указывает на руководящую и направляющую руку запада в организации бунта. Но тут многочисленную банду Пугачева атаковал во главе небольшого отряда всего в 800 сабель подполковник Санкт-Петербургского карабинерного полка Иван Иванович Михельсон. В Истории Русской Армии А.А. Керсновского указано, что «в бою 13 июля с Михельсоном мятежников побито без счета. 15 июля убито еще 2000, да 5000 взято в плен. Урон Михельсона всего 100 человек».
Однако Пугачёву снова удалось собрать бесчисленное войско из «крепостного населения Поволжья».
А.А. Кереневский указал: «Опустошительным смерчем прошёл «Пугач» от Цивильска на Симбирск, из Симбирска на Пензу, а оттуда на Саратов. В охваченных восстанием областях истреблялось дворянство, помещики, офицеры, служилые люди…
Июль и август 1774 года, два последних месяца пугачевщины, были в то время самыми критическими. Спешно укреплялась Москва. Императрица Екатерина намеревалась лично стать во главе войск.
Овладев Саратовом, Пугачёв двинулся на Царицын, но здесь 24 августа настигнут Михельсоном и все скопище его уничтожено (взято 6000 пленных и все 24 пушки). Самозванец бежал за Волгу, в яицкие степи, но за ним погнался и его взял только что прибывший на Волгу с Дуная Суворов. Смуте наступил конец».
Главный виновник разгрома Пугачева Иван Иванович Михельсон был участником Семилетней и русско-турецкой войн. Суворов знал его по совместным боевым делам против польских конфедератов. Оценивая вклад Михельсона в разгром мятежников, Суворов отметил:
«Большая часть наших начальников отдыхала на красноплетенных реляциях, и ежели бы все били, как гг. Михельсон.., разнеслось бы давно всё, как метеор».
Прибыв на Волгу, Суворов принял под своё командование отряд Михельсона, но, как уже мы отмечали, не ему было суждено поставить последнюю точку в мятеже, а командовавшему авангардом полковнику Войска Донского Алексею Ивановичу Иловайскому, который получил приказ: «истребить злодея: ежели можно, доставить живого, буде же не удастся – убить».
Известный историк Дона М. Сенюткин писал: «Важен, но вместе с тем труден был подвиг Иловайского. Пред глазами его расстилалась песчаная степь, где нет ни леса, ни воды, где кочуют только разбойничьи шайки киргизов и где днём должно направлять путь свой по солнцу, а ночью по звёздам. Разобщённый с другими отрядами, следуя по пятам за Пугачёвым, имевшим у себя 300 мятежников, которым отчаяние могло придать новые силы, окружённый со всех сторон киргизами, стоявшими за Пугачёва, сколько раз Иловайский на пути своём подвергался опасности быть разбитым…»
5 сентября 1774 года Алексей Иванович настиг близ Саратова два отряда мятежников и разбил их, пленив 22 человека. После этого началась повальная сдача мятежников в плен. А вскоре Пугачева арестовали сами его сподвижники, чтобы, выдав его, получить снисхождение для себя.
Пугачёва доставили к Суворову, и тот более четырёх часов разговаривал с ним наедине. О чём? Это так и осталось неизвестно. Во всяком случае, явно не о тактике действий. Какой интерес беседовать на эту тему военному гению, полководческий дар которого освещен Всемогущим Богом, с неучем и бездарем-безбожником, умевшим только играть на самых низменных и «многомятежных человеческих хотениях». О чём могли говорить Избранник Божий Суворов и слуга тёмных «невежественной по отношению к России Европы» Пугачёв? Ответ обозначился, когда стало известно, что Пугачёв, попав в плен во время Семилетней войны, стал членом масонской ложи. Можно предположить, что Суворов заставил Пугачёва открыть ему тайные пружины мятежа.
Некоторые причины пугачёвского восстания к тому времени были уже известны. Это лишь по марксистской (поистине мраксистской) теории восстание преследовало целью освобождение народа от царского гнёта.
Официально было известно, и об этом можно прочитать в книге «Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII столетия», что
«Пугачёв был донской казак; в 1770 году он находился при взятии Бендер. Через год по болезни отпущен на Дон; там за покражу лошади и за то, что подговаривал некоторых казаков бежать на Кубань, положено было его отдать в руки правительства. Два раза бежал он с Дона и, наконец, ушел в Польшу…»
С 1774 по 1775 год Суворов проходил службу в Поволжье. Главная задача – восстановление разрушенных Пугачёвым крепостей, которые являлись по существу пограничными заставами. Это был один из редких периодов в жизни полководца, когда он мог жить в семье. И семейные отношения в ту пору были, судя по письмам Суворова различным адресатам, вполне нормальными.
Когда же родился Суворов?
Летом 1775 года Суворова ожидали два события: одно – траурное и горькое, второе – радостное.
5 июля 1775 года ушёл из жизни отец полководца генерал-аншеф Василий Иванович Суворов. Он не дожил всего полмесяца до радостного события в жизни сына. 1 августа родилась дочь, которую назвали Наташей.
Суворову шёл сорок пятый год. Впрочем, если посмотреть правде в лицо – сорок шестой. Уже в наше время, в 1979 году, в дни празднования 250 -летия со дня рождения полководца, в высших эшелонах власти, чуть ли не в политбюро ЦК КПСС, день рождения был сдвинут на год – перенесён на 1730 год.
Я, с позволения читателей, коснусь этого обстоятельства, поскольку оказался причастным к нему, будучи сотрудником журнала «Советское военное обозрение». Впрочем, обо всём по порядку.
Если вы откроете соответствующий том Большой Советской Энциклопедии, то увидите прежнюю дату рождения Суворова – 11 (24).11. 1729 года.
Но если возьмёте Советскую военную энциклопедию, то удивитесь – там уже значится – 11 (24). 11. 1730 года, хотя по времени разница между выходом свет этих томов невелика.
Седьмой том находился в работе как раз в 1979 году. Он был сдан в набор 12.02.79 г. В то время книги находились в работе очень долго. Высокая печать… Один набор сколько занимал времени! В печать подписан том 7.09.79 г. И снова долгая работа по исправлениям, помеченным в вёрстке. Правку успели внести в самый последний момент.
Но что же произошло? Почему понадобилась правка?
Подготовка к столь славной дате шла своим чередом. В редакции журнала знали, разумеется, что я – выпускник Калининского суворовского военного училища. Ну а для суворовцев Суворов – это Знамя, это символ чести, доблести и отваги. Словом, написать очерк в одиннадцатый, ноябрьский, номер журнала было поручено мне.
Очерк я назвал «Гордость России». Он прошёл редколлегию, был подготовлен в номер, ну а номер, как ему это и положено, проходил все этапы пути. Журнал «Советское военное обозрение» был особым журналом. Он издавался на шести языках – русском, английском, французском, испанском, португальском и арабском. Распространялся более чем в ста странах мира. Это своеобразное печатное представительство Советской Армии за рубежом.
В связи с тем, что была необходима работа по переводу на все вышеуказанные языки, номера готовились заблаговременно. Вот и ноябрьский номер мы сдали «иностранцам», как называли меж собой переводные редакции, ещё летом, да и забыли про него.
И ещё один момент. Журнал должен был проделать немалые расстояния, чтобы попасть к читателям, а потому каждый номер выходил в конце предыдущего месяца. То есть одиннадцатый норме журнала мы получили в конце октября.
Посмотрел я материал. Приятно… Военным журналистом я был тогда начинающим, но в армии не новичком – за плечами суворовское военное и высшее общевойсковое командное училища, служба в различных частях и соединениях, командование взводом, ротой, батальоном…
Помню, дня не было, чтоб по радио или телевидению не говорили о предстоящем юбилее. В печати материалов пока не было – но почти в каждом печатном издании готовили соответствующие материалы.
И вдруг, буквально за неделю до юбилея радиостанции как в рот воды набрали. Ни слова о Суворове. Я удивился, но не сразу придал значения. Хотя прислушивался к передачам. В один из тех предъюбилейных дней пригласил меня к себе в кабинет главный редактор журнала генерал-майор Валентин Дмитриевич Кучин.
Покачал головой и говорит. Так, с наигранной строгостью, но не более:
– Ну что, напортачили мы с вами, напортачили. Я только что из Центрального Комитета партии. Стружку снимали.
– За что?
– За то, что юбилей Суворова на год раньше отметили.
Увидев на лице моём удивление, более мягко уже сказал:
– Оказывается принято решение считать, что Суворов родился в 1730 году, то есть двести пятьдесят лет со дня его рождения исполнится через год.
– Да как же…
Он остановил меня жестом и пояснил, что его не очень сильно ругали, поскольку к моменту принятия решения был уже отпечатан тираж журнала. То же, кстати, случилось и с журналом «Пограничник», поскольку там тоже вынуждены были выпускать журнал ещё до начала указанного на обложке месяца – пока-то довезут до самых дальних застав.
– Вопрос этот в редакции поднимать не будем. Объяснение дано не для широкого разглашения. В Центральном Комитете идут разговоры о постепенной реабилитации Сталина. Вон и фильмы уже пошли, где его показывают не так, как ещё недавно.
– Причём же здесь Сталин?
– А при том, что в этом году сталкиваются два юбилей, причём с разницей в месяц и несколько дней. У Суворова со дня рождения двести пятьдесят лет, а у Сталина ровно сто! Так же широко, как юбилей Суворова, юбилей Сталина отмечать, пока сочли.., – он поднял указательный палец к потолку, – там сочли, что рановато. Ну и принижать празднование юбилея Суворова тоже не хотелось бы. Вот и бросили клич историкам – те сразу зацепились за какие-то документы и быстро «нашли», что Суворов родился на год позже, чем считалось до сих пор.
Осталось только представить себе, каково другим изданиям периодической печати. Ну, так сяк ещё газетам – там материалы хоть и подготовлены, но до их постановки в номер далеко. А вот журналам сложнее. Видимо, решение в ЦК приняли где-то уже после 7 ноября. Многим редакционным коллективам пришлось задерживать выход и перекраивать номера. Нас бы и «погранцов» тоже бы заставили сделать это, да журналы ещё до принятия решения были отправлены читателям.
И подумалось мне – вот если б Суворов узнал о такой катавасии, наверное, бы записал и ещё одну моральную рану – может, и не смертельную, а всё же неприятную. Впрочем, не самая она и неприятная. Величайший полководец, великий праведник – даже он подвергался множеству клеветнических нападок.
«Спасите честь вернейшего раба Нашей Матери»
Но всё же главные раны, конечно, пришли от жены…
Начнём издалека… Причём, придётся вернуться в 1771 год, когда Суворов ещё воевал в Польше, куда он был направлен в мае 1769 года во главе бригады, состоящей из трёх пехотных полков против Барской конфедерации.Война с конфедератами более напоминала партизанскую. Суворов, учтя все особенности войны, создал базу в Люблинском районе и начал действовать дерзко и стремительно против обнаруживаемых разведкой группировок врага. Он одержал блестящие победы под Ореховым 2(13) сентября 1769 года, при Ландскроне 12(23) мая 1771 года, при Замостье 22 мая (2 июня) 1771 года, под Столовичами 12 (23) сентября 1771 года. Он разгромил войска гетмана Огиньского и французского генерала Дюмурье. 15(26) апреля 1772 г. взял последнюю опорную базу Барской конфедерации – Краковский замок. В результате этих побед в состав России были возвращены захваченные поляками земли Белоруссии и некоторой части Прибалтики.
15 (26) мая 1769 года Суворов стал командиром бригады, а 1 (12) января 1770 года был произведен в генерал-майоры.
Но нас более других интересует штурм Ландскронской цитадели.
В этом штурме участвовал племянник Суворова Николай Суворов, сын его двоюродного брата Сергея Суворова.
Во время штурма племянник получил ранение в руку. Видно, это очень пришлось не по душе, вот и стал упрашивать своего дядю помочь после излечения от раны перевестись в столицу.
Через некоторое время такая возможность появилась. 19 июля 1777 года Суворов написал письмо Потёмкину с просьбой позаботиться о его племяннике, и тот был зачислен секунд-майором в Санкт-Петербургский драгунский полк…
Служба в столице – это не то, что тяжёлая армейская в захолустье. Да и служба без войн. После Семилетней войны гвардия в боях не участвовала. Николаю Суворову никак не хотелось снова идти под пули. Так что окунулся он в безграничный мир развлечений столичной жизни. Остановился же поначалу в доме Александра Васильевича.
А Суворов в это время служил в Крыму, где решал важнейшие государственные задачи, содействовал утверждению на престоле хана Шагин-Гирея. Шагин-Гирей тяготел к России, старался отдалиться от Турции, которая хоть и потеряла власть над Крымом, мириться с этим не желала. Официально войны не было, но войска находились в полной боевой готовности. По ходатайству Потёмкина Суворов получил назначение командующим Кубанским корпусом.
В Крым жену, да ещё и с дочкой маленькой было не взять. Опасно. Так что пришлось ей быть гостеприимной хозяйкой. Пришлось принять гостя-племянничка. А племянничек-то с гнильцой оказался. Жена у дядюшки-благодетеля молодая, красивая. Для храброго вояки, в гвардию сбежавшего, подальше от боёв и походов, весьма привлекательная.
Кругом предостаточно девиц. К чему же на подлость идти? Но для человека, которому и служба в глубинке не в радость, и участие в боях пугает, всё хорошо, что может доставить удовольствие при минимальных затратах. А тут вышло так, что и все удовольствия под боком, и забот меньше, да и расходов никаких нет. Как уж там получилось, осталось тайной, да и не наше это дело, а вот сам факт подлости без внимания оставлять нельзя.
Вон ведь как пасквилянты дело-то повернули – все раны при дворе «смертельные» на Императрицу и Потёмкина записали. Ну, мы ещё коснёмся далее того, как Государыня и Светлейший князь «ранили» Александра Васильевича Суворова. Ранили не они – ранил высший свет, к которому он, увы, и племянника своим ходатайством приблизил.
Первая рана была нанесена племянником. Именно рана, потому что «при дворе» отнеслись к ней довольно равнодушно.
Суворов честно служил Отечеству, себя не жалел. Немало и ему пришлось походов совершить и схваток с врагами выдержать, чтобы обеспечить присоединение Крыма к России.
И вот в разгар его настоящей, мужской, мужественной боевой работы поразило Александра Васильевича как гром среди ясного неба известие о супружеской неверности жены.
Как реагировал Суворов, остаётся только догадываться. Человек прямой, искренний, предельно честный, человек, словно из иного мира спустившийся на грешную землю, он даже представить себе не мог, что такое бывает в жизни.
Об измене он впервые говорит в письме, датированном 12 марта 1780 года и адресованном П.И. Турчанинову.
«Милостивый Государь мой, Пётр Иванович! Сжальтесь над бедною Варварою Ивановною, которая мне дороже жизни моей, иначе Вас накажет Господь Бог!
Зря на её положение, я слёз не отираю. Обороните её честь.
Сатирик сказал бы, что то могло быть романтичество; но гордость, мать самонадеяния, притворство – покров недостатков, – части её безумного воспитания.
Оставляли её без малейшего просвещения в добродетелях и пороках, и тут же вышесказанное разумела ли она различить от истины?
Нет, есть то истинное насилие, достойное наказания и по воинским артикулам.
Оппонировать: что она «после уже последовала сама…». Примечу: страх открытия, поношение, опасность убийства, – далеко отстоящие от женских слабостей. Накажите сего изверга по примерной строгости духовных и светских законов, отвратите народные соблазны, спасите честь вернейшего раба Нашей Матери, в отечественной службе едва не сорокалетнего, Всемогущий Бог да будет Вам помощник
В[арвара] И[ванов]на упражняется ныне в благочестии, посте и молитвах под руководством её достойного духовного пастыря.
Не оставьте, Милостивый Государь мой, ответ Преосвященного Гавриила к сему на его письмо обратить сюда наипоспешнее, т.е. не позже Светлые Седьмицы: весьма то нужно.
Александр Суворов».
Первая реакция, конечно, была достаточно резкой, но, ведь Суворов любил! Он прямо сказал о том, что жена,«мне дороже жизни моей».
И вот тут-то проявилось необыкновенное женское коварство. Даже не женское, а такое, что и назвать-то сложно. Супруга в ноги бросилась, в любви клялась, каялась и всю вину сумела на племянника перевести.
Он негодяй, тут слов нет. Не всяк таков, как он, негодяй, кто на подобные шаги идёт. Бывает, что лучше б и судить, ди в подробности не вдаваться – всяко в жизни случиться может. Но вдумаемся в данную ситуацию! Кто Суворов! И кто его племянник! Отважный генерал, не жалевший себя в боях и нечто, его же, благодетеля своего, умолившее после ранения в руку спрятать от войн и походов в гвардии, чтобы, красуясь в мундире гвардейском и похваляясь гвардейским чином, одерживать иные победы, чем те, которые одерживал Александр Васильевич, поступавший всегда по однажды и и навсегда выработанному правилу: «Я забывал о себе, когда дело шло о пользе моего Отечества».
А Варвара Ивановна времени не теряла. Чувствуя, что сильны к ней мужние чувства, понимая, что он для неё, а не она для него выгодная партия, осознавая, что развод для неё – почти погибель, во всяком случае, лишение всех светских благ и светских развлечений, она объяснила свой подлый поступок наивностью своею, а особо доверчивостью и коварством соблазнителя. Рассказала, что племянник Суворова шантажировал её, заявляя, что если она не будет к нему благосклонная и не пойдёт с ним на связь известно рода, объявит на весь свет, что связь эта существует, осрамит и опозорит её перед всем, падким на такие вот сенсации обществом.
Потому, мол, и сдалась…
Ну, просто «сама святость». Потому и написал Суворов Турчинову, что она «упражняется ныне в благочестии, посте и молитвах…»
И действительно упражнялась… И Суворов видел, как упражнялась, даже поверил в искренность.
Вячеслав Сергеевич Лопатин нашёл объяснение странному слову «сатирик»: «Суворов оправдывал жену тем, что она вовремя не распознала опасности в ухаживаниях Николая Суворова, а когда поняла ужас своего положения, не открывала ничего из гордости и страха быть опозоренной соблазнителем. Её неумное («безумное») воспитание не позволило отличить прикрытый «романтичеством» порок от добродетели».
Он просил: «Накажите…»… Лопатин полагает, что просил он о наказании соблазнителя не случайно, а «Так как, по уверению Суворова Николай Суворов прибегал к угрозам, то он должен быть примерно наказан, иначе пострадает общественная мораль».
Прояснены в книге «А.В. Суворов. Письма», составленной В.С. Лопатиным, и другие загадки приведённого выше письма:
«О духовном пастыре … Имеется в виду Никита Афанасьевич Бекетов (1729-1794), бывший астраханский губернатор, в имении которого, в Черепахе, Суворов и его жена подолгу жили. Юный Бекетов выдвинулся благодаря фавору у Императрицы Елизаветы Петровны, заметившей красавца-кадета, талантливо исполнявшего женские роли в спектаклях сухопутного шляхетного кадетского корпуса.
В результате придворных интриг Бекетов был разжалован из фаворитов, служил в армии, попал в плен к пруссакам в сражении при Цорндорфе в 1758 году, почти полностью потеряв вверенный ему полк. Десять лет он управлял Астраханской губернией и был сменён за недостаточную решимость во время восстания Пугачёва.
Деятельная натура Бекетова, разводившего сады, виноградники, превратившего Черепаху из болотистой низины в образцовое хозяйство, не могла не вызвать симпатии Суворова, скучавшего в провинциальном захолустье.
«Не оставьте ответ…» Бекетов принимал участие в семейных делах Суворова и писал о них члену Святейшего Синода архиепископу новгородскому и Петербургскому Гавриилу (Петрову), признанному церковному авторитету, писателю, одному из составителей Словаря Российской академии. Гавриил известен критикой «Наказа» Екатерины Второй. По его ходатайству духовенство было освобождено от телесных наказаний. Суворов до конца жизни поддерживал с ним дружеские отношения».
Далее такой комментарий: «Церковное примирение с женой произойдёт через месяц, но искреннее чувство сострадания к прощённой Варварой Ивановной очевидно».
«Злодея проклятого… постарайся … упечь его поскорее».
Поразительно бывает порой лицемерий женское.
10 апреля 1780 года Суворов снова писал правителю канцелярии Потёмкина Петру Ивановичу Турчанинову, которого знал с детства:
«На письмо преосвященного Гавриила соответствую прежним моим к нему духовным прошением, то есть о наказании скверного соблазнителя и вечного поругателя чести моей, неблагодарного ко милостям и гостеприимству… Вы же, Милостивый Государь мой, исполните оное великодушно по строгости светских, обще с духовными законов.
Нещадная Варвара Ивановна низвергла притворства покров и непрестанно молитствует Богу…»
И вот снова Набокову от 3 мая из-под Астрахани.
«…По совершении знатной части происшествия на основании правил Святых Отец, разрешением Архипастырьским обновил я брак, и супруга моя Варвара Ивановна свидетельствует Вам её почтение.
Но скверный клятвопреступник да будет казнён по строгости духовных и светских законов для потомственного примера и страшного образца, как бы я моей душе ему то наказание ни умерял, чему, разве, по знатном времени, полное его раскаяние нечто пособить может….»
В следующем письме 3 мая, по случаю поздравления с пасхой Суворов сообщает Турчанинову «сей изверг в Ваших и Архипастыря руках, решении и воле. Супруга моя Варвара Ивановна вопиет на её воспитание (могущее со временем очиститься полнее) Всемогущему Богу. При прочем, две части оного нечестия и страшные нечестия родили: гордость – исток самонадеяния, притворство – порок преступлениев. О! коли б святый дух Преосвященнейшего Гавриила искоренение сих и в иных местах рассеял, умножил тем здравое деторождение, доказал ненадобность и горренгутского правила.
К письму рукой Варварой Ивановной Суворовой сделана приписка. Поздравляя Турчаниновых в Пасхой она благодарила за «неоставление друга моего Наташеньку», которая жила в семье Турчаниновых. Приписка оканчивалась просьбой: «А что касается до злодея проклятого, то, пожалуй, батюшка Пётр Иванович, постарайся ради Бога, упечь его поскорее».
Как тут не поверить, если сама соблазнённая просила наказать соблазнителя?!
Мы видим, что случившееся очень волновало и огрчало Суворова. В каждом письме – обида и боль.
27 августа 1880 года он писал Турчанинову из-под Астрахани
«Почтенно письмо от 3 сего месяца меня успокоило: вижу я в перспективе покрытие моей невинности белым знаменем.
Насильственный похититель моей чести примет за его нечестие достойное воздаяние – но до того моё положение хуже каторжного вдовца – и многих затруднением, сопряжённых с бедами, избавлюсь, иначе поздно заставить меня верить по-калмыцкому, благотворить планеты – по-индейскому…
Общая наша дочка была вчера именинница. Варюта проплакала. Исправилось было положение её. До сих обеих сжальтесь, не отлагайте…»
Присланный Турчаниновым портрет 5-летней Наташи Суворовой был заказан Императрицей как пожелание семейного примирения. Наташа жила в столице и воспитывалась в Смольном, который окончила в 1791 году.
Интересно, что Наташи нет в списке смолянок. Суворов не захотел давать обязательства в том, что не возьмёт её до окончания института. Наташа жила в Смольном, но считалось, что живет у начальницы Смольного.
Суворов поверил жене, поверил, что племянник добился от неё того, чего хотел добиться путём шантажа, что он оставлял её выбор – быть с ним тайно или не быть с ним, но тогда он сделает так, что всем будет известно, что была.
Каково же было Суворову? Какое он должен был принять решение? Дуэль? Но как это возможно с племянником, да и вообще – он же генерал-поручик, уже известный в России полководец. Он бы ни на минуту не задумался, если бы можно было отстоять честь жены в поединке, но не сразу поверил в то, что требуется отстаивать честь, что не растоптала она сама эту честь.
Она покаялась перед ним, она обвинила во всём соблазнителя. Но так ли это было на самом деле, кто знает?! Если бы в дальнейшем она оставалось добропорядочной и верной женой, можно было бы поверить, что в первом случае был шантаж, было такое положение, из которого так просто не выбраться. Но… Впрочем, об этом «но» в своё время.
Суворов вынужден был тратить свои душевные силы на этакие отвратительные для его понимания вещи. Он просил, чтобы мерзкому поступку племянника была дана соответствующая оценка, чтобы он был примерно наказан. Но нравы общества оставляли желать лучшего. Начиная с петровского царствования повредились эти нравы в России, заразилась России бездуховностью западноевропейской.
То, что Суворову казалось невероятным, невозможным, преступным, в столице зачастую воспринималось вполне нормальным, обыкновенным, обыденным. Ну, конечно, достойным порицания, если это свершается людьми не последними в иерархии, но, если же деяния эти вершатся самими любителями посудачить, то это другое дело.
А до того ли Суворову. Он в одной обойме с Потёмкиным укреплял позиции России на юге, умиротворял досаждавших грабительскими набегами соседей, приводя их постепенно в порядок, приводя в подданство Российской Императрице.
С февраля 1780 года Суворов служил в Астрахани. В апреле ему поручено командование Казанской дивизией, которая дислоцировалась в низовьях Волги. Там вполне возможно жить семьёй, и в семье устанавливается мир и покой. Как ни трудно забыть мерзость измены, но забыть надо. И Суворов принял волевое решение: простить. Он поверил в то, что главным виновником явился его племянник. Поверил, быть может, потому, что хотел поверить.
Супруга же просто, видимо, не в состоянии была оценить, кто рядом с нею. Молва о его необыкновенных подвигах уже прокатилась по всей России. А ведь Суворов был не только блистательным полководцем – он был образовеннейшим человеком своего времени, потому что с ранних лет, все силы отдавая обучению главнейшему в жизни военному делу, он не забывал и о литературе, искусстве, театре…
В октябре 1742 года Суворов был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк. Его сверстники, записанные по обычаям того времени в полки в младенчестве, уже прошли «на домашнем коште» первичные чины. Он же начал с первой ступеньки, в более позднем возрасте. Правда и он несколько лет еще оставался дома, но теперь уже отец серьёзно занялся с ним военными науками. Изучали тактику действий, военную историю, фортификацию, иностранные языки... Всё это называлось отпуском для обучения «указанным наукам» в родительском доме.
1 января 1748 года Александр Суворов «явился из отпуска» и начал службу в 3-й роте лейб-гвардии Семёновского полка. Лейб-гвардии Семёновский полк был в то время своеобразным центром подготовки русских офицерских кадров. Суворов с головой окунулся в занятия, но знаний, которые давали в полку, ему не хватало, и он добился разрешения посещать лекции в Сухопутном Шляхетском Кадетском Корпусе.
Вместе с кадетами проходил он курс военных наук, вместе с ними занимался литературой, театром.
В то время в Сухопутном Шляхетском Кадетском Корпусе учился Михаил Матвеевич Херасков (1733 – 1807), будущий автор эпической поэмы «Россияда» (о покорении Иоанном IV Грозным Казанского ханства), трагедии «Венецианская монахиня», философско-нравоучительных романов «Нума Помпилий или процветающий Рим» и других.
М.М. Херасков с помощью кадета-выпускника 1740 года Александра Петровича Сумарокова (1717 – 1777), ставшего уже признанным писателем, образовал в корпусе «Общество любителей российской словесности». Суворов посещал занятия общества, читал там свои первые литературные произведения, среди которых были «Разговор в царстве мертвых между Александром Великим и Геростратом» (августовский номер 1755 года) и «Разговор между Кортецом и Монтецумой» (июльский номер 1756 года). Печатался он и в журнале Академии Наук, который назывался «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».
Привлекала Суворова и огромная по тем временам библиотека Сухопутного кадетского корпуса, которая насчитывала около 10 тысяч томов.
Выдающиеся литературные дарования Суворова не нашли достаточного отражения в литературе. Между тем, будущий полководец был охотно принят в литературный круг светил писательского общества того времени. К примеру, выпускник Сухопутного Шляхетского Кадетского Корпуса 1740 года Александр Петрович Сумароков был автором весьма популярных в то время произведений: комедии «Рогоносец по воображению», трагедий «Дмитрий Самозванец», «Мстислав» и других, в какой-то мере предвосхитивших отдельные черты творчества знаменитого Д.Ю. Фонвизина. Кадетский корпус давал глубокие знания в науке, искусстве, литературе. Что же касается непосредственного военного образования, то на этот счёт есть упомянутое нами красноречивое свидетельство блистательного русского полководца Петра Александровича Румянцева.
Безусловно, занятия в корпусе, хотя Суворов и не был его воспитанником, оказали значительное влияние на его становление.
Вячеслав Сергеевич Лопатин, характеризует те годы следующим образом: становление государства «шло вместе с ростом национального самосознания. Во времена Суворова жили и творили Михаил Ломоносов, Александр Сумароков, Денис Фонвизин и Гавриил Державин, Федот Шубин и Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий и Василий Боровиковский, Варфоломей Растрелли и Иван Старов... и многие другие выдающиеся деятели русской культуры, отразившие национальный социально-экономический и культурный подъём страны», многие из которых были выпускниками кадетских корпусов.
И Суворов прекрасно разбирался в произведениях литературы, поэзии, живописи, архитектуры.
Скорее уж он мог говорить о скуке в обществе ограниченной, увлечённой только нарядами, да развлечениями супруги, а ей, если бы она, конечно, была не столь ограничена, не могло быть скучно в обществе такого уникального человека, как Александр Васильевич. Но, увы, во многих семьях случается так, что жёны (конечно, наверное, бывает, что и мужья), не занимаясь самообразованием, начинают отставать. Порою они отстают надолго, а иногда – навсегда.
А служба Отечеству звала дальше.
В августе 1782 года Потёмкин назначил Суворов командующим Кубанским корпусом. В июне 1783 года Суворов принимает самое активное участие в подготовке на верность России кочующих ногайцев.
Современный исследователь истории Кубани В.А. Соловьёв в своей книге «Суворов на Кубани» пишет:
«Почти четыре века продолжалась тяжелейшая борьба России с Крымским ханством и его вассалами. Никто и никогда не подсчитает, какой убыток причиняли татаро-ногайские набеги на русские и украинные земли. Французский военный инженер Гильом Бооплан, служивший на польской границе, так рассказывал об этих набегах:
«Самое бессердечное сердце тронулось бы при виде, как разлучается муж с женой, мать с дочерью без всякой надежды когда-нибудь увидеться, отправляясь к язычникам-мусульманам, которые наносят им бесчеловечные оскорбления. Грубость их позволяет совершать множество самых грязных поступков, как, например, насиловать девушек и женщин в присутствии их отцов и мужей… у самых бесчувственных людей дрогнуло бы сердце, слушая крики и песни победителей среди плача и стона этих несчастных русских».
И вот Суворов призван был стремительными ударами своими прекратить эти изуверства. И он решительно пресекал действия многочисленных врагов, алчно взиравших на русские земли. Каждый военный предводитель, будь то командир или командующий, будь то офицер или генерал, знает, как важно, выполняя боевую задачу, твёрдо верить, что у тебя надежен тыл не только в боевом построении на театре военных действий, но и где-то там, далеко – дома, в семье.
Мог ли Суворов твёрдо верить в свой надёжный тыл? Мог ли быть спокойным за что, что творится дома, мог ли думать так, как поётся в песни уже нашего времени… «Верю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось».
За сухими фактами биографии скрываются чувства этого необыкновенного человека, которые он, каким ли блистательным полководцем ни был, носил в себе, как всякий офицер, генерал, да просто как всякий мужчина, глава семьи, разделённый с этой семьёй обстоятельствами службы.
Суворов и в военное и в мирное, точнее условно мирное, время, ибо полного мира Россия практически никогда не знала, всегда находился на передовых рубежах. А южные рубежи на протяжении многих веков были охвачены огнём…
Вопрос о замирении соседей не раз остро вставал на повестке дня Русского правительства. Крымское ханство доставляло немало хлопот и Московскому царству времён Иоанна Васильевича Грозного, его отца Василия Третьего и деда Ивана Третьего, и Российской Империи при Петре Первом, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Положение, сложившееся в период царствования Екатерины Великой историк В. Огарков охарактеризовал следующим образом:
«Наши границы были отодвинуты от Чёрного моря значительною своей частью, флот отсутствовал; на устьях Днепра, на Днестре и Буге по соседству был целый ряд турецких крепостей. Крым, хотя и освобождённый от сюзеренства Турции по Кучук-Кайнарджийскому миру, на самом деле был ещё довольно послушным орудием в руках турецких эмиссаров и во всяком случае грозил нам как союзник Турции в возможной войне…».
Не меньше хлопот доставляли турецкие и крымские вассалы в Прикубанье.
В книге «Кавказская война» по этому поводу говорится:
«К югу от Дона и его притока Маныча простиралась до самой Кубани обширная степь, по которой привольно кочевали ногайцы – настоящие хозяева края. За Кубанью начинались горы, и оттуда ежеминутно грозили нападения черкесов. Были ли ногайцы в мире с черкесами, враждовали ли с ними, на русских поселениях, на Дону, одинаково тяжко отзывались как мир, так и война между ними».
Блистательные победы Суворова над турецкими вассалами – ногайскими татарами – 1 августа 1783 года и 1 октября 1783 года на реке Лабе в значительной степени способствовали успеху действий Г.А. Потёмкина по присоединению к России полуострова Крым.
Ещё один удар супруги – ещё одна рана!
1784 год. В двадцатых числах мая Суворов неожиданно приехал в столицу.
На вопрос Потёмкина ответил, что лично желает поблагодарить Императрицу за награждение Орденом Владимира 1-й степени.
Но на самом деле – наметилась новая семейная драма.
Суворов подал прошение с Синод о разводе и пообещал представить «изобличающие свидетельства». Но что же случилось? Об этом мы узнаём из письма Суворова секретарю Потёмкина Василию Степановичу Попову, датированного 21 мая:
«Мне наставил рога Сырохнев. Поверите ли?»
17 июня Синод в разводе отказал (нет свидетелей и «крепких доводов»), да и Екатерина была против.
Узнав о слухе, будто бы тесть И.А. Прозоровский имеет намерение «о повороте жены к мужу» Суворов просит Кузнецова лично посетить Московского митрополита Платона. Наставляет его:
«Скажи, что третичного брака уже быть не может, и я тебе велел объявить это на духу. Он сказал бы: «Того впредь не будет». Ты: «Ожёгшись на молоке, станешь на воду дуть».
И даёт примерный план разговора, предполагая, как может вести себя митрополит и что нужно отвечать в таком случае.
«Он: Могут жить в одном доме разно».
Ты: «злой её нрав всем известен, а он не придворный человек»
Кузнецов Степан Матвеевич заведовал канцелярией по управлению всеми вотчинами Суворова
Суворов начинал ему письма так:
«Государю моему, моему младшему адъютанту его благородию Степану Матвеевичу Кузнецову, в доме моём близ церкви Вознесения у Никитских ворот»
Суворов твёрдо решил оставить жену и даже велел вывозить вещи из своего московского дома в Ундол.
Кузнецову по этому поводу писал:
«Я решился всё забрать сюда… людей, вещи, бриллианты и письма.
Если бы супруга пожелала жить в московском доме, она бы нашла его пустым».
А между тем 4 августа 1784 года у Варвары Ивановны рождается сын. Ему даётся имя Аркадий, но Суворов не признаёт его. Ему виднее, почему не признаёт. Ведь это разгар романа с Сырохневым…
Действия Сырохнева – очередная рана, очередной подлый ответ на доброе отношение Суворова, в период борьбы за присоединение Крыма представившего его к награждению орденом Святого Владимира 4-й степени. Александр Васильевич писал, что секунд-майор Казанского пехотного полка Иван Сырохнев, «по отряду моему во время волнования некоторых между едичку-лами успешно и благоразумно с преподанием похвальных уверений довёл к точнейшему исполнению воли Монаршей».
И вот разрыв произошёл.
Поначалу Варвара Ивановна жила у отца, а после его смерти в 1786 году у старшего брата генерал-майора И.И. Прозоровского
Суворов поступил по-суворовски. Отрезал навсегда и навсегда выкинул из сердца.
Но он не забывал о том, что она пока законная жена и что её как-то надо жить с четырёхмесячным сыном.
10 декабря 1784 года он дал указание И.П. Суворову, дальнему своему родственнику, который вёл его дела, «супругу Варвару Ивановну довольствовать регулярно из моего жалования», хотя, как уже упоминалось, и не очень верил, что это его сын.
А впереди ждали новые, уже боевые испытания. Известно, что Суворов всегда рвался в бой, всегда стремился быть на острие главных ударов. Много причин, почему он делал так. На первом месте, безусловно, любовь к Отечеству. Но ведь и личные драмы – не последнее дело. Забыться, не думать о подлости предательства. Забыться бою, среди своих чудо-богатырей, где он всегда дома, где нет предательства, напротив, где каждый готов отдать жизнь за своего любимого генерала.
«…своей особою больше десяти тысяч человек»
Когда грянула русско-турецкая война 1787-1791 годов, Потёмкин направил Суворова на важнейший участок действий против турок, в Кинбурнскую крепость.
Рескрипт о назначении Светлейший сопроводил теплыми словами в адрес Суворова:
«Мой друг сердечный, ты своей особою больше десяти тысяч человек. Я так тебя почитаю и ей-ей говорю чистосердечно».
В войне, развязанной против Российской Империи, Порта (название турецкого правительства) планировала захват Крымского полуострова. Для этого турки собирались высадить десант на Кинбурнской косе, овладеть Кинбурнской крепостью, нанести удар в направлении пристани Глубокой, Николаева и Херсона, затем выйти к Перекопу и отрезать полуостров от России.
Прибыв в Кинбурн, Суворов немедленно приступил к организации обороны косы. Он не любил оборону, он признавал только наступление и потому писал одному из подчиненных командиров: «Приучите вашу пехоту к быстроте и сильному удару, не теряя огня по-пустому. Знайте пастуший час!»
Турки предприняли несколько серьезных попыток высадки на косу, но все они были успешно отбиты русскими войсками. Суворову не нравилась такая вынужденная пассивность. Получалось, что он ждёт, когда неприятель соизволит открыть боевые действия. И он решил превратить оборонительный бой в бой наступательный, чтобы покончить с главными силами турок. Но для этого нужно было позволить им высадиться на косу, что, конечно, рискованно. Впрочем, Суворов был уверен в себе и своих войсках.
Недаром его приказы были всегда проникнуты наступательным духом:
«Шаг назад – смерть! Вперёд два, три, десять шагов позволяю...»
1 октября 1787 года турки предприняли очередную попытку высадиться на косу. Вместо того, чтобы немедля пресечь её, Суворов приказал не мешать неприятелю, пусть, мол, высаживается. Подчинённым же сказал:
– Сегодня день праздничный, Покров, – и отправился в крепостную церквушку на молебен.
Вот этот факт, нашедший отражение практически во всех книгах о Суворове, всегда вызывал удивление. Как так? Враг захватывает плацдарм, укрепляет его, а Суворов молится в Церкви. Нашёл время?! Более или менее понятное объяснение приходило лишь одно – Суворов хотел отвлечь наиболее горячих и ретивых подчинённых от преждевременного вступления в бой. Лишь со временем пришло понимание истины. Крепкая и нелицемерная вера заставляла Суворова смерять по Промыслу Божьему все поступки и помыслы свои. Слова: «Богатыри! С нами Бог!», «Бог нас водит! Он нам Генерал!» – говорились не просто призывами, для меткого словца. В них отражалась убеждённость Суворова, что всё в Божьей Воле, а солдаты верили, что Суворов «знал Божью планиду и по ней всегда поступал».
Не случайно в составленном им «Каноне Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу» Суворов написал:
«Услыши, Господи, молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет, не отврати лица Твоего от мене, веси волю мою и немощь мою. Тебе Единому открыто сердце моё, виждь сокрушение моё, се дело рук Твоих к Тебе вопиет: хочу да спасеши мя, не забуди мене недостойного и воспомяни во Царствии Своём!»
Защита Отечества – Священная Брань, но война – брань кровопролитная. И Суворов с особым чувством молился перед каждым боем, испрашивая у Всемогущего Бога помощи в борьбе, помощи в достижении победы, а все победы Суворова были, как правило, кровопролитны для врага. Но врагами Суворова были агрессоры, а, значит, стяжатели духа тёмного, сами подписавшие себе приговор.
Так и перед Кинбурнской Священной Бранью с агрессором (а каждый агрессор – слуга тёмных сил, слуга дьявола) Суворов молился не для убиения времени, а молился, испрашивая у Всемогущего Бога помощи в победе над численно превосходящим врагом, пришедшим полонить Русскую Землю и Русский народ.
Когда турки закончили высадку (как потом выяснилось, высадили они 5300 человек) и собирались уже начать атаку крепости, Суворов сам ударил на них. Завязалось ожесточённое сражение.
Неприятель нёс большие потери, но дрался отчаянно, чем заслужил похвалу Суворова («каковы молодцы, век с такими не дирался»). Суворов был дважды ранен. В напряженный момент схватки оказался один против десятка неприятелей и был чудесно спасен гренадером Новиковым, сразившим нескольких турок, и подоспевшими русскими воинами. Борьба увенчалась победой. Лишь около 300 турок спаслось после этого дела, остальные погибли в бою или утонули в лимане. В войсках Суворова, погибло и умерло от ран 136 человек, лёгкие ранения получили 14 офицеров и 283 солдата.
«Богатыри! С нами Бог!» – в этом боевом призыве Суворова сквозит уверенность, что Всемогущий Бог дает волю к победе, мужество, отвагу, стойкость и силу именно Русским, как Витязям Православия, как защитникам и хранителям Святой Руси – Дома Пресвятой Богородицы, Подножия Престола Божьего на Земле.
Узнав о Кинбурнской победе, Екатерина II писала Потемкину: «Старик поставил нас на колени, но жаль, что его ранило...».
Этими словами Императрица выразила свое восхищение подвигом Суворова. Александр Васильевич был награждён орденом Святого Андрея Первозванного – высшей наградой России, по существу, царской наградой. Представление к ней сделал Потёмкин, и Суворов писал Потёмкину:
«Светлейший Князь! Мой отец, вы то могли один совершить: великая душа Вашей Светлости освещает мне путь к вящей императорской службе».
Как-то вот не вписывается царская награда в представление об очередной смертельной ране при дворе, нанесённой Суворову.
В июне 1788 года турки повторили попытку прорыва к Николаеву и Херсону, правда, на этот раз морским путём. Потерпев неудачу в сражении, которое произошло с русскими кораблями в Днепровско-Бугском лимане 1 июня, они, спустя две недели, вновь атаковали русскую гребную флотилию и парусную эскадру, прикрывавшие подступы к Николаеву, Херсону и пристани Глубокой.
Тут и приготовил им Суворов своеобразный сюрприз. Наблюдая за движением неприятельских кораблей по лиману во время боевых действий 1 июня, Суворов заметил, что фарватер проходит на одном участке очень близко к берегу косы. Там он установил две мощные артиллерийские батареи и тщательно замаскировал их. И вот, когда турки 16 июня после боя начали отход из лимана и оказались перед фронтом батарей, подставив свои борта, он ударил по ним в упор с короткой дистанции зажигательными снарядами. Эффект был потрясающий. 7 больших турецких кораблей пошли на дно. Команды их насчитывали свыше 1500 человек, на вооружении состояло свыше 130 орудий.
Эта победа позволила Потёмкину начать действия против Очаковской крепости.
Ранение, полученное при осаде Очакова 28 июля 1788 года, помешало Суворову участвовать в блистательном штурме этой важной крепости – «Ключа от моря Русского». Но то, во что превратили факт этого ранения, можно вполне причислить к одной из «невоенных», а клеветнических ран, нанесённых Суворову.
Некоторые историки, упрекая Потёмкина в разных грехах, противопоставляли ему Суворова, который якобы однажды, используя вылазку турок, решился на штурм, да вот главнокомандующий его не поддержал, а потому и не был взят в тот день Очаков. Так ли это? Обратимся к документам.
Вылазка турок произошла 27 июля. Докладывая о ней на следующий день Потёмкину, Суворов писал:
«Вчера пополудни в 2 часа из Очакова выехали конных до 50-ти турок, открывая путь своей пехоте, которая следовала скрытно лощинами до 500. Бугские казаки при господине полковнике Скаржинском, конных до 60, пехоты до 100 три раза сразились, выбивая неверных из своих пунктов, но не могли стоять. Извещён я был от его, господина Скаржинского. Толь нужный случай в наглом покушении неверных решил меня поспешить отрядить 83 человека стрелков Фанагорийского полка к прогнанию, которые немедленно, атаковав их сильным огнём, сбили; к чему и Фишера батальон при господине генерал-майоре Загряжском последовал. Наши люди так сражались, что удержать их невозможно было, хотя я посылал: во-первых, донского казака Алексея Поздышева, во-вторых, вахмистра Михаила Тищенка, в-третьих, секунд-майора Куриса и, наконец, господина полковника Скаржинского. Турки из крепости умножались и весьма поспешно; было уже до 3000 пехоты; все они обратились на стрелков и Фишера батальон, тут я ранен и оставил их в лучшем действии. После приспел и Фанагорийский батальон при полковнике Сытине, чего ради я господину генерал-поручику и кавалеру Бибикову приказал подаваться назад. Другие два батальона были от лагеря в одной версте. При прибытии моём в лагерь посланы ещё от меня секунд-майор Курис и разные ординарцы с приказанием возвратиться назад. Неверные были сбиты и начали отходить. По сведениям от господина генерал-майора Загряжского, батальонных командиров и господина полковника Скаржинского, турков убито от трех до пяти сот, ранено гораздо более того числа».
Оказывается, Суворов не только не спешил бросить людей на неподготовленный штурм без артиллерийской поддержки, без диспозиции, но и сам удерживал людей, в азарте гнавшихся за неприятелем. Он перечислил, кого посылал вернуть батальоны.
Увы, когда-то придуманная сплетня перекочевала и в исторические труды, и в популярные романы. Олег Михайлов и в романе «Суворов», и в книге «Суворов», вышедшей в серии ЖЗЛ, пишет:
«Проводив Потёмкина, Суворов, не стесняясь присутствия нескольких приближенных Светлейшего, сказал своим офицерам:
– Одним глядением крепости не возьмешь. Послушались бы меня, давно Очаков был бы в наших руках».
Ну, прямо Грачёв какой-то, который хотел одним полком Грозный взять в 1994 году. Суворов же не был хвастуном и зазнайкой, коим выставлен в данном случае. Суворов берёг людей и никогда не посылал их на бессмысленные мероприятия, также как и Потёмкин. И, ох, как не вяжутся хвастливые слова с его образом.
Вспомним слова Суворова: «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими» и «Дисциплина – мать победы»
В этих двух фразах заключены принципы Суворова, которые полностью исключают саму возможность действия старших. Кроме того, люди военные знают, что обсуждение действий старших командиров и начальников, особенно в присутствии подчинённых, недопустимо.
«Послушали бы меня…» Эта фраза вообще ни в какие рамки не лезет и противоречит следующему принципу Суворова: «Два хозяина в одном дому быть не могут». А перед знаменитыми Итальянским и Швейцарским походами Суворов написал: «Вся власть главнокомандующему».
Кроме того, каждому опять-таки человеку, познавшему премудрости военной службы, понятно, что обсуждение командира и начальника, да ещё и с намёками на своё превосходство, более походит на лакейство. Как говорится – холоп на барина две недели дулся и ругал его, а барин о том и не ведал.
Суворов не был холопом, Суворов был человеком высоких достоинств, высокого полёта, и совсем не в его характере подлаивать из подворотни. Просто иные авторы привносят в образ великого и всенародно любимого полководца черты каждый своего характера и свои личные жизненные принципы. Возможно, они бы и обсуждали бы решение командира с подчинёнными. Суворов это сделать не мог по своей сути.
А вот уже о вылазке в указанном выше романе:
«Наблюдавший издали за боем Потёмкин был в ярости. Де-Линь предлагал немедля штурмовать оставшиеся почти без защиты укрепления. Австрийский принц ясно видел, как большинство значков турецких отрядов – лошадиных и буйволовых хвостов на золоченых древках – уже переместилось к своему правому флангу и обнажило левый. Фельдмаршал был непреклонен. Бледный, плачущий Потёмкин шептал:
– Суворов хочет все себе заграбить!
В лагере разнесся слух, что генерал-аншеф умирает от раны. Однако примчавшийся в палатку Суворова Массо застал его, хоть и всего в крови, но играющим в шахматы со своим адъютантом Курисом».
Дальнейшее описание свидетельствует о том, что бой еще продолжался, ещё гибли люди, а Суворов играл в шахматы с тем самым Курисом, которого посылал остановить людей. А спасло положение «только вмешательство Репнина, отвлекшего на себя часть турок». И снова Суворов показанзлословом. Когда у него спросили, что передать Светлейшему, он ответил: «Я на камешке сижу, на Очаков я гляжу».
В. Пикуль в «Фаворите» пошёл ещё дальше. Он придумал, что для спасения положения Репнину пришлось положить на поле целый кирасирский полк. Целый полк! По чьей вине? Автору романа безразлично. Переписав ложь, он не удосужился разобраться, на кого в большей степени падает ответственность за гибель сотен людей – на Суворова или на Потёмкина.
Но что же Потёмкин? Плакал ли он? Запрещал ли он штурмовать крепость? Выясняется из документов, что он вовсе не был извещён о случившемся и потому 28 июля утром, ещё не получив от Суворова донесения, направил ему своё письмо следующего содержания:
«Будучи в неведении о причинах и предмете вчерашнего происшествия, желаю я знать, с каким предположением Ваше Высокопревосходительство поступили на оное, не донеся мне ни о чём во всё продолжение дела, не сообща намерений Ваших и прилежащих к Вам начальников и устремясь без артиллерии противу неприятеля, пользующегося всеми местными выгодами. Я требую, чтобы Ваше Высокопревосходительство немедленно меня о сём уведомили и изъяснили бы мне обстоятельно всё подробности сего дела».
Не только не плакался, «сидя на камешке», не только не волновался, как бы Суворов с горяча Очаков не взял, а вообще не ведал о случившемся до следующего дня.
Суворов вынуждён был послать ещё одно донесение, уже в ответ на приведённое выше письмо Потёмкина. Он сообщил:
«На последнее Вашей Светлости, сего июля 28 числа данное имею честь донести, что причина вчерашнего происшествия была предметом защиты Бугских казаков по извещении господина полковника Скаржинского, так как неверные, вошед в пункты наши, стремились сбить пикеты к дальнейшему своему усилению; артиллерия тут не была по одним видам малого отряда и подкрепления. О начале, как и продолжении дела чрез пикетных казаков Вашу Светлость уведомлено было. Начальник, прилежащий к здешней Стороне, сам здесь при происшествии дела находился. Обстоятельно Вашей Светлости я донёс сего же числа, и произошло медление в некотором доставлении оного по слабости здоровья моего».
Комментарии, как говорится, излишни. Смешно думать, что Суворов «по одним видам малого отряда», когда и «артиллерия тут не была», мог пытаться штурмовать Очаков самостоятельно. Ещё будет случай убедиться, насколько внимательно и добросовестно он готовил все серьёзные свои дела, в том числе и штурм Измаила. А тут вдруг бросил бы на бастионы людей без всякой подготовки?! Такого быть не могло.
Переборщили писатели и с потерями. Какой уж там кирасирский полк? Репнин и вовсе не появлялся в районе схватки, поскольку командовал правым крылом армии, а Суворов командовал левым крылом осадных войск. Да и вылазка была не таковой, чтобы ради неё целые полки посылать.
Суворов с вылазкой справился сам, как, впрочем, и всегда справлялся с противником без посторонней помощи.
Что же касается потерь, то они указаны Потёмкиным в письме к Императрице, в котором, кстати, мы не найдем ни тени упрека в адрес Суворова. Это ещё раз опровергает выдумки о ссоре между Григорием Александровичем и Александром Васильевичем.
«27-го числа, – писал Потёмкин, – показался неприятель к левому флангу армии в 50-ти конных, кои открывали путь перед своею пехотою, пробиравшеюся лощинами. Турки атаковали содержащих там пикет Бугских казаков. Генерал-аншеф Суворов, на левом фланге командовавший, подкрепил оных двумя батальонами гренадер. Тут произошло весьма кровопролитное сражение... Неудобность мест, наполненных рвами, способствовала неприятелю держаться, но при ударе в штыки был оный совершенно опрокинут и прогнан в ретраншемент. В сём сражении гренадеры поступили с жаром и неустрашимостью, которым редко найти можно пример. Но при истреблении превосходного числа неприятелей, отчаянно дравшихся, состоит и наш урон в убитых подпоручиках Глушкове, Толоконникове, Ловейко, в прапорщике Кокурине, в ста тридцати восьми гренадерах и двадцати казаках; ранены генерал-аншеф Суворов легко в шею, секунд-майор Манеев, три капитана, два поручика, гренадер двести, казаков четыре...»
Каких только сплетен ни приводили те, кто измышлял самоуправство Суворова. Забыли они лишь о документах, главных документах и свидетельствах – одокладах самого Суворова и письмах самого Потёмкина. Вот и получилось, что факты заимствовали у тех, кто никогда не был под Очаковом, а то и у иностранцев, подобных Валишевскому, изливавших желчь из-за рубежа.
Ну и ещё один момент. Предположим, наш частный начальник – Суворов таковым частным воинским начальником быть никак не мог – так вот, нашёлся бы таковой, что на плечах отступающих турок ворвался в крепость. Это проблематично, поскольку стены ещё не были разрушены. Батареи для ведения огня с целью разрушения стен только строились. Допустим, какому-то нашему отряду удалось прорваться через ворота, которые почему-то турки не успели закрыть. Ну и что дальше? В Очакове был крупный гарнизон. Что бы стало с отрядом? Желающие изобразить ссору Суворова с Потёмкины даже не подумали о том, что вот этакий штурм с бухты-барахты просто невозможен.
Суворов же учил: «Идя вперед, знай, как воротиться». И предупреждал:
«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови».
Ну а относительно облика командира говорил:
«Тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример».
Каков же пример показывает пример герой романа, который только по имени является Суворовым, но на нашего великого полководца совсем не походит.
Прочитал бы написанное сам Суворов и наверняка бы сказал, что получил ещё одну рану, причём, тоже не на войне, а, если и не при дворе, то в придворной литературе. Ведь зачем-то в советское время было дозволено допускать подобные клеветнические выпады против великого русского полководца.
Кстати, в интернете даже всем известные слова Суворова «Горжусь, что я Русский», успели переделать, и страничка с афоризмами начинается отредактированными словами: «Горжусь тем, что я россиянин». Это уже явно перебор, если не назвать ещё резче.
Взятие же Очакова было тщательно подготовлено артиллерийским огнём, с помощью которого почти полностью разрушена стена крепости, примыкающая к лиману. Штурм состоялся под командованием Потёмкина 6 декабря 1788 года и длился всего «пять четвертей часа». Турки потеряли 8700 убитыми, 4000 пленными, 1440 умершими от ран. Урон русских составил 936 человек. И Суворов, и Потёмкин умели действовать по-румянцевски. Вспомним Кагул. Турки и татары имели вместе 230 тысяч. Румянцев – 23 тысячи. Несмотря на это, Румянцев атаковал и уничтожил свыше 20 тысяч неприятелей. То есть, по существу на каждого русского воина приходился один уничтоженный неприятель, что редко бывает в истории военного искусства.
Падение Очакова потрясло Порту, подорвало могущество Османской империи. А следующий год, 1789-й, был ознаменован блистательными победами Суворова при Фокшанах и Рымнике.
Об итогах сражения при Фокшанах 21 июля 1789 года Суворов докладывал Потёмкину: «Рассеянные турки побрели по дорогам – Браиловской и к Букарестам. Наши легкие войска, догоняя их, поражали и на обеих дорогах получили в добычу несколько сот повозок с военной амуницией и прочим багажом». И снова потери были несоизмеримыми. Известный исследователь екатерининских войн М. Богданович указывал: «Число убитых турок простиралось до 1500; в плен взято 100 человек; русские потеряли убитыми 15, а раненными 70 человек. Урон, понесённый австрийцами, был немного более».
В этом сражении, так же как и в следующем, Рымникском, русские войска действовали вместе с союзниками австрийцами. Желая взять реванш за поражение при Фокшанах, турецкое командование в конце августа 1789 года сосредоточило крупные силы перед 18-тысячным отрядом австрийского принца Кобургского. 100 тысяч против 18. Принц запросил помощи у русских. Суворов двинулся на выручку австрийцам, взяв с собой лишь небольшую часть подчиненных ему войск, всего 7 тысяч. Именно с таким отрядом можно было совершить стремительный марш, столь необходимый в создавшейся обстановке. Преодолев за двое с половиной суток свыше ста километров, он соединился с союзниками.
Принц Кобургский сообщил о силах противника и предложил немедля организовать оборону. Но мы уже знаем, как Суворов относился к обороне. Суворов предложил атаковать турок. Принц наотрез отказался, ссылаясь на огромное численное превосходство неприятеля.
Суворов переспросил:
– Численное превосходство неприятеля? Его укреплённые позиции? – И тут же твердо заключил: – Потому-то, именно, мы и должны атаковать его, чтобы не дать ему времени укрепиться еще сильнее. Впрочем, – прибавил он, видя нерешительность принца, – делайте, что хотите, а я один с моими малыми силами намерен атаковать турок и тоже один намерен разбить их...
Кобургский вынужден был повиноваться Суворову. Уверенность непобедимого полководца завораживала, она словно бы вселялась в австрийцев.
И снова победа, баснословная, блистательная. Потери турок превысили 15 тысяч (а у Суворова в отряде всего было семь!). Урон русских и австрийцев составил 700 человек.
В Рымникском сражении Суворов продемонстрировал высочайшее полководческое мастерство, показал образец боя со сложным маневрированием. Его победа повлияла на весь ход кампании, ибо турецкая армия Юсуфа-паши практически перестала существовать.
Оставшиеся в живых свыше 80 тысяч человек, потрясённые разгромом и беспримерной отвагой русских, разбежались, и собрать их до конца кампании не представлялось возможным.
Суворов писал:
«Наивреднее неприятелю страшный ему наш штык, которым русские исправнее всех в свете владеют».
За эту победу Суворов по представлению Потёмкина был награжден орденом Святого Георгия 1-й степени. Восхищаясь подвигом своего любимца, Григорий Александрович сопроводил награду следующими словами:
«Вы, конечно, во всякое время равно приобрели славу и победы, но не всякий начальник с равным мне удовольствием сообщил бы вам воздаяние. Скажи, граф Александр Васильевич, что я добрый человек: таким буду всегда!»
Императрица возвела Суворова в графское достоинство с почЁтным титулом «Рымникский».
Суворов был осыпан почестями, щедро наградил его и австрийский император Иосиф II.
На искренность и добросердечие отношений между Суворовым и Потёмкиным указывает письмо Александра Васильевича, адресованное личному секретарю Светлейшего Князя Василию Степановичу Попову:
«Долгий век Князю Григорию Александровичу! Увенчай его Господь Бог лаврами, славой. Великой Екатерины верноподданные, да питаются от тука его милостей. Он честный человек, он добрый человек, он великий человек. Счастье моё за него умереть!»
Снова как-то не получается с рассуждениями о пяти смертельных ранах при дворе. Ни двор, ни соправитель и супруг Российской Государыни ну никак Суворову ран не наносили и не собирались наносить.
А война продолжалась, и после победоносной кампании 1789 года необходимо было принудить, наконец, к миру Турцию. Императрица писала князю Потёмкину: «Мир скорее делается, когда Бог даст, что наступишь… им на горло».
Наступить им на горло значило покорить Измаил.
В «Военной энциклопедии», изданной до революции, указывается, что к концу 1790 года «турки под руководством французского инженера Де-Лафит-Клове и немца Рихтера превратили Измаил в грозную твердыню».
Ну и даётся подробное описание неприступной по тем временам крепости, которая была защищена и естественными препятствиями, поскольку «расположена на склоне высот, покатых к Дунаю».
Измаил занимал довольно большую территорию, в «Военной энциклопедии сказано, что «широкая лощина, направлявшаяся с севера на юг, разделяла Измаил на две части, из которых большая, западная, называлась старой, а восточная – новой крепостью».
Были возведены мощные укрепления, указано, что «крепостная ограда бастионного начертания достигала 6 верст длины и имела форму прямоугольного треугольника, прямым углом обращенного к северу, а основанием к Дунаю; главный вал достигал 4 сажен вышины и был обнесён рвом глубиною до 5 и шириною до 6 сажен и местами был водяной».
Сажень, старинная мера длины. Одна сажень равна 2 с лишним метрам, а если точнее, то в восемнадцатом веке сажень равнялась 2 метрам и 13 сантиметрам. Таким образом, главный вал был высотой более 8 метров, а ров, глубиной свыше десяти метров. Ширина рва превышала 12 метров. Можно представить себе, каково было взять такую крепость.
В крепость вели четверо ворот, с запада – Царьградские, (Бросские) и Хотинские, с северо-востока – Бендерские, с востока – Килийские.
В Военной энциклопедии указано оснащение крепости:
«Вооружение 260 орудий, из коих 85 пушек и 15 мортир находились на речной стороне; городские строения внутри ограды были приведены в оборонительное состояние; было заготовлено значительное количество огнестрельных и продовольственных запасов; гарнизон состоял из 35 тысяч человек под началом Айдозли-Мехмет-паши, человека твердого, решительного и испытанного в боях».
Здесь следует уточнить, что на довольствии в крепости в канун штурма состояло свыше 42 тысяч человек.
И всё-таки крепость надо было брать, ведь от неё зависело, сколько ещё предстоит пролиться русской крови в той жестокой войне.
Главной целью действий против Измаила было нанесение решительного поражения основным силам Османской империи и принуждение Порты к миру.
В конце ноября 1790 года войска генерала Гудовича обложили крепость, однако на штурм не отважились.
Собранный по этому поводу военный совет принял решение – ввиду поздней осени снять осаду и отвести войска на зимние квартиры. Между тем Потёмкин, ещё не зная об этом намерении, но обеспокоенный медлительностью Гудовича, направил Суворову распоряжение прибыть под Измаил и принять на себя командование собранными там войсками.
Суворов выехал к крепости, а Потёмкин чуть ли не в тот же день получил рапорт Гудовича, в котором сообщалось о решении военного совета. Выходило, что главнокомандующий поручил Суворову дело, которое большинство генералов почитало безнадежным. Потёмкин тут же направил Александру Васильевичу ещё одно письмо: «Прежде нежели достигли мои ордеры к г. Генералу Аншефу Гудовичу, Генерал Поручику Потёмкину и Генерал Майору де Рибасу о препоручении вам команды над всеми войсками, у Дуная находящимися, и о произведении штурма на Измаил, они решились отступить. Я получил сей час о том рапорт, представляю Вашему сия-ву поступить тут по лучшему Вашему усмотрению продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением оного...»
Однако Суворов был Суворовым! Он решил брать крепость, и твердо ответил Потёмкину:
«По ордеру вашей светлости… я к Измаилу отправился, дав повеление генералитету занять при Измаиле прежние их пункты».
2 декабря войска, остановленные Суворовым на марше к зимним квартирам, повернули назад и вновь обложили крепость. На следующий день началось изготовление фашин и лестниц для штурма. В тылу был построен макет крепостных укреплений, и войска приступили к усиленным тренировкам.
Суворов провёл военный совет, на котором те же генералы, что ещё недавно приняли решение снять осаду, постановили взять крепость штурмом.
Потёмкин прислал Суворову адресованное в Измаил письмо с предложением о сдаче:
«Приближа войски к Измаилу и окружа со всех сторон сей город, принял я уже решительные меры к покорению его. Огонь и меч уже готовы к истреблению всякой в нём дышущей твари; но прежде, нежели употребятся сии пагубные средства, я, следуя милосердию всемилостивейшей моей Монархини, гнушающейся пролитием человеческой крови, требую от Вас добровольной отдачи города. В таком случае жители и войски, Измаильские турки, татары и прочие какие есть закона Магометанского, отпустятся за Дунай с их имением, но есть ли будете Вы продолжать безполезное упорство, то с городом последует судьба Очакова, а тогда кровь невинная жён и младенцев останется на вашем ответе.
К исполнению сего назначен храбрый генерал граф Александр Суворов- Рымникский».
К письму главнокомандующего Суворов приложил и своё, правда, вовсе не то, которое часто приводится в исторических книгах, и имеющее следующее содержание:
«Я сейчас с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление – воля, первый выстрел – уже неволя, штурм – смерть. Что оставляю вам на рассмотрение».
Известен и ответ, который, якобы, дал комендант Измаила:
«Скорей Дунай остановится в своём течении, и небо упадёт на землю, нежели сдастся Измаил».
Записка Суворова составлена безусловно в его духе, но была ли она послана? Скорее всего, нет. Её, написанную рукою адъютанта со слов Александра Васильевича, нашли в архиве перечеркнутою. Суворов же продиктовал и отправил иное, более полное и гораздо более сдержанное письмо. Приведем строки из него:
«...Приступая к осаде и штурму Измаила российскими войсками, в знатном числе состоящими, но соблюдая долг человечества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость, при том бываемую, даю знать чрез сие вашему превосходительству и почтенным султанам и требую отдачи города без сопротивления… В противном же случае поздно будет пособить человечеству, когда не могут быть пощажены …никто… и за то никто, как вы и все чиновники перед Богом ответ дать должны».
Письма Суворов отправил 7 декабря, а уже на следующий день приказал соорудить мощные осадные батареи в непосредственной близости от крепости, дабы делом подтвердить решительность своих намерений. Семь батарей были установлены на острове Чатал, с которого также предполагалось вести огонь по крепости.
Длинный и пространный ответ от коменданта Измаила поступил 8 декабря. Суть его сводилась к тому, что, желая оттянуть время, он просил разрешения дождаться ответа на предложение русских от верховного визиря. Комендант упрекал Суворова в том, что русские войска осадили крепость и поставили батареи, клялся в миролюбии, и не было даже тени высокомерия в его письме. Суворов ответил коротко, что ни на какие проволочки не соглашается и даёт ещё против своего обыкновения, времени до утра следующего дня. Офицеру же, с которым направлял письмо, велел на словах передать, что если турки не пожелают сдаться, никому из них пощады не будет.
Штурм состоялся 11 декабря 1790 года. Результаты его были ошеломляющими. Измаил пал, несмотря на мужественное сопротивление и на то, что штурмующие уступали в числе войск обороняющимся. О потерях
А.Н. Петров писал:
«Число защитников, получавших военное довольствие, простиралось до 42 000 человек (видимо, в последние недели гарнизон пополнился за счет бежавших из Килии, Исакчи и Тульчи. – Н. Ш.), из которых убито при штурме и в крепости 30 860 и взято в плен более 9000 человек».
Русскими войсками было взято 265 орудий, 3000 пудов пороха, 20 000 ядер, 400 знамен, множество больших и мелких судов. Суворов потерял 1815 человек убитыми и 2400 ранеными.
Донося Императрице об этой величайшей победе, князь Потёмкин отмечал:
«Мужество, твёрдость и храбрость всех войск, в сём деле подвизавшихся, оказались в полном совершенстве. Нигде более не могло ознаменоваться присутствие духа начальников, расторопность штаб- и обер-офицеров. Послушание, устройство и храбрость солдат, когда при всём сильном укреплении Измаила с многочисленным войском, при жестоком защищении, продолжавшемся шесть с половиной часов, везде неприятель поражён был, и везде сохранён совершенный порядок».
Далее главнокомандующий с восторгом писал о Суворове, «которого неустрашимость, бдение и прозорливость, всюду содействовали сражающимся, всюду ободряли изнемогающих и направляя удары, обращающие вотще отчаянную неприятельскую оборону, совершили славную сию победу».
Императрица отвечала письмом от 3 января 1791 года:
«Измаильская эскалада города и крепости с корпусом, вполовину противу турецкого гарнизона в оной находящегося, почитается за дело, едва ли в истории находящееся и честь приносит неустрашимому российскому воинству».
Победа была блистательной.
Очередная рана «при дворе»
Известно, что, собираясь в начале 1791 года в Петербург, Потёмкин планировал оставить за себя Суворова, то есть отдать в его командование все вооруженные силы на юге России, в том числе и Черноморский флот. Потёмкин считал Суворова самым достойным кандидатом на этот пост. Вполне возможно, он рассчитывал вручить ему Соединённую армию после окончания войны в полное командование. Но не так думали представители прусской партии в России во главе с Н.В. Репниным и Н.И. Салтыковым, людьми, мягко говоря, весьма низких моральных качеств и достоинств.
Война шла к завершению, выиграна она была руками честных русских полководцев Потёмкина, Румянцева, Суворова, Самойлова, Кутузова, блистательного флотоводца Ф.Ф. Ушакова, которого называли «Суворовым на море», и многих других. Для слуг духа тёмного настала пора постараться сделать так, чтобы плодами ее воспользовались, как нередко случалось в России, те, кто и малую толику не сделал для победы. Репнин с Салтыковым сговорились скомпрометировать Суворова в глазах Потёмкина, настроить Суворова против Потёмкина, а Екатерину II против и Суворова и Потёмкина, чтобы затем попытаться свергнуть с престола Императрицу. Они надеялись (но, как показало время, ошибались) сделать своим послушным орудием Павла Петровича, когда тот займёт царский трон.
Желая расположить к себе Суворова и заманить его, неискушённого в интригах, в свой лагерь «даже подыскали жениха Наташе Суворовой – сына Н.И. Салтыкова».
Для боевого генерала, всю жизнь проведшего в боях и походах и далекого от интриг, нелёгким делом было разгадать замысел недругов, брак же дочери с сыном заместителя Председателя Военной коллегии (по-нынешнему почти что зам. министра обороны) был почётен.
В борьбе использовались самые низкие методы.
Враги решили привлечь к борьбе против Суворова уже потерявшую привлекательность, бессовестную и беспринципную В.И. Суворову, жену великого полководца и необыкновенного человека, так и неоценённого ею.
В.С. Лопатин так и написал в комментарии: «Что бы помешать планам Суворова (вернуться в строй) Репнин может использовать живущую в Москве Варвару Ивановну Суворову (Мусие-Мадам), якобы, любящую мужа, но забытую и брошенную им».
Для интриг годилось всё, лишь бы скомпрометировать Суворова в тот момент, когда он должен был получить высочайший в Империи чин.
Суворова окружали бессовестные и мелкие людишки. Его жену В.И. Суворову никто не просил вести себя, так как она себя вела. Но вот «лето красное пропела», и уже кавалеров не интересовала – возраст. А роскоши то хотелось, да ещё как!
Потому, видно, и откликнулась на предложения Репнина и Салтыкова о содействии им в их видах.
Суворов не скрывал, что стремился получить чин генерал-адъютанта, который давал ему возможность чаще бывать при дворе и помогать дочери, вступавшей в свет. Враги знали, насколько он дорожит дочерью, насколько привязан к ней. Вспомним: «Смерть моя – для Отечества, жизнь моя – для Наташи».
Салтыков, объявив о мнимом сватовстве, выманивал Суворова в Петербург и еще с одной целью. Благодаря этому ему удалось добиться, что на время отъезда Потёмкина во главе Соединённой армии южной был оставлен Репнин.
К тому же, не исключено, что и Салтыков и Репнин знали о том, что дни Потёмкина сочтены. В этом направлении уже «работали» их соратники. Суворова выманили в Петербург, обещая выгодный брак для его дочери. Затем Салтыков помешал производству Суворова в генерал-адъютанты, да так, что Суворов поначалу считал, что виною тому Потёмкин. Но надо отдать должное Александру Васильевичу в том, что он никогда, никаких действий против Потёмкина не предпринимал. Не был он способен к интригам, его высокая душа была чистой и непорочной.
Ну а помешать получению чина генерал-адъютанта в какой-то степени помогли и бессовестные жалобы оттанцевавшей молодость свою «попрыгуньи-стрекозы» Варвары Ивановны Суворовой. Жену бросил и в генерал-адъютанты? Да и в изменах она не признавалась. Называла всё ложью. Но Суворов никогда и ни в чём лгуном не был…
Конечно, использовался целый комплекс пасквилей.
Группировкой Салтыкова и Репнина была пущена сплетня о якобы имевшей место ссоре Потёмкина с Суворовым, причем ссоре из-за наград. Перепевалось на все лады, что Суворов, мол, обижен «недостойными» наградами и называл их «измаильским стыдом».
Действовал известный масонский принцип: «Клевещи, клевещи, что-нибудь да останется...»
Увы, осталось многое. Осталось и кочует по книгам и фильмам.
А, между тем, Суворов сразу после штурма Измаила отправился в Галац, еще не подозревая о кознях, и там занимался размещением войск и организацией обороны на случай, если турки вдруг все-таки решатся потревожить русские позиции. О том свидетельствуют его доклады главнокомандующему о положении дел в Галаце, где он находился до середины января 1791 года. Затем писал из Бырлада, куда отвёл на зимние квартиры свой корпус, убедившись в неготовности и неспособности турок к каким-либо действиям. Лишь 2 февраля 1791 года Суворов отправился в Петербург, но о том, что он встречался с Потёмкиным в Яссах или Бендерах, документальных свидетельств нет. Существует лишь анекдот, в правдоподобности которого сомневались и автор широко известной в XIX веке монографии «Потёмкин» А.Г. Брикнер, и другие биографы, работы которых не тиражировались подобно тому, как тиражировались издания пасквильные.
Строевой рапорт о взятии Измаила Суворов выслал Потёмкину и на доклад к нему ни в Яссы, ни в Бендеры не ездил. Однако, выдумки врагов Суворова подхватили литераторы нашего времени. Они так старались, так усердствовали, что не удосужились даже сравнить свои опусы и вдуматься, что всяк измышляет на свой лад, но на тему, заданную недругами России.
Тема измышлений: прибытие Суворова в одних случаях в Яссы, в других – в Бендеры и его доклад Потёмкину, устный, заметьте, доклад, коего на самом деле не было.
Описания этой встречи, которой на самом деле не было, можно найти в книгах К. Осипова «Суворов», О. Михайлова «Суворов», Л. Раковского «Генералиссимус Суворов», Иона Друце «Белая Церковь», В. Пикуля «Фаворит» и многих других. Рассказы эти похожи как две капли воды, но авторы домысливали детали – у одних Суворов бежал по лестнице, прыгая через две ступеньки, навстречу Потёмкину, у других Потёмкин спешил обнять победителя, спускаясь к нему. У Пикуля и Осипова всё это происходило в Бендерах, у Михайлова – в Яссах.
Но все перечисленные авторы, в стремлении оговорить Потемкина – тогда это соответствовало идеологическому заказу – не задумывались о том, как они показывают самого Суворова.
Суворову приписывали дерзость, невоспитанность, грубость, словно не понимали, что делают.
Сами посудите, Потёмкин, восхищённый подвигами Суворова, взявшего неприступный Измаил, раскрывает руки для объятий и восклицает:
– Чем тебя наградить мой герой?
Что же плохого в этом вопросе? Почему нужно в ответ дерзить?
Тем не менее, в книге К. Осипова находим такой ответ Суворова:
«– Я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и Государыни, никто меня наградить не может...»
У О. Михайлова Суворов отвечает так:
«– Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и всемилостивейшей Государыни, никто не может!»
У Пикуля примерно также:
«– Я не купец, и не торговаться мы съехались… (почему, съехались? – Н.Ш.) Кроме Бога и Государыни, меня никто иной, и даже Ваша Светлость, наградить не может».
Базарно, не по-военному звучит «Мы съехались». Подчинённый не съезжается с начальником, а коли прибывает по вызову, то именно прибывает на доклад, а не «съезжается».
У остальных описания схожи. И все в один голос объясняют такое поведение Суворова тем, что он вознёсся над Потёмкиным, взяв Измаил. Не будем сравнивать Очаков и Измаил, не будем сравнивать другие победы и Потёмкина и Суворова. Они несравнимы, потому, что каждый делал свое дело во имя России, у каждого была своя военная судьба. И Потёмкин, и Суворов честно исполняли свой сыновний долг перед Великой Россией и не взвешивали на весах, у кого заслуг больше. Это за них решили сделать их недоброжелатели или недобросовестные биографы. Авторам хотелось убедить всех в том, что Потёмкин очень плохо относился к Суворову.
Но тогда почему же по их же выдумке он фейерверкеров по дороге расставил, чтобы торжественнее встретить Суворова? Об этом пишет О. Михайлов. Почему же вышел навстречу с тёплыми словами: «Чем тебя наградить, мой герой?»
Попытка же убедить читателя в том, что Суворов вёл себя дерзко, поскольку вознесся над Потёмкиным, взяв Измаил, вообще порочна и является клеветой на самого Суворова, ибо гордыня – великий грех.
Суворов был искренне и нелицемерно верующим, Православным верующим. Мог ли он быть подвержен гордыне? Греху страшному. Судите сами:
«Начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость (Сир.10, 15);
«Гордость ненавистна и Господу и людям, и преступна против обоих» (Сир. 10, 7)
«Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его» (Сир. 10, 14)
Сердце Суворова никогда от Творца не отступало, и обвинение его в гордости есть большой грех.
Да и «Купец»… «Торговаться», тоже не суворовские слова. Я привёл в предыдущих главах выдержки из писем Суворова к Потёмкину и к его секретарю Попову, в которых и слова другие, и отзывается Суворов о Потёмкине по-иному.
Но, по мнению хулителей, оказывается и Екатерина (судя по выше перечисленным книгам) недовольна была Суворовым, за то, что он, говоря её же словами, наступил на горло туркам и заставил их думать о мире (напомним слова Императрицы о том, что «мир скорее делается, если наступишь им на горло»).
У Пикуля в «Фаворите», к примеру, значится: «Петербург встретил полководца морозом, а Екатерина обдала холодом».
Вячеслав Сергеевич Лопатин писал: «Прибывший в Петербург 3 марта, тремя днями позже Потёмкина, Суворов был достойно встречен при дворе. В знак признания его заслуг, Императрица пожаловала выпущенную из Смольного института дочь Суворова во фрейлины, а 25 марта подписала «Произвождение за Измаил». Награды участникам штурма были обильные. Предводитель был пожалован чином подполковника лейб-гвардии Преображенского полка и похвальной грамотой с описанием всех его заслуг. Было приказано выбить медаль с изображением Суворова «На память потомству» – очень высокая и почётная награда».
А клеветники утверждали, что ссора в Яссах (Бендерах) дорого стоила Суворову, что Потёмкин не захотел его награждать. Но… Вот письмо Потёмкина к Екатерине II: «Если будет Высочайшая воля сделать медаль генералу графу Суворову, сим наградится его служба при взятии Измаила. Но как он всю кампанию один токмо в действии был из генерал-аншефов, трудился со рвением, ему сродным, и, обращаясь по моим повелениям на пункты отдаленные правого фланга с крайним поспешанием, спас, можно сказать, союзников, ибо неприятель, видя приближение наших, не осмеливался атаковать их, иначе, конечно, были бы они разбиты, то не благоугодно ли будет отличить его гвардии подполковника чином или генерал-адъютантом»…
И никто не подумал о том, что подобрать Суворову награду было чрезвычайно сложно. Все высшие ордена России он к тому времени имел. Два раза один и тот же орден в то время не давали. Не было, правда, у него ордена Георгия 4-й степени. Но не награждать же им за Измаил. Этот орден (Георгия 4-й степени) дали позже, по итогам всей кампании, заметив, что только его, по случайности, и не было у Суворова.
Золотая медаль, которая была выбита в честь Суворова, была очень большой и почётной наградой. Такую же медаль получил за Очаков и сам Потёмкин. Как же можно упрекать Светлейшего за то, что он ставил Суворова на свой уровень? То же можно сказать и о чине лейб-гвардии подполковника. Этот чин имел и сам Потёмкин, а полковником лейб-гвардии, была лишь сама Императрица.
Очень часто можно слышать: отчего, мол, Императрица не дала Суворову чин генерал-фельдмаршала? Это говорится без знания дела, без знания положения о производстве в очередные чины, которое существовало при Екатерине II.
Адмирал Павел Васильевич Чичагов в своих «Записках» рассказал об этом достаточно подробно: «Что касается до повышений в чины не в очередь, то Екатерина слишком хорошо знала бедственные последствия, порождаемые ими, как в отношении нравственном, так и относительно происков и недостойных протекций. В начале ее царствования отец мой (адмирал В.Я. Чичагов – Н.Ш.) по наветам своих врагов подвергся опале.
По старшинству производства он стоял выше прочих офицеров, которым императрице угодно было пожаловать чины. Она приказала доложить ей список моряков, несколько раз пересмотрела его и сказала: «Этот Чичагов тут у меня, под ногами»... Но она отказалась от подписи производства, не желая нарушить прав того человека, на которого, по её мнению, имела повод досадовать».
Императрица никогда не нарушала однажды заведенного ею порядка, и Потёмкин, зная об этом, не стал просить для Суворова генерал-фельдмаршальского чина. Всё дело было в том, что Суворов, о чём мы уже говорили, был поздно, по сравнению с другими генералами, записан в полк и не прошёл в детские годы, как было заведено в те давние времена, ряда чинов. Из-за этого многие генерал-аншефы оказались старше его по выслуге, как тогда говорили – по службе. Кстати, в 1794 году Императрица всё-таки произвела его досрочно в генерал-фельдмаршалы за необыкновенные заслуги в Польше. Причем сделать ей это пришлось тайно и указ о производстве огласить нежданно для всех на торжественном обеде в Зимнем дворце, чтобы избежать до времени интриг и противодействий.
Адмирал П.В. Чичагов по этому поводу писал:
«Когда генерал-аншеф Суворов, путём своих удивительных воинских подвигов, достиг, наконец, звания фельдмаршала, она сказала генералам, старейшим его по службе и не повышенным в чинах одновременно с ним: «Что делать, господа, звание фельдмаршала не всегда даётся, но иной раз у Вас его и насильно берут». Это может быть единственный пример нарушения Ею прав старшинства при производстве в высшие чины, но на это никому не пришло даже и в голову сетовать, настолько заслуги и высокое дарование фельдмаршала Суворова были оценены обществом».
Таким образом, награды Суворова за Измаил никак нельзя назвать скромными. Чин подполковника лейб-гвардии был очень высоким, не менее высокой наградой явилась и медаль, выбитая в честь подвигов полководца. За всю русско-турецкую войну 1787-1791 годов было сделано лишь две таких медали, представляющие собой массивные золотые диски. На первой медали был изображён Потёмкин, на второй – Суворов, причём оба в виде античных героев – дань господствовавшим в то время канонам классицизма. Потёмкин награжден за Очаков, Суворов – за Измаил...
Что же касается отношений Суворова и Потемкина, то ложь о ссоре опровергается также и письмом Суворова, датированным 28 марта 1791 года:
«Светлейший Князь Милостивый Государь! Вашу Светлость осмеливаюсь утруждать о моей дочери в напоминовании увольнения в Москву к её тетке Княгине Горчаковой года на два. Милостивый Государь, прибегаю под Ваше покровительство о ниспослании мне сей высочайшей милости.
Лично не могу я себя представить Вашей Светлости по известной моей болезни. Пребуду всегда с глубочайшим почтением...»
Суворов не хотел, чтобы дочь его была фрейлиной и попала в атмосферу интриг, разжигаемых при дворе врагами Императрицы, врагами Потёмкина и его, Суворова, собственными врагами.
Не известно, смог ли Потёмкин помочь своему боевому другу, но известно, что никогда Светлейший Князь не оставлял без внимания просьбы своих ближайших сподвижников и соратников, а тем более Суворова. Весной 1791 года над самим Потёмкиным нависала угроза, исходившая от группировки Салтыкова – Репнина. Он и на сей раз вышел победителем, предотвратил новую войну, на которую толкали Россию Репнин и Салтыков, чтобы ослабить державу и устранить от её управления Императрицу Екатерину Великую.
Разгадал замысел врагов и Суворов. Он порвал с ними все отношения. Потёмкин же отвёл угрозу и от себя, и от Императрицы. И тут же Салтыков нанёс подленький удар Суворову. Его сын публично отказал дочери Суворова в сватовстве. Вот почему Суворов говорил: «Я был ранен десять раз: пять раз на войне, пять при дворе. Все последние раны – смертельные».
Потёмкину было известно и о сватовстве, и о том, что Суворов едва не оказался в стане его врагов, но он не сердился на своего боевого соратника, веря в то, что Суворов не способен на бесчестные поступки.
Узнав, что Суворова направляют в Финляндию, Светлейший сказал А.А. Безбородко:
– Дивизиею погодите его обременять, он потребен на важнейшее.
Потёмкин видел в Суворове своего преемника на посту главнокомандующего Соединённой армией на юге, то есть во главе всех вооруженных сил на Юге России.
Суворов глубоко переживал, что хоть временно, но был близок к стану недругов Потёмкина. Об этом свидетельствуют многие его письма и одно из лучших его стихотворений, в котором были такие строки:
Бежа гонениев, я пристань разорял.
Оставя битый путь, по воздухам летаю.
Гоняясь за мечтой, я верное теряю.
Вертумн поможет ли? Я тот, что проиграл...
Прекрасно знавший мифологию, Суворов не случайно упомянул этрусское и древнегреческое божество садов и огородов Вертумн…
В стихотворении он намекал на свою возможную отставку, которой не произошло, потому что Потёмкин слишком высоко ценил Суворова, и столь же высоко ценила его Императрица.
В последний раз Потёмкин с Суворовым виделись 22 июня 1791 года в Царском Селе, а вскоре Григория Александровича вновь позвали дела на театр военных действий.
Когда Потёмкина не стало, Суворов горько переживал утрату. Он сказал о Светлейшем Князе: «Великий человек и человек великий. Велик умом, высок и ростом».
Суворов вскоре понял как ему тяжело без защиты Потёмкина.
«Мусие-Мадама» в союзе с «фельдмаршалами при пароле»
В борьбе против Суворова особенно неистовствовали Н.И. Салтыков и Н.В. Репнин. В сентябре 1792 года Александр Васильевич Суворов писал Д.И. Хвостову:
«…Дерзость и скрытность…
Репнин при незнатном рассудке, который опрокидываю простоестественностью, – он бесстрашен, лишь не давать выигрывать пути. Паче с отношением благовидности начнёт он на меня мину в нежности к Мусие-Мадама, собрав из Москвы довольно на заряд…»
Суворов называет свою супругу, которая, по подозрению, вступила в сговор с его врагами – Мусие-Мадама и заявляет кругом, о том, что любит мужа, но брошена им.
Но и это ещё не всё. Начались материальные претензии. И ходатай нашёлся, трусливый, не нюхавший пороху Николай Зубов. Это он, подвыпив для храбрости, в трагическую ночь 11 марта 1801 года, заявившись с толпой убийц в опочивальню Павла Петрович, успеет умыкнуть и положить в карман камзола золотую табакерку Императора. А когда возникнет конфликт, достанет её и нанесёт ею удар в висок Государю, который был безоружен перед трусливой омерзительной и оттого ещё более жестокой толпой остепенённых уголовных преступников.
Ну а во второй половине девяностых Зубов постоянно приставал к Суворову, пытаясь урвать что-то себе за посредничество между ним и его супругой, поскольку был женат на их дочери Наташе. Суворов отвечал спокойно и твёрдо:
Граф Николай Александрович!
Я слышу, что Варвара И(ановна) желает жить в моём моск (овском) дому. С сим я согласен, и рождественский дом к её услугам! Только, Милостивый Государь мой! Никаких бы иных претензиев не было, знамо, что я в немощах….
А.С.
И приписка: «150 000. Боже мой! Какая несправедливость… Андрей легко докажет!»
«Пропевшая» свою молодость стрекоза теперь нашла источник дохода. Как же, у неё ведь совести-то, конечно, нет, но есть муж! В октябре 1797 года В.И. Суворова написала Александру Васильевичу письмо, в котором просила уплатить 22 000 рублей долга, увеличить её годовой содержание и разрешить жить в московском доме.
Вячеслав Сергеевич Лопатин по этому поводу пишет:
«Николев донёс генерал-прокурору Куракину об ответе Суворова через Дубасова, что де «он сам должен, а посему и не может её помочь, а впредь будет стараться».
Куракин доложил Императору. Ну а тот повелел:
«Сообщить графине Суворовой, что она может требовать от мужа по законам».
В.И. Суворова воспользовалась случаем и подала генерал-прокурору письмо, в котором жаловалась на то, что она не имеет собственного дома и ничего потребного для содержания себя и что, наконец, она была бы совершенно счастлива и «благоденственно проводила бы остатки дней своих, если бы могла жить в доме своего мужа» с 8 000 годового дохода.
Прошение было доложено Павлу I. 26 декабря 1797 года последовало высочайшее повеление: объявить Суворову, чтобы он выполнил желание жены».
По отношению к долгам жены Суворов был твёрд. На письма своего зятя Н.А. Зубова он ответил довольно резко:
«Я ведаю, что Гр (афиня) В (арвара) И (вановна) много должна. Мне сие постороннее.
О касающемся до разделения моего собственного имения по наследству, прилагаю при сём копию с Высочайшего рескрипта, пребуду с истинным почтением».
Письмо написано из Кончанского и датировано 17 октября 1798 года.
Кстати, в Кончанском Суворов находился вовсе не в ссылке, как это пытаются утверждать многие историки. В царствование Императора Павла Петровича он дважды выезжал в Кончанское. Первый раз действительно было что-то похожее на ссылку, во всяком случае, было повеление Императора на тот отъезд, но потом сам же Павел сообщил, что обид не держит… Ну а во второй раз… Собственно, тут двумя словами не скажешь. Пора уже разоблачить укоренившуюся лож, в конце повествования поговорим об этом подробно, основываясь не на сплетнях, а на документах.
Возвращаясь же к письму о наследстве, вновь обратимся к комментариям, в которых Вячеслав Сергеевич Лопатин указал, что Александр Васильевич Суворов «увеличив по повелению Императора содержание В.И. Суворовой с 3 000 до 8 000 рублей в год и предоставив ей свой московский дом, отказался платить её долги».
О завещании же написано:
«Рескриптом от 2 октября 1798 года Павел Iутвердил завещание Суворова, по которому сыну оставлялись в наследство все родовые отцовские и за службу пожалованные деревни с московским домом и высочайше жалованные вещи и бриллианты, а дочери – все купленные деревни и его собственные бриллианты. В.И. Суворова не получила ничего».
Сына он, в конце концов, всё-таки признал.
Что же касается отношений с Императором Павлом, то тут необходимо всё же кое-что прояснить.
Существует предание, что Императрица Екатерина Великая планировала сделать наследником престола не сына Павла Петровича, а своего любимого старшего внука Александра Павловича и что даже подготовила соответствующий манифест.
Павел знал о манифесте и вполне мог знать о том, что Суворов был в числе тех, кто подписал манифест. Но Император не собирался никого преследовать. Петра Александровича Румянцева он пригласил к себе в первые же дни царствования, чтобы сделать советником. Румянцев, получив известие о смерти Екатерины Великой, умер от удара.
А.А. Безбородко, видимо, имел свой взгляд на то, кто должен царствовать в России. Когда они с Павлом в день смерти Государыни разбирали бумаги в ее кабинете, тот нашёл пакет, на котором рукой Екатерины II было начертано: «Вскрыть после моей смерти». Он посмотрел на Безбородко, словно спрашивая, что делать. Тот указал глазами на камин. Павел бросил пакет в камин. Так, скорее всего, закончил свой путь манифест, если таковой был.
Суворов оставался в Тульчине и никаким опалам не подвергался. Павел с уважением относился к великому полководцу. Но против Суворова были настроены старые враги, которые на первых порах царствования Павла заняли высокие положения, а Репнин и Салтыков даже получили чины генерал-фельдмаршалов. Суворов назвал их «фельдмаршалами при пароле», намекая на то, что получили они чины не за боевые победы, а выклянчили их за вахт-парады.
Графиня В.Н. Головина проливает в своих воспоминаниях свет на истинную причину первой опалы Суворова.
«Во время коронации, – писала она, – князь Репнин получил письмо от графа Михаила Румянцева (сына фельдмаршала), который служил тогда в чине генерал-лейтенанта под командой Суворова. Граф Михаил совсем не походил на своего отца, был самый ограниченный человек, но очень гордый человек и, сверх того, сплетник, не хуже старой бабы. Суворов обращался с ним по заслугам. Граф оскорбился и решил отомстить. Он написал князю Репнину, будто Суворов волнует умы, и дал ему понять, что готовится бунт. Князь Репнин чувствовал всю лживость этого известия, но не мог отказать себе в удовольствии подслужиться и навредить Суворову, заслугам которого он завидовал. Поэтому он сообщил письмо графа Румянцева графу Ростопчину... Этот последний представил ему насколько опасно возбуждать резкий характер Императора. Доводы его не произвели, однако, никакого впечатления на кн. Репнина: он сам доложил письмо Румянцева Его Величеству, и Суворов подвергся ссылке».
Трудно сказать, поверил ли Павел I Репнину, но, скорее всего, сыграло роль то, что Император мог догадываться о подписи Суворова на манифесте. Могло сыграть роль и то, что дочь Суворова Наташа была замужем за Николаем Зубовым, в котором Павел не без оснований на то чувствовал врага.
27 января 1797 года Суворов был отстранён от командования дивизией, а 6 февраля отстранён от службы.
Возле Императора по существу не осталось высоких военных чинов Румянцевской, Потёмкинской, Суворовской школы. А между тем Павел, ещё будучи Великим Князем, имел возможность наблюдать не действующую армию во всем блеске её побед, а разлагающуюся столичную гвардию в блеске балов, парадов и театральных выездов.
В гвардии служила знать, причём, зачастую, далеко не лучшая её часть. В гвардии служили отпрыски крупнейших землевладельцев, а, следовательно, рабовладельцев России, в гвардии не служили, а выслуживали себе чины. Один из гвардейских офицеров так вспоминал о своей службе:
«При Императрице мы думали только о том, чтобы ездить в театры, в общество, ходили во фраках…»
В те времена Н.И. Салтыков, в ведении которого находилась гвардия, завёл весьма обременительные для казны порядки и правила. Каждый гвардейский офицер должен был иметь шестёрку или четвёрку лошадей, самую модную карету, с десяток мундиров, роскошных и дорогостоящих, несколько модных фраков, множество слуг, егерей и гусар в расшитых золотом мундирах.
Андрей Тимофеевич Болотов писал:
«Господа гвардейские полковники и майоры делали, что хотели; но не только они, но даже самые гвардейские секретари были превеликие люди и жаловали, кого хотели, деньгами. Словом, гвардейская служба составляла сущую кукольную комедию».
Один из последних при Екатерине рекрутских наборов, во время которого призыв рекрут осуществлялся с их жёнами, был разворован почти на четверть. Рекруты и их семьи стали крепостными у Н.И. Салтыкова и Н.В. Репнина, и их сподвижников.
Павел Первый понимал, что реорганизация армии необходима но, как отмечает Борис Башилов в книге «История Русского масонства», «безусловной ошибкой Павла I было только то, что реорганизуя русскую армию, он взял за основу её реорганизации не гениальные принципы Суворова, а воинскую систему прусского короля Фридриха II».
Это не было случайностью. Во время одной из своих зарубежных поездок Павел был поражен строгой дисциплиной и безукоризненным внешним видом прусского воинства. Но он не понял, что это лишь фасад несуществующего здания. Свои боевые возможности прусская фридриховская система продемонстрировала позднее, в октябре 1806 года под Йеной и Ауерштедтом, когда прусская армия была наголову разбита Наполеоном. Павел же, вступив на престол, взял тот привлекательный фасад, взял его в виде формы одежды, ненужных и обременительных излишеств.
Между тем, 20 сентября 1797 года Суворов, написал Императору короткую записку:
«Ваше Императорское Величество с Высокоторжественным днём рождения всеподданнейше поздравляю... Великий монарх! Сжальтесь: умилосердитесь над бедным стариком, простите, ежели в чём согрешил...».
12 февраля 1798 года Павел I повелел генерал-прокурору Куракину:
«Генерал-фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому всемилостивейше дозволяем приехать в Петербург, находим пребывание коллежского асессора Николаева в Боровицких деревнях ненужным…»
А тут ещё Гавриил Романович Державин написал оду «На возвращение графа Зубова из Персии», в которой были такие слова:
Смотри, как в ясный день, как в буре
Суворов твёрд, велик всегда!
Ступай за ним! – небес в лазуре
Ещё горит его звезда.
В тот же день 12 февраля он отдал распоряжение не только Куракину. Он сделал рескрипт князю Андрю Горчакову:
«Ехать Вам, князь, к графу Суворову, сказать ему от меня, что есть ли было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет поводу подавать своим поведением к наималейшему недоразумению».
Племянник Суворова прискакал в Кончанское, но Суворов, узнав о цели приезда, рассердился. Едва удалось Горчакову уговорить его ехать в столицу.
В конце февраля Суворов прибыл в Петербург и уже 28 февраля был приглашён во дворец на обед.
Но на этот раз Суворов просто не мог сдержаться, чтобы не дать повода «своим поведением к наималейшему недоразумению», ибо полководца до глубины души возмутили нововведения и подражание прусской фридриховской системе.
Как всегда острый на язык, Суворов не сдерживал себя: «Я лучше прусского покойного великого короля, я, милостию Божией, батальи не проигрывал. Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?» Или: «Пудра не порох, букли не пушка, коса не тесак, а я не немец, а природный руссак. Немцев не знаю – видел только со спины».
А на предложение Императора продолжить службу, отвечал через Горчакова:
«Инспектором я уже был в генерал-майорском чине. А теперь уж мне поздно опять в инспекторы идти. Пусть меня сделают главнокомандующим, дадут мне прежний мой штаб, развяжут мне руки, что я мог производить в чины, не спрашиваясь. Тогда, пожалуй, пойду на службу. А нет – лучше назад, в деревню. Пойду в монахи…»
Горчаков сказал, что такое передать не может. Тогда Суворов заявил:
«Ну, тогда передавай, что хочешь, а от своего не отступлюсь».
Известный биограф Суворова А.Ф. Петрушевский отметил, что Александр Васильевич не упускал случая «осмеять новые правила службы, обмундирование, снаряжение – не только в отсутствии, но и в присутствии Государя».
Павел долгое время «переламывал себя и оказывал Суворову необыкновенную снисходительность и сдержанность, но вместе с тем недоумевал о причинах упорства старого военачальника».
И всё-таки, в конце концов, это Императору надоело, и когда Суворов сказал, что хочет вернуться в своё имение, тот ответил:
«Я вас не задерживаю»
А хозяйственные дела не радовали. Вскрылось воровство зятя Николая Зубова, присваивавшего себе доходы с Кобринского имения, которое дано было в счёт приданого Наталье Александровне. Суворов прервал с ним всякое общение.
Продолжали накапливаться раны далеко не военные, а раны, которые наносили неурядицы семейные. Дочь Наташа, его любимая Суворочка, была замужем за негодяем, потенциальным преступником, уже пойманным на воровстве, но… Суворов не дожил до того момента, когда Зубов стал соучастником зверского убийства.
О его контактах с сыном сведений почти не сохранилось. Возможно, Александр Васильевич так до конца и не был уверен, что это его сын, но признал его на том основании, что ребёнок не виноват в содеянном его матерью.
А впереди была ещё одна блистательная военная кампания, в которой, кстати, участвовал и Аркадий Суворов.
«Тебе спасать царей!..»
Ещё Императрица Екатерина II всерьёз задумывалась о том, что нужно спасать монархические режимы Европы.
По словам А.С. Пушкина: «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна». И всё же монархическая Европа была ближе России, нежели «демократическая» Англия. Англия только на словах противостояла революционной Франции, на самом деле она противостояла Франции, как государству, поскольку пришло время вновь переделить лакомые куски или так называемые рынки сбыта и колонии.
Противостоять наполеоновским войскам Европа оказалась не в состоянии, австрийские военачальники просто трепетали перед наполеоновскими генералами и маршалами. И тогда по инициативе Англии Австрия обратилась к Императору Павлу с просьбой прислать на театр войны Суворова, чтобы поставить его во главе союзных армий. Австрийцы хорошо помнили Суворова, помнили о совместных победах над турками.
Павел, не колеблясь, дал согласие и направил Суворову личное послание:
«Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании венского двора, чтобы Вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпуса Розенберга и Германа идут. И так по сему и при теперешних европейских обстоятельствах долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других предложить Вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену… Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы Вашей время, у меня удовольствия Вас видеть. Пребываю Вам доброжелательным. Павел».
Суворов тосковал в Кончанском без дела. Коллежский советник Ю.А. Николаев, надзиравший за Суворовым, оставил уникальные свидетельства о том, как жил полководец в Кончанском до последнего своего похода:
«Графа нашёл в возможном по летам его здоровье. Ежедневные его упражнения суть следующие: встаёт до света часа за два; напившись чаю, обмывается холодной водою, по рассвете ходит в церковь к заутрене и, не выходя, слушает обедню, сам поет и читает; опять обмывается, обедает в 7 часов, ложится спать, обмывается, служит вечерню, умывается три раза и ложится спать. Скоромного не ест, но весь день бывает один и по большей части без рубашки, разговаривая с людьми. Одежда его в будни – канифасный камзольчик, одна нога в сапоге, другая в туфле. В высокоторжественные дни – фельдмаршальский без шитья мундир и ордена; в воскресные и праздничные дни – военная и егерская куртка и каска...»
И вдруг снова в бой... В своём обычном духе он отдал распоряжение старосте:
«Матушинскому приказ! Час собираться, другой отправляться, поездка с четырьмя товарищами; я в повозке, они в санях. Лошадей осьмнадцать, а не двадцать четыре. Взять на дорогу двести пятьдесят рублей. Егорке бежать к старосте и сказать, чтобы такую сумму поверил, потому что я еду не на шутку. Да я ж служил за дьячка, пел басом, а теперь поеду петь Марсом...»
Император тепло принял Фельдмаршала и объявил, что жалует его орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Этот орден был введён Павлом в качестве высшего военного ордена. Награждения орденом св. Георгия в годы его правления не производились.
– Господи, спаси Царя! – воскликнул Суворов, приняв орден.
– Тебе спасать царей, – ответил на это Павел.
– С тобою, Государь, возможно! – воскликнул Суворов.
15 марта 1799 года Александр Васильевич прибыл в Вену. Горожане восторженно встретили его. Повсюду раздавалось: "Да здравствует Суворов!" Император Франц пожаловал полководца чином фельдмаршала.
Суворов уже был знаком с австрийскими военачальниками, знал о их боязливости и нерешительности, о их непомерной медлительности. Поэтому во время встреч с императором он деликатно, но требовательно просил позволения по вопросам боевых действий контактировать непосредственно с ним, минуя военного министра. Несмотря на протесты барона Тугута, император дал согласие на это. Тугут пытался выведать у Суворова его планы. Тот вручил ему свиток чистой бумаги и заявил: «Вот мои планы!»
Впрочем, общий план ведения войны против Бонапарта Суворов начертал еще в Кончанском, где долгими ночами анализировал тактику действий французских войск, анализировал ошибки противостоящих сторон.
Развивая стремительное наступление, войска Суворова атаковали неприятеля 16 и 17 апреля у реки Адда и нанесли ему полное поражение. Значительная часть французских войск была отрезана и капитулировала. Один из лучших наполеоновских генералов Моро попытался отойти к Милану, но Суворов отрезал ему путь и заставил отходить к Турину.
Первую сотню французских пленных Суворов отпустил со словами:
«Идите домой и объявите землякам вашим, что Суворов здесь...»
В сражении у реки Адда в плен вместе со своими войсками попал генерал Серюрье, бесстрашно сражавшийся в первых рядах своих воинов. Суворов вернул ему шпагу и сказал:
«Кто ею владеет так, как вы, у того она неотъемлема».
Французский генерал, прослезившись, стал просить освободить и его солдат. Суворов покачал головой и заметил:
«Эта черта делает честь вашему сердцу. Но вы лучше меня знаете, что народ в революции есть лютое чудовище, которое должно укрощать оковами».
17 апреля Суворов вступил в Милан.
Узнав о первых блестящих победах в Италии, Император Павел I направил Суворову перстень со своим портретом, осыпанным бриллиантами.
«Примите его, – писал он, – в свидетели, знаменитых дел ваших и носите на руке, поражающей врагов благоденствия всемирного».
Император вызвал к себе пятнадцатилетнего Аркадия Суворова, милостиво принял его и, назначив своим генерал-адъютантом, направил в Италию, чтобы тот неотлучно состоял при отце. Наставляя Аркадия, Император сказал:
«Поезжай и учись у него. Лучшего примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу».
Император Павел послал в Италию не только сына Суворова Аркадия, но и своего сына Константина Павловича, чтобы тот тоже набирался опыта и учился одерживать победы.
Победы Суворова буквально потрясали Европу. Император Павел писал ему:
«Граф, Александр Васильевич. В первый раз уведомили вы нас об одной победе, в другой, о трёх, а теперь прислали реестр взятым городам и крепостям. Победа предшествует вам всеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам вашим. Освободите её от ига неистовых разорителей; а у меня за сие воздаяние для вас готово. Простите. Бог с вами. Прибываю к вам благосклонный».
Суворов был все время на линии огня, не сходя со своей казачьей лошади. В результате блистательной победы французы только пленными потеряли 18 тысяч человек. Русские взяли 7 знамён и 6 пушек.
Италия была освобождена... Сардинский король, восхищённый подвигами Суворова, прислал ему свои ордена и медали и объявил о производстве в чин генерал-фельдмаршала королевских войск и пожаловании княжеского достоинства с титулом своего родного брата, а также заявил о своем желании воевать под знаменем Суворова в армии Италийской.
За «освобождение всей Италии в четыре месяца от безбожных завоевателей» Император Павел наградил Суворова своим портретом, осыпанным бриллиантами, и пожаловал титул Князя Российской Империи с титулом Италийского, распространенным на все потомство.
В очередном рескрипте Павел Первый назвал Суворова первым полководцем Европы. Он писал, что не знает чем ещё можно вознаградить подвиги его, что Суворов поставил себя выше наград, что Он, Император, повелевает гвардии и всем войскам, даже в присутствии Своем, отдавать почести, подобные императорским.
Во время Итальянского похода Суворов выиграл 10 сражений, захватил около 3 тысяч орудий, 200 тыс. ружей, взял 25 крепостей и пленил свыше 80 тысяч французов.
А впереди ждала Швейцария, где Суворову предстояло принять под командование все российские войска и вооруженных Англией швейцарцев, чтобы совместно с действующими на флангах группировки войсками эрцгерцога Карла и генерала Меласа развернуть наступление на французский город Франш-Конте.
Впереди были Альпы, впереди были грозные утёсы и скалы Сен-Готарда. Суворов писал в одном из донесений:
«На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые, поглотить готовые гробы смерти. Дремучие мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди и густой туман облаков при шумных водопадах, с каменных вершин низвергавшихся, увеличивали трепет».
Чтобы достичь Швейцарии, войскам Суворова предстояло преодолеть гору Сен-Готард и подобную ей гору Фогельберг, причём преодолеть с постоянными боями. Пройти через темную горную пещеру Унзерн-лох; перебраться через Чёртов мост, разрушенный неприятелем. Приходилось связывать доски офицерскими шарфами, перебрасывать их через пропасти, спускаться с вершин в бездонные ущелья. Суворов писал:
«Наконец, надлежало восходить на снежную гору Биншнер-Берг, скалистою крутизною все прочие превышающую, утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против и посреди водопада, низвергавшегося с ревом, и низрывавшего с яростью страшные камни, снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми с величайшим стремлением летели в преисподние пучины, где многие убивались, а многие спасались...»
Союзники изменили, бросили русских на произвол судьбы. Австрийские штабные офицеры подсунули карты, на которых не было указано нужных маршрутов.
В самые трудные минуты перехода Суворов говорил: «Не дам костей своих неприятелям. Умру здесь и иссеките на камне: Суворов – жертва измены, но не трусости».
За время тяжелейшего альпийского перехода русские пленили 3 тысячи французов, в числе которых был один генерал, взяли знамя. Сами же потеряли 700 человек убитыми и 1400 ранеными. Когда Императору Павлу доложили, что австрийцы предали Суворова, что русские войска остались без продовольствия, что боеприпасы у них на исходе, он мысленно простился и с полководцем, и с сыном Константином, и с армией… Но вдруг в день бракосочетания Великой Княжны Александры Павловны в Гатчину прискакал курьер с новыми реляциями...
Радости Императора не было предела. И одна лишь мысль не давала ему покоя: чем наградить героя? И он написал Суворову:
«Побеждая повсюду и во всю жизнь Вашу врагов Отечества, недоставало Вам ещё одного рода славы: преодолеть самую природу, но Вы и над ней одержали ныне верх. Поразив ещё раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистью против нас вооруженных. Ныне, награждая Вас по мере признательности Моей, и ставя на высший степень, чести и геройству представленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего полководца сего и других веков».
Высокое и почетное достоинство Генералиссимуса Российского было наградой Суворову. Кроме того, по приказу Императора была вылита бронзовая статуя полководца «на память потомству». Император Франц прислал Суворову орден Марии Терезии первой степени Большого Креста и представил ему пожизненное звание своего фельдмаршала с соответствующим жалованием.
Между тем, Император Павел окончательно убедился, что союзники России в этой войне думают только о своих интересах, они лживы и не надежны.
О том прямо указывается на невозможность воевать в таком странном союзе:
«Видя войска Мои, оставленные и таким образом переданные неприятелю, политику, противную Моим намерениям, и благосостояние Европы, принесённое в жертву, имея совершенный повод к негодованию на поведение Вашего министерства, коего побуждений не желаю знать, Я объявляю Вашему Величеству с тем же чистосердечием, которое заставило Меня лететь на помощь к Вам и способствовать успехам Вашего оружия, что отныне общее дело прекращено, дабы не утвердить торжества в деле вредном».
Направил Император и письмо Суворову:
«Обстоятельства требуют возвращения армии в свои границы, ибо все виды венские те же, а во Франции перемена, которой оборота терпеливо и, не изнуряя себя, Мне ожидать должно...»
Получив приказ о возвращении в Россию, Суворов произнёс слова, ставшие пророческими: «Я бил французов, но не добил. Париж мой пункт – беда Европе!»
Только Суворов в то время предвидел грядущие беды. Кто мог подумать, что несомненные успехи во внешней политики, сделанные Императором Павлом и графом Федором Васильевичем Ростопчиным, после гибели императора от рук злодеев, выполняющих заказ прежде всего английских политиков, будут сведены к нулю Александром, и Европу сотрясут новые войны, волна которых докатится до сердца России, до Москвы.
В Праге Суворов получил письмо Императора с приглашением в столицу: «Князь! Поздравляю Вас с Новым годом и, желая его Вам благополучно, зовy Вас к себе. Не Мне, Тебя, Герой, награждать, Ты выше мер Моих, но Мне чувствовать сие и ценить в сердце, отдавая Тебе должное...»
Перед отъездом Суворов зашёл поклониться праху австрийского полководца Лаудона. Прочитав пространную надпись на обелиске, в которой перечислялись успехи, награды, победы, сказал:
«Нет! Когда я умру, не делайте на моём надгробии похвальной надписи, но скажите просто: «Здесь лежит Суворов».
«Молю Бога, да возвратит мне героя Суворова!»
Весь поход Суворов выдержал, ни разу не заболев, превосходно чувствовал он себя и в Праге. Но едва получил приглашение в Петербург, едва лишь двинулся в путь, как начались недомогания, усиливавшиеся с каждой верстой, приближавшей его к России, к Императору. Ни один из биографов, ни один из историков не дал аргументированного объяснения этому. Указывали на старые раны, на старые болячки и тому подобное. И никто не обратил внимание на то, что в приезде Суворова в Петербург никак не были заинтересованы его враги и те, кто готовил устранение Павла I, не оправдавшего надежд закулисы и проводившего русскую национальную политику, политику возвышения Державы Российской.
Фон дер Пален был просто в ужасе. Он, сосредоточивший в своих руках власть, которая позволяла тихо и незаметно готовить злодейское убийство Императора, отлично понимал, что по прибытии Суворова в столицу, покушение на жизнь Царя может быть сорвано. Суворов был монархистом, он был за Православную Самодержавную власть, он был неподкупен и тверд. К тому же интриги минувших лет, острие которых было направлено против него, научили его многому, научили отличать друзей от врагов.
К этому следует добавить, что соглядатаи Палена не давали покоя Суворову не только во время и первого, и второго пребывания в Кончанском, но и на протяжение всего похода. Активизировались они и теперь, когда Суворов спешил в Петербург.
Авторитет Суворова в стране и в армии был настолько высок, что добрые отношения его с Императором становились лучшей защитой для самого Императора.
Значит, нужно было не допустить приезда Суворова в Петербург... История не сохранила нам точных данных о том, что Суворов был отравлен Паленом, но таковые догадки появлялись у многих историков и биографов, есть и факты, касающиеся попыток отравить великого полководца еще во время похода. Но это все приписывалось обыкновенно неприятелю.
Военный губернатор Петербурга и почт-директор фон дер Пален, явившийся в Россию "на поиск счастья и чинов", действовал, несомненно, не только клеветой, но и более сильным оружием. Человек, который не остановился перед тем, чтобы поднять руку на Императора, не остановился и перед символом Русской славы, перед Суворовым?
Первая задержка Суворова в пути по причине ухудшения здоровья была сделана в Кобрине, неподалеку от Гродно. Узнав о болезни полководца, Павел немедленно послал лейб-медика Вейкарта, чтобы тот оказал помощь Суворову, и теплое письмо:
«Молю Бога, да возвратит Мне героя Суворова. По приезде в столицу узнаете Вы признательность к Вам Государя, которая однако ж не сравняется с Вашими великими заслугами, оказанными Мне и государству».
Итак, помогать Суворову выехал Вейкарт. В своё время Ивану Грозному тоже помогал чужестранец. Чужестранцы "лечили" Императрицу Екатерину, чужестранец Аренд, близкий к кругам, организовавшим убийство Пушкина на Чёрной речке, продолжил дело Дантеса уже другими, врачебными методами. Чужестранцы "работали" над здоровьем Императора Николая Первого. Один из них, правда, не медик, оставил для своих потомков даже сообщение о своей "работе" над здоровьем Императора.
Недавно Г.С. Гриневич расшифровал таинственную надпись на чугунной ограде МВТУ, которую оставил там архитектор Доминико Жилярди:
«Хасид Доминико Жилярди имеет в своей власти повара Николая I»
Серьезная информация к размышлениям о болезни Суворова…
После "помощи" лейб-медика путь Суворова в Петербург стал ещё более печален. Единственное утешение – это торжественные встречи в каждом городишке, в каждом населенном пункте. Приветствовать великого полководца выходили толпы народа. Но лишь однажды, остановившись в Риге на празднование Пасхи, Суворов смог надеть свой парадный мундир со всеми орденами. Вскоре он не мог уже встать на ноги.
Пален же не останавливался и на этом, он открыл беспрецедентную, бессовестную кампанию клеветы на Суворова.
Борис Башилов пишет по этому поводу:
«Боясь, что возвращавшийся из Европы Суворов может помешать цареубийству, Пален постарался представить поведение Суворова так, как будто он все время систематически нарушает распоряжения Императора. Пален докладывал Павлу I, что во время походов в Европе, солдаты и офицеры неоднократно нарушали военные уставы: рубили на дрова алебарды, не носили ботинок и так далее.
Пален клеветал, что, став кузеном Сицилийского короля, Суворов зазнался и ни во что не ставит награды, которыми отличил его Император, и что при этом он намеренно не торопится в Петербург, где Павел хотел оказать ему триумфальную встречу и отвести покои в Зимнем Дворце. При каждом
удобном случае Пален продолжал наговаривать Павлу о "вызывающем поведении" Суворова. Так, 19 марта, сделав скорбную физиономию, он доложил, что Суворов будто бы просит разрешения носить в Петербурге австрийский мундир.
Поведение австрийских генералов во время Итальянского похода Суворова глубоко возмутило Павла и он пошел на разрыв с Австрией. И вдруг Суворов, по донесениям которого Павел принял решительные меры, хочет ходить в Петербурге в австрийском мундире. Это мнимое желание Суворова вызвало вспышку гнева у Павла. Пален подогрел её, сообщив Павлу о других дерзких "нарушениях" Царской воли со стороны Суворова.
Когда мы анализируем причины перемены отношения Павла I к высоко им самим вознесенному Суворову, то не следует забывать также, что дочь Суворова была замужем за Зубовым (Николай Зубов – брат последнего фаворита Екатерины), одним из участников заговора против Павла. Павел мог подозревать, что муж дочери Суворова участвует в заговоре против него...»
Добавим к тому, что широко известно отношение Павла к окружению его матери Императрицы Екатерины II. Если Павел I с трудом мог принимать в свое время, будучи еще Великим Князем, Потёмкина, человека высочайших достоинств, то что можно сказать о проходимцах, типа Зубова! Он их терпеть не мог. Николай Зубов даже побывал в ссылке.
«Павел, чувствовавший, что дни его близятся к концу, может быть подозревал, что и Суворов состоит в числе тех, кто желает его лишить престола», – писале Б. Башилов.
К сожалению, не было никакой возможности объясниться между собой двум великим людям России – Суворову и Императору Павлу. Окружение Павла делало все, чтобы этого не произошло. Борис Башилов указывает, что и Зубовы не были в стороне, всячески подстрекая Суворова на нетактичные выпады против Павла, которых было более чем достаточно после возвращения Суворова из первой ссылки.
А между тем, по замыслу Императора, в Нарву для встречи Суворова должны были быть высланы дворцовые экипажи. Суворов должен был въехать в Петербург под колокольный звон и пушечный салют, гвардия должна была встречать его в почетном карауле.
Но клевета сделала своё дело, и Суворов въехал в Петербург незаметно, поздним вечером 20 апреля. И остановился он не в специально отведенных для него великолепных покоях Зимнего Дворца, а в квартире графа Хвостова, женатого на родной племяннице полководца княгине Горчаковой.
21 апреля к нему прибыл канцлер Федор Васильевич Ростопчин, которому Император поручил справиться о здоровье полководца. Ростопчин был почитателем Суворова и верным сподвижником Императора. В скором времени и самого Ростопчина ждали наветы и опала, поскольку и он являлся помехой в осуществлении цели, поставленной заговорщиками. Ростопчин привёз Суворову орден Св. Лазаря, присланный Людовиком XVIII, и теплое письмо французского короля. Узнав, что письмо пришло из Митавы, Суворов с горечью сказал:
– Так ли прочитали? Французский король должен быть в Париже, а не в Митаве...
Направление к Суворову Ростопчина свидетельствовало о тех противоречивых чувствах, которые боролись в душе императора. То, что Суворов остановился не во дворце, а, по причине болезни, в доме Хвостова, было объяснено Паленым на свой лад. Пален заявил Императору, что полководец считает, будто победы вознесли его над Императором, который сам должен явиться к нему на поклон. И, когда Суворов, не имея сил ехать во дворец, передал свою просьбу Императору навестить его, Павел вполне мог подумать, что фон дер Пален прав.
И всё же он послал к полководцу графа И.П. Кутайсова. Но Кутайсов не относился к числу сановников, достойных уважения. Н.И. Греч в «Записках о моей жизни» так описал свидание Кутайсова с Суворовым:
«Кутайсов вошёл в красном мальтийском мундире с голубою лентою через плечо.
– Кто вы, сударь? – спросил у него Суворов.
– Граф Кутайсов.
– Кутайсов? Кутайсов? Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что же вы такое по службе?
– Обер-шталмейстер.
– А прежде чем были?
– Обер-егермейстером.
– А прежде?
Кутайсов запнулся.
– Да говорите же?
– Камердинером.
– То есть вы чесали и брили своего господина.
– То.. Точно так-с.
– Прошка! – закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофию. – Ступай сюда... Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты вечно пьян и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.
Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил Императору, что князь в беспамятстве и без умолку бредит».
5 мая Суворов почувствовал себя совсем плохо и позвал священника... Ночью он метался в бреду, отдавая какие-то приказания слабеющим голосом – последние мысли в угасающем его сознании были на полях сражений, где провел он свои лучшие годы.
«Горжусь, что я русский», – любил повторять он и никогда не ронял чести и достоинства Великоросса.
Скончался он 6 мая 1800 года во втором часу пополудни.
Н. Греч писал: «Не помню с кем, помнится с батюшкою, поехал я в карете, чтоб проститься с покойником, но мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами... Россия оплакивала Суворова...»
Граф фон дер Пален неистовствовал и в те дни. Его агенты доносили ему о тех, кто осмеливался прощаться с Суворовым. По его приказу выделили для траурной церемонии лишь гарнизонные батальоны.
Гвардию он использовать для этого запретил. Но продажный и лживый ловец счастья и чинов был не в силах остановить огромные массы народа, выражавшие свою боль и горечь по поводу кончины Суворова.
Далее Николай Греч писал: «Я видел похороны Суворова из дома на Невском проспекте... Перед ним несли двадцать орденов... За гробом шли три жалкие гарнизонные баталиона. Гвардию не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым несли его тело, и воздавал честь великому гению России. И в Павле доброе начало, наконец, взяло верх. Он выехал верхом на Невский проспект и остановился на углу императорской библиотеки. Картеж шел по Большой Садовой. По приближении гроба Император снял шляпу, перекрестился и заплакал...»
Адъютант Императора впоследствии вспоминал, что всю ночь Павел Петрович ворочался, долго не мог заснуть и все время повторял:
«Как жаль, как жаль...»
Это относилось к Суворову...
Много лет знавший Суворова, восхищавшийся им, переписывавшийся с ним Гавриил Романович Державин 7 мая написал своему другу Н. Львову:
«Герой нынешнего, а может быть и многих веков, князь Италийский с такою же твердостью духа, как во многих сражениях, встречал смерть, вчерась в 3 часа пополудни скончался...»
И закончил стихотворением:
О вечность! прекрати твоих шум вечных споров,
Кто превосходней всех героев в свете был.
В святилище твоё от нас в сей день вступил
Суворов.
Вернувшись с похорон Суворова, Державин услышал как снегирь высвистывает аккорды военного марша. И тут же родились печально-торжественные, прекрасные и трогательные строки:
Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый Снегирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов,
С горстью россиян все побеждать?
Быть везде первым в мужестве строгом.
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и Богом,
Скиптры давая, зваться рабом.
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?
Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, снегирь!
Бранна музыка днесь не забавна,
Слышен от всюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! – что воевать!
«Анжелика» Светлейшего Князя…
«Анжелика» Светлейшего Князя…
Её называли «Уманской Анжеликой». Я бы назвал «Анжеликой» Светлейшего князя Потёмкина. Хотя и это не верно. У той, классической Анжелики, и книга, и фильм о которой необыкновенно популярны, был один Единственный Любимый, к которому она стремилась всю свою жизнь.
У нашей «Анжелики» такого Единственного Любимого не было. Хотя, судя по всему, из всех мужчин, которые прошли через её жизнь, самым главным можно смело называть именно Григория Александровича Потёмкина.
Классическая Анжелика была рода знатного.
Наша «Анжелика» происходила по одной из версий из самой простой семьи. Хотя нельзя исключить, что она могла быть и непростого роду-племени.
Классическую Анжелику не волновали интересы ни Франции, ни какого либо другого государства. Её занимали только её собственные чувства к Жофрею, и больше в жизни для неё ничего не имело никакого значения.
Наша «Анжелика» была совсем непроста. И тайны её до сего времени до конца не разгаданы.
Впрочем, как бы интересны эти тайны ни были, они лишь частично относятся к теме нашего повествования, а потом оставим их полную разгадку исследователям жизни этой необыкновенной женщины. А сами лишь кратко коснёмся наиболее достоверных моментов её биографии, которые понадобятся для повествования о её полностью так и не разгаданных отношениях с Потёмкиным.
В Википедии сказано:
«Существует две версии происхождения Софии. По версии самой Софии, она происходила из знатного рода Панталиса Маврокордато, который принадлежал к царской греческой семье, породнённой с византийскими императорами, и, якобы, являлась дочерью правнучки Панталиса и греческого магната Челиче.
Согласно версии папского интернунция в Константинополе поляка Кароля Боскамп-Лясопольского, София родилась в 1760 году 1 января (11 января по новому стилю) в турецком городе Бурса и была дочерью небогатого торговца скотом грека Константина...»
Впрочем, для темы нашего повествования это особого значение не имеет. Обратим внимание лишь вот на такую деталь…
Наша «Уманская Анжелика», по имени София, родилась в Греции, а закончила свою жизнь 24 ноября 1822 в Берлине.
Она сменила немало подданств, жила в разных странах, но по-настоящему родной стала для неё, как считают некоторые биографы, без влияния Потёмкина именно Россия.
Мало того, её сын, Иван (Ян) Витт, родившийся в 1781 году в Париже, ушёл из жизни 21 июня в 1840, в Крыму, в России. Всю свою жизнь он отдал военной службе в России. Мать записала его в лейб-гвардии Конный полк 17 сентября 1792 года корнетом, когда ему едва исполнилось 11лет. И дослужился до чина генерала от кавалерии. Причём служба его была особой – разведка! Его служба отмечена одиннадцатью высшими Российскими орденами и другими наградами.
Его часто называют сыном знаменитой авантюристки Софии Глявоне и польско-литовского генералаВитта. Впрочем, когда он родился в 1881 году, отец был ещё майором, а его самого назвали Яном. Впоследствии он стал Иваном уже в России. Любопытно, что, узнав о его рождении, поздравить примчался сам польский король Станислав Август Понятовский, весьма и весьма благоволивший к матери новорожденного. В честь рождения Яна он даже произвёл деда его в чин генерал-лейтенанта.
Но причём же здесь Потёмкин и его любовные приключения?
Вот тут и начинается самое интересное.
Ради того, чтобы описать очередное увлечение Светлейшего вряд ли стоило бы огород городить. Ну да, конечно, остальные его возлюбленные не были столь таинственны, хотя почти о каждой, известной нам, можно писать повесть.
Но здесь случай особый. Здесь стоит внимательно разобраться, кем стала для Потёмкина София Витт после того, как была представлена ему. Опять же существуют различные вариант этого самого представления.
Первый, причём наиболее загадочный, несмотря на кажущуюся простоту, таков.
Супруг Софии Йозеф Витт прибыл в Петербург на ловлю счастья и чинов, поскольку у себя в Польше чинов высоких так и не добился, да и знатностью рода не мог похвастать. В 1779 году он, 39-летний сын коменданта польской Каменецкой крепости был ещё в чине майора, когда встретил оказавшуюся в Каменец-Подольске проездом по пути из Константинополя в Варшаву необыкновенно красивую гречанку Софию. Она назвалась дамой знатного происхождения, Софией де Челиче и заявила Йозефу Витту, что едет к своему жениху в Варшаву. Юзеф настолько потерял голову, сделал Софии предложение и уже 14 июня 1779 года тайно от родителей обвенчался с ней.
Вскоре он понял, каково быть мужем такой красавицы. Они объехали всю Европу, и многие монархи склоняли головы перед красотой Софии. Вот тогда, очевидно, и задумал Витт сделать карьеру с помощью своей супруги. Тогда-то и отправился в Петербург. Ну а там его жену приметил Светлейший и тоже был ею очарован.
Но Светлейший был человеком действий. Он решил забрать красавицу себе. Далее в различных источниках приводятся формы «изъятия» Софии у её законного супруга. Тот, в воздаяние за изъятие у него законной супруги, становится генералом и комендантом Херсонской крепости.
Однако, сразу возникает вопрос, кто такой Витт, чтобы ехать в Петербург в надежде быть представленным самой Императрице Екатерине Второй? Конечно, можно предположить, что ходатайствовать за него мог перед Государыне польский король Станислав Августа Понятовский? Такое возможно, но о том нигде ни слова, а потому предположения наши вряд ли имеют право на жизнь.
Сомнения вызывают и такие факты, распространённые в ряде источников:
«В 1789 году София появляется под Очаковом в военном лагере главнокомандующего российской армии Григория Потёмкина, фаворита Екатерины II. Царица к тому времени уже охладела к князю Таврическому и прекрасная фанариотка пришлась малороссийскому наместнику по душе».
Тут всё написано совершенно наобум. В лагере под Очаковом Потёмкин находился в 1788 году. 6 декабря Очаков был взят блистательным штурмом, а в 1789 году армия Потёмкина вела наступательные действия на Аккерман и Бендеры. Обе крепости пали без выстрела, как тогда говорили, «Потёмкин взял Бендеры ударом кулака по столу».
А вот то, что знакомством Потёмкина с Софий Витт произошло во время путешествия Императрицы Екатерины Второй по Новороссии и Крыму, более похоже на правду. Тем более, и представить Императрице красавицу вполне мог при встрече в Каневе сам Станислав Август Понятовский.
Во время путешествия Императрица Екатерина Великая встретилась с польским королём в Каневе потому, что в самом путешествии он принять участия не мог – польские законы не позволяли ему покидать границ королевства. Императрица Екатерина сама вынуждена была пересечь границу Польши со всей своей великолепной флотилией.
Николай Дмитриевич Шильдер, представляя «Воспоминания князя Станислава Понятовского», писал:
«Первая встреча Императрицы с королём произошла в присутствии весьма немногих свидетелей. Понятовский объясняет это тем обстоятельством, что оба они были так далеки от молодости, в которой знали друг друга, что могли бы испытывать неловкость, встретившись при многочисленном обществе. Зато обед, последовавший за свиданием, отличался многолюдством и сопровождался музыкою и пением. Когда король собрался уезжать и искал глазами свою шляпу, императрица заметила это и подала ему ее.
– Однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь, – находчиво ответил ей король.
Как при прибытии, так и при отъезде короля, был произведён пушечный салют со всех пятидесяти судов, составлявших сопровождавшую императрицу флотилию. Между прочим Понятовский рассказывает, что поездка короля в Канев способствовала усилению в Польше симпатий к Пруссии. Так как Россия предполагала заключить на ближайшем сейме оборонительный и наступательный союз с Польшей, то противившаяся этому партия встречала со стороны короля холодный приём и, оскорбленная, обратилась к Пруссии, которой сделала подобное же предложение, обставив его разными слишком рискованными обещаниями, побудившими Пруссию принять его».
Это, казалось бы, не относящееся к теме повествования замечание о реакции сейма на встречу Понятовского с Императрицей, вскоре понадобится для пояснения событий, непосредственно относящихся к драмам и приключениям любовного характера, но касающихся и Понятовского и Императрицы лишь косвенно.
А. Вейдемейер в книге: «Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII столетия» так описал встречу Императрицы Екатерины с Понятовским в 1787 году во время знаменитого её путешествия по Новороссии и Крыму:
«25 апреля Государыня приехала к польскому местечку Каневу; на польском берегу производилась пушечная стрельба, и с наших галер отвечали девятью выстрелами. Того же дня король прибыл на галеру «Днепр» с посланными за ним на собственной шлюпке Императрицы гофмейстером Александром Андреевичем Безбородко и гофмаршалом князем Фёдором Сергеевичем Борятинским.
Станислав, не видевший Екатерину 23 года, по прибытии своём имел непродолжительный разговор наедине, после чего они переехали к обеденному столу на галеру «Десну»: к обеду были приглашены польские вельможи, сопровождавшие короля, и между ними польский при русском дворе министр де-Боли.
Разговор был чрезвычайно весёлый. Современники описывают, что после обеда, когда король искал свою шляпу, Императрица приметила её прежде него и подала.
– В другой раз, – сказал он, – по беспредельной благости покрываете мою голову.
Станислав после обеда имел отдохновение на галере «Буг». В это время Екатерина прислала ему звезду и орден Святого Апостола Андрея Первозванного, бриллиантами украшенные.
После обеда Государыня с королём были восприемниками при крещении сына генерал-майора графа Тарновского. Вечер проведён был на галере «Днепр». В тот же день король возвратился восвояси при пушечной пальбе с галер».
Павел Сумароков в книге «Обозрение царствования и свойств Екатерины Великой» приводит слова принца де Линя:
«Король пожертвовал тремя месяцами времени, и тремя миллионами злотых, чтобы увидеться с Императрицей на три часа».
Описывает он и фейерверки, устроенные Понятовским в честь Екатерины Великой:
«…наступила ночь, вся гора на польской стороне, от вершины до её подошвы казалась в пламени, на ней стоял огромный вензель Екатерины, представлялся вулкан, и сто тысяч ракет соединялись в прекраснейший павильон…»
На другой день, 26 апреля, Императрица отправилась далее к Кременчугу».
В Википедии так говорится о знакомстве Софии Витт с Императрицей:
«По одной из них знакомство состоялось в 1787 году, когда София Витт в составе свиты короля Понятовского была представлена российской императрице Екатерине II, во время монаршего путешествия в Крым».
По просьбе Потёмкина, царица приняла её очень ласково и подарила драгоценные бриллиантовые сережки, а в придачу, вероятно, и имение в Белоруссии. На обратном пути Потёмкин виделся на Украине с командующим польской армии Юзефом Понятовским, через которого София передала привет королю. В ответ король написал своему племяннику: «Когда будешь иметь возможность, передай Виттовой, что я безгранично благодарен ей за все то, что она тебе сказала в мой адрес и что я всегда рассчитываю на её приязнь ко мне».
Попробуем разгадать этот ребус. Скорее всего, представлял-то всё-таки Софию Витт Понятовский в Каневе. Напутано много, но информация явно не вымышленная, а просто собранная в кучу кое-как без учёта текущих событий того времени. А что касается бриллиантов и деревень, то они просто так не даются, хотя есть данные, что таковые дарованы всё-таки были.
И тут, просматривая самые различные информации и публикации, я наткнулся на такой странный факт…
Вот что отмечено в Википедии: «Знакомство (с Потёмкиным) состоялось зимой 1787-88 гг., когда, по слухам, София ездила в Петербург, чтобы отчитаться перед Императрицей о выполнении какого-то задания».
Ну что ж, на встрече в Каневе Потёмкин не присутствовал. Он ждал Императрицу в управляемых им краях. Но что за задание могла получить от Российской Императрицы супруга польского коменданта?
Документов по этому поводу никаких нет. И вряд ли они могут быть, ибо, судя отрывочным данным о грядущих деяниях Софии, она вполне могла выполнять задания разведывательного характера. Иначе как объяснить такую её поездку, описанную в Википедии:
«В 1787 году София в компании польских магнатов посетила Константинополь. Среди туристов была и дочь короля, жена коронного маршала Урсула Мнишек. Софию в Константинополе встречали как царицу, греческие аристократы желали лично приветствовать успешную соотечественницу. Знаки внимания, оказываемые Софии, начали раздражать её спутников, особенно раздражалась Урсула Мнишек. Спутники Софии далее путешествовали уже без неё; вероятно, что в Константинополе им стали известны некоторые подробности её молодости. После этой поездки Софию в Варшаве ждал гораздо более прохладный приём».
Есть над чем подумать…
Известно, что Понятовский прибыл в Канев для встречи с Императрицей Екатериной в сопровождении большой свиты. София Витт была в этой свите. Ведь её сын вполне мог быть сыном Понятовского, причём такую информация по ряду причин – непрочное положение на престоле – разглашать не стоило. Значит, проявлять заботу о сыне целесообразнее всего было через его мать. Понятовский, наверняка знал о Софии Витт гораздо больше, чем все её биографы вместе взятые. А потому он мог не просто представить красавицу гречанку, а рекомендовать её Императрице как женщину незаурядную, способную выполнять незаурядные задания.
Какими же могли быть эти задания?
Вспомним грандиозный Греческий проект, который родился у светлейшего князя Потёмкина и Императрицы Екатерины.
О возвращении Царьграда в лоно Православной Церкви Русские Государи думали давно.
Биограф Потёмкина А.Г. Брикнер писал:
«Уже в семидесятые годы (XVIII века – Н.Ш.) Екатерина с Потёмкиным были заняты так называемым «Греческим проектом», виновником которого считался князь… Потёмкин «заразил» Императрицу своими идеями об учреждении новой Византийской империи».
Суть этого проекта изложена в письме Екатерины Великой к австрийскому императору Иосифу Второму. Письмо датировано 10 сентября 1782 года. В нём значилось:
«Между тремя монархиями должно быть навсегда независимое государство. Это государство, в древности известное под именем Дакии, может быть образовано из провинций Молдавии, Валахии и Бесарабии под скипетром Государя, религии Греческой… Я твёрдо уверена, что, если наши успехи в этой войне (имелась в виду русско-турецкая война 1787-1791 гг. – Н.Ш.) дадут нам возможность избавить Европу от врага имени христианского изгнанием его из Константинополя, то, Ваше Величество, не откажетесь содействовать восстановлению монархии Греческой, под непременным условием с Моей стороны сохранять эту возобновлённую Монархию в полной независимости от Моей, и возвести на её престол младшего внука Моего, Великого Князя Константина, который даст обязательство не иметь претензий на Престол Российский, ибо две эти короны не должны быть соединены на одной главе».
Ещё в 1779 году Императрица назвала второго своего внука Константином. Буквально на второй день после его рождения она писала своему европейскому корреспонденту барону Гримму:
«Этот нежнее старшего, и едва на него пахнёт холодным воздухом, прячет носик в пелёнки; он любит тепло… ну, да мы знаем с вами то, что мы знаем!..»
В кормилицы Великому Князю определили гречанку по имени Елена. В 1781 году, по инициативе Потёмкина, была выбита медаль, на которой «маленький Константин был изображён вместе с тремя христианскими добродетелями на берегу Босфора, причём: Надежда указывала ему на звезду с Востока, а Вера хотела, по-видимому, вести к храму Святой Софии».
С ранних лет Константина, наряду с древнегреческим, обучали и новогреческому языку.
Но что же влекло Русскую Государыню и выдающегося её сподвижника в Константинополь? Протоиерей Сергей Булгаков в книге «У входа в Царьград» так охарактеризовал это священное место:
«Здесь ключ к мировой истории, здесь Иустиниан, здесь Константин Великий, здесь: Иоанн Златоуст, Фотий, Византия, и её падение, здесь узел политических судеб мира, и доныне не распутанный, а ещё сильнее затянутый».
И далее:
«София есть Храм Вселенский и абсолютный, она принадлежит Вселенской Церкви и Вселенскому человечеству, и она принадлежит Вселенскому будущему Церкви».
Генерал-фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, безусловно, понимал значение Константинополя, но знал он и о пророчествах, касающихся этого города, весьма распространённых в Турции, а особенно в Греции.
Русский посол в Константинополе В.Я. Булгаков в 1783 году писал князю:
«Есть здесь старинная книга, содержащая пророчества о жребии Турецкой империи, называемая Агафангелос. В течение прошедшей войны великой (русско-турецкая война 1768 – 1774 годов – Н.Ш.) она между греками наделала шум. Порта употребила все способы к искоренению её, и под суровою казнью запретила подданным своим иметь её и говорить о ней, так что, несмотря на мои старания, ныне не мог я достать печатного экземпляра, а достал только, да и то с трудом, список. Писана она, сказывают, таким таинственным слогом, что здесь нет человека, который бы мог её перевести, и самые учёные в Фанаре греки ответствовали мне, что один только преосвященный Евгений в состоянии её разуметь и на другой язык переложить… Может быть, действительно достоин он быть прочтён… Ежели угодно будет Вашей светлости приказать оный список перевести, то осмелюсь всепокорнейше просить пожаловать приказать доставить мне копию; ибо я только по словесному некоторых мест переводу содержание сей, по здешнему мнению, бесценной, книги знаю».
Книга, действительно, заслуживала всяческого внимания, ибо Потёмкин, как гениальный политик, считал необходимым учитывать в своей деятельности не только реалии современности, но и знания прошлого, а также и то, что предрекают духовные отцы, старцы и восточные мудрецы.
Потёмкину удалось найти специалистов, сумевших сделать перевод. Обратимся к некоторым, наиболее интересным выдержкам из этой книги. В разделе «Видение Иеронима» указывается:
«Константин нашёл, и Константин потерял Византийское государство, сын человеческий, считай от 1-го Константина до 12-го колена одних же имён и найдёшь счёт, в котором будет сие приключаться. Бог решился и, определённое Вышнею властью, необходимо исполнить. Совершится же на 452 и 453 году, в котором попадётся высокое государство в руки турецкие, домы будут разорены, священные храмы осквернятся, и верующие изгнаны будут до 800 лет неотлагаемо, и чтоб о сём Божеском правосудии узнал народ и разумел тягость Всемогущей Его руки, покаялся б и прибег к нему, и тогда будет благопринят. Но, сын человеческий, не бойся, возвратись снова в его святость, будешь славнее прежнего, и будешь иметь под своею властью паки новые неиссчётные народы и более прежнего; и как израильтянский народ был послушен Навуходоносору, так будет и сей народ подчинён нечестивым туркам до определённого времени и будет в плену под плугом (игом?) почти до четырехсот лет…».
Далее значилось: «Родится царская фамилия, из которой будет один великий Государь и один из монахов с новою книгою и тростью сопряжённый. Государь саксонский не смел его победить, и тот монах будет препровождён бесчисленным народом и победит города в Роме, установит законы и догматы над государями без сопротивления ему…»
В XVIII веке пророчествам верили многие. Потёмкин всегда живо интересовался подобными вещами, у него за столом, зачастую, собирались представители разных, разумеется, традиционных для России вероисповеданий, и он с удовольствием участвовал в их разговорах.
В списке книги, присланной русским послом в Константинополе, было много такого, что он стремился использовать в своей политике. И, конечно, он учитывал те пророчества, которые были открыты в результате перевода книги, тем более, что верования подобные распространились по всей Турции, причём не только у простолюдинов. Они стали известны и в высших слоях общества. Ему докладывали, что «столичные Турки из преимущественной любви к Азии, колыбели их религии и нации, предпочитают хорониться на Азиатском берегу. Но более побудительная причина любви Турок погребаться в Азии заключается в следующем: у Турок существует много предсказаний о долженствующем быть падении Оттоманской империи, особливо же распространены между ними предсказания султана Солимана и арабского астронома Муста-Эддина, что всем царством овладеет народ Северный. Они верят этим предсказаниям и считают временным своё пребывание в Европе; ибо неизбежно должно наступить то время, когда Христиане, русые победители возьмут во власть свою Стамбул, и изгонят их в Азию. Для того-то все сколько-нибудь зажиточные магометане стараются хоронить своих родных на Азиатском берегу, дабы могилы “правоверных” не были попираемы стонами “неверных”, когда они, по воле Аллаха, снова возьмут Константинополь».
Не случайно Потёмкин стал инициатором грандиозного «Греческого проекта» и не случайно этот проект столько горячо поддержала Государыня, которая готова была идти и ещё далее, во имя спасения страждущего человечества от неверия и ересей. Порвав в конце своего правления с показавшими своё истинное лицо во время Французской революции «моралистами» она, по свидетельству Гавриила Романовича Державина, говаривала:
«Еже ли бы я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена была бы Российскому скипетру. Я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы».
Греческий проект занимал её особенно. Причём она имела определённые планы, да только осуществить их не удалось по ряду причин, одной из которых, наиважнейшей, было то, что в 1791 году ушёл из жизни её супруг, её сподвижник и соправитель Светлейший Князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический. Тем не менее, Екатерина готовила освобождение Константинополя. План её был таков. В 1796 году она направила генерала Валериана Зубова с 20-ти тысячным войском в Персидский поход. Зубов должен был пройти через Персию, Анатолию и атаковать Константинополь с азиатской стороны. Суворову поручалось возглавить специально сформированную армию, выступить в поход в Европу, разбить Наполеона, о котором он говаривал, что широко, мол, шагает мальчик, пора бы уж остановить, затем, преодолев Балканы, ударить на Константинополь одновременно с Зубовым. Сама же Екатерина собиралась прибыть на Черноморский флот и вместе с адмиралом Фёдором Фёдоровичем Ушаковым, которого называли «Суворовым на море», штурмовать город с моря.
Это подтверждает Г.Р. Державин:
«Императрица же сама лично на флоте имела намерение осадить сей город, и сей план должен был начаться в будущий 1797 год, к чему уже Суворов и приуготовился, но Провидение, имея Свои планы, не допустило сему свершиться».
Таким образом, вполне можно предположить, что после того, как София Витт была представлена Императрице Екатерине Второй, у неё началась и ещё одна – тайная жизнь. Ведь проскальзывают сообщения и о поездке в Константинополь, причём с совершенно непонятными целями, и о её появление в лагере Русской армии, осаждавшей Очаков.
Не сама ли Императрица Екатерина рекомендовала Светлейшему эту необыкновенную даму, умевшую в мгновение сражать и монархов, и послов, и генералов, и любых чиновников.
Потёмкин забрал с собой в лагерь Софию, а мужа её сделал комендантом Херсонского гарнизона. С какой-то стати? Ну да, конечно, муж вполне мог считать, что и должность эта, и генеральский чин даны ему за использование его жены в определённых и наиболее ласкающих слух сплетников целей.
Но ведь у Потёмкина в лагере под Очаковом уже была возлюбленная Прасковья Андреевна Потёмкина. Возлюбленная по мнению многих биографов, которым в такое вот как-то больше верится. Ну и дай-то Бог. Теперь вот новая возлюбленная появилась, а то и обе они оказались в лагере под Очаковом одновременно – сведений точных нет. Одна башмачки из Парижа ожидала перед всем лагерем, другая зачем-то в Константинополь каталась, а потом награды от Императрицы получила. За что они даны, не сказано. Вряд ли Екатерина Вторая стала бы награждать гречанку за неотразимую внешность.
Интересен и ещё один факт. Своё путешествие из Константинополя в Варшаву, прерванное в Каменец-Подольске, София совершала не одна, а с родной сестрой, которая была старше неё примерно на два года и так же необыкновенно красива. Софии удалось выйти замуж за майора Витта, а её сестре – за турецкого пашу, который вскоре стал комендантом турецкой крепости Хотин.
Во многих публикациях повторяется примерно одно и тоже – София, покинув лагерь под Очаковом, отправилась в гости к сестре. Причём, называются как 1788, так и 1789 годы. Причём даётся информация, ни к селу, ни к городу.
Вот эта информация о Софии Витт:
«Прелестница оказывалась при командующем русским войском Салтыкове, под Хотином, и пушки молчали лишних три дня, приводя в негодование Потёмкина. Сестры встретились. Подруга Салтыкова Софья де Витт и супруга турецкого паши приостановили сражение, задержали «викторию» русских. И даже Потёмкин унял свой гнев, когда от Салтыкова прибыл к нему в лагерь прекрасный посол…»
И снова в разных источниках проскакивает какая-то странная информация. Во-первых, если София была возлюбленной Потёмкина, причём здесь Салтыков? Авторы заимствуют её друг у друга, слабо представляя, о чём пишут. В то же время именно такие нелепые информации и помогают нащупать тоненькую ниточку для раскрутки событий.
Если взять 1788 год то получается, что Потёмкин действительно находился в лагере под Очаковом, а Хотин был в руках турок.
В Большой биографической энциклопедии говорится:
«Граф Салтыков исправлял должность наместника по 1788 год: возобновившаяся война с Турцией призвала его снова на бранное поле. Он увенчал себя занятием крепости Хотина (8 сентября), которая, после тесного облежания, сдалась ему и принцу Саксен-Кобургскому, командовавшему союзными австрийскими войсками, на следующих условиях: двухтысячный турецкий гарнизон и все жители магометанского исповедания, числом обоего пола до шестнадцати тысяч человек, получили позволение выйти из крепости; 153 пушки разного калибра, 14 мортир и множество других оружий и военных припасов достались победителям. За этот подвиг граф Салтыков получил орден Св. Владимира первой степени».
Крепость капитулировала перед русскими войсками 8 сентября 1788 года.
Вот исторические данные…
«Осада Хотина – эпизод русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов…
В мае 1788 года австрийский корпус принца Кобургского, разбив турок при Батушане, Рогатине и Бойана-Лоси, подошёл к Хотину и приступил к осаде крепости.
В июле 1788 года российская Украинская армия Румянцева перешла Днестр возле Хотина, Могилёва и Кислицы. Корпус Салтыкова был оставлен под Хотином, а главные силы двинулись через Бельцы к Яссам.
Турецкие войска сделали попытку прорваться через Яссы для деблокады Хотина, но были отбиты. После этого они в августе 1788 года сосредоточились в районе Рябой Могилы. Румянцев принял решение манёвром заставить турецкие войска принять бой, однако турки, не приняв боя, отошли к Фокшанам. Отход деблокирующих турецких войск на юг привёл к капитуляции крепости Хотин в сентябре 1788 года».
То есть, сын знаменитого победителя Фридриха Петра Семёновича Салтыкова Иван Петрович Салтыков, командовавший войсками, действовавшими против Хотина, подчинялся непосредственно не Светлейшему князю Потёмкину, Главнокомандующим Екатеринославской армией, а Петру Александровичу Румянцеву, командовавшему Украинской армией, действовавшей против Хотина.
Разумеется, Потёмкин, как Президент военной коллегии, был ответствен за весь театр военных действий, но он никогда не вмешивался в боевую деятельность своего учителя Петра Александровича Румянцева и заявления о том, что он гневался по поводу молчавших под Хотином пушек, бессмысленны.
Осадой Хотина занимались войска Украинской армии Румянцева!.
«Пушки молчали три дня…», «Пушки молчали лишние три дня!» – всё это переписано из одного источника в другой.
Официально Хотин пал в результате осады. Но Очаков то стоял. Да и вообще до штурма Очакова крепости турецкие без штурма предпочитали не сдаваться.
А вот помочь своему боевому учителю и другу Потёмкин вполне мог. Мог направить к Румянцеву, а от него в Хотин к родной сестре Софию Витт с предложениями о сдаче крепости. С Софией в крепость ездил австрийский военный агент в России принц Шарль-Жозеф де Линь, который никогда на русской службе не был, как ошибочно заявляют некоторые авторы информашек о Софии Витт.
Эта поездка Софии могла быть из Очакова в 1788 году, где, кстати, при главнокомандующем Потёмкине постоянно находился принц де-Линь.
В 1789 году русская армия ушла от взятой штурмом Очаковской крепости. Да и Хотин был в наших руках.
Ну а то, что София Витт могла способствовать принятию решения коменданта о сдаче крепости, вполне вероятно.
Но какие же отношения связывали Потёмкина с Софией Витт? Мы знаем, что Григорий Александрович был кумиром женщин, что даже Гавриил Романович Державин, как уже упоминалось, отметил: «Многие почитавшие Потемкина женщины носили в медальонах его портреты на грудных цепочках». Так вот биографы утверждают, что София тяжело пережила кончину князя и носила такой медальон с его изображением до своего последнего часа, хотя были у неё и в дальнейшем увлечения, хотя она выходила замуж, рождала детей…
Некоторые биографы считают, что любовь к России, причём искренняя любовь, принятие России как своей Родины, пришли к ней во многом благодаря этому её страстному увлечению – увлечению, судя по всему, самому сильному в её такой непростой, запутанной, полной невероятных приключений жизни.
Ну а что же Потёмкин? Была ли любовь сего стороны? Много увлечений приписывается ему, очень много. Но всегда отношения, которые казались увлечениями, были таковыми.
Потёмкин умел подчинить делу всё то, что случалось с ним, всё то, что волновало и тревожило его, всё то, что радовало и вдохновляло.
София чем-то очень сильно привлекла его. Но только ли своей внешностью, только ли эрудицией и воспитанием, что постоянно демонстрировала, то ли учёностью – ведь она прекрасно говорила на пяти языках – русском, греческом, французском, турецком и польским.
Много фактов говорит о том, что она была прирождённой разведчицей. Она умела вести разговоры с важными людьми так, что они, забывая обо всём, выбалтывали важные государственные секреты, сами не замечая, как и обманутые впечатлением, что ведут простую беседу с весьма простой и далёкой от политики собеседницей.
Потёмкин был гениальным политиком, гениальным полководцем, гениальным дипломатом. Он умел, когда нужно, создать о себе впечатление, которое расхолаживало как партнёров, так и врагов. В делах тайных они с Софией нашли друг друга. Вряд ли когда-то удастся узнать всё, что им удалось сделать во имя России, но то, что София оказала немалые услуги Государыне при решение множества вопросов, касающихся раздела Польши, хорошо известно. И совершенно не случайно следующим жизненным шагом этой загадочной женщины было новое замужество, с далеко идущими политическими целями. Не исключено, что Потёмкин просто создал видимость того, что София была его возлюбленной. Так было легче сотрудничать с нею и поручать ей секретные задания государственной важности.
София коротко сошлась с польским графом Станиславом Потоцким, который под её влиянием сделал всё необходимое, чтобы Польша примкнула к Торговой конфедерации, значительные услуги России оказала прекрасная гречанка и в решении вопросов раздела Польши. Существует версия, что Йозеф Витт «уступил» Софию графу Потоцкому за солидное вознаграждение и она, после того как Потоцкий овдовел, стала его законной супругой.
Поселились Станислав Потоцкий с его новой женой в Умани. Там был основан и поныне знаменитый парк «Софиевка». Потоцкий создал его в подарок супруге на день её именин.
С 1795 года Умань находилась в составе Российской Империи.
Станислав Потоцкий умер в 1805 году, и София сошлась с его сыном Юрием Потоцким, который оказался кутилой и промотал всё своё состояние. Тогда София поставила условие – она оплачивает его долги, а он покидает Россию. Но оставались ещё и другие дети самого Потоцкого и трое совместных детей Софии с Потоцким. С помощью знаменитого Сперанского Софии удалось добиться равной доли с детьми Потоцкого при разделе имения.
Всего же у Софии было шесть детей – два сына от Витта и три сына и дочь от Потоцкого.
Нельзя не обратить внимания и на такую информацию, помещённую в Википедии:
С 1810 года Софья Потоцкая вступает в последний период своей жизни и «нравственно хорошеет». Она всё более озабочена искуплением грехов, благотворительной деятельностью, воспитанием детей. Бурная жизнь, полная увлечений и приключений, отходит в прошлое. София становится под старость добродетельной «матроной», старается забыть прежнюю жизнь и сохраняет преданную память только Потёмкину, которого до конца «жалела, как родного брата».
«Жалела как родного брата»? Это ещё одно подтверждение, что далеко не всегда и далеко не всех женщин, окружавших Потёмкина, можно называть его любовницами. Я вовсе не стою на позициях превращения героев, которых описываю, в каких-то аскетов, чурающихся прекрасного пола. Более того, такая позиция мне вовсе не по душе. Тут лучше бы придерживаться отношения к этому деликатному вопросу, которое озвучено Львом Николаевичем Толстым: «Не буду искать, но не буду и упускать».
Ну а в романе «Анна Каренина» он выразил отношение своё к увлечениям представительницами прекрасного пола словами Стивы (Степана) Облонского, старшего брата Анны Карениной:
«Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал её. А тут вдруг подвернётся любовь, и ты пропал, пропал!»
Более того, мои произведения зачастую подвергаются критики со стороны аскетично настроенных читателей за, якобы, имеющуюся в них «романтизацию измен», ну и слишком откровенное описание некоторых эпизодов. Но… Всему есть предел. Если уж так хочется описывать необыкновенную влюбчивость своего героя, презрение с его стороны некоторых моральных норм, как соблазнение, к примеру, племянниц, ну так и писали бы рассказы, повести художественные. Не трогали бы реальных людей, тем более наших великих предков, сделавших для России неизмеримо больше, нежели сладострастные их клеветники. Но так ведь кто читать-то будет, ежели какой-то косноязычный выдумщик предложит читателю косноязычные перлы о любви, описанные кондовым «павленковским языком остепенённого докторским званим счётчика фаворитов великой Государыни». Я имею в виду доктора исторических наук Н.Н. Павленко, сверх всякой меры оболгавшего в книге серии ЖЗЛ «Екатерины Великая» и саму Государыню и её супруга и соправителя Потёмкина. Так ведь никто читать не будет. Значит нужно что? Нужно примазаться к великим, облить и грязью, ну и сорвать хоть какой-то куш на своих сладострастных выдумках.
И потому в одной из будущих книг мне хотелось бы хотя бы в общих чертах коснуться сплетен о том, что Потёмкин, якобы, соблазнил всех без исключения своих племянниц. Соблазнял и замуж выдавал, соблазнял и замуж выдавал. Ну а женихи-то, женихи за счастье почитали жениться на обесчещенных дядюшкою девицах. Почему-то вот с этой стороны сплетни никто не рассматривал. А ведь нравы в России в ту пору и отношения к девственности невесты были гораздо более строгими.
Александр Николаевич Самойлов в своих записках, размышляя о влюбчивости Потёмкина, ставит вопрос: «Да кто же из великих людей не подвержен был сей страсти?»
И отмечает:
«Но склонности князя Потёмкина к прекрасному полу были самые благородные, не соблазнительные, не производящие разврата: есть ли он иногда имел сокровенные связи, то не обнаруживал оных явно; не тщеславился, подобно многим знаменитым людям, своими метрессами и не заставлял чрез них искать у себя защиты и покровительства».
Мы уже разобрались с одним источником сплетен. Семён Романович Воронцов женился на возлюбленной Потёмкина Екатерине Сенявиной. Но так о нём и сказано было князем Долгоруким, что он заискивал перед сильными мира сего ради чинов. Но не все же, далеко не все в России были такими. Иначе бы не поднялась Россия на необыкновенную высоту, иначе бы не славилась славными героями, готовыми жизнь отдать за Родину.
Коснёмся одного двух фактов из биографии Светлейшего и его племянниц, поскольку для того, чтобы коснуться всех, потребуется целая книга «Сёстры и племянницы Светлейшего князя Потёмкина-Таврического в супружестве, любви и любовных приключениях», над которой я, кстати, и работаю, чтобы в дальнейшем пополнить ею серию….
«Марс своей жертвы ждёт…»
«Бранным шлемом покровенный Марс своей пусть жертвы ждёт…»
Её называли "Последней любовью Светлейшего Князя Потёмкина". Она оставила заметный след и в поэзии, и в музыке...
Екатерина Алексеевна Сенявина, ставшая графиней Воронцовой, ушла сначала из жизни Потёмкина, а затем отправилась в мир иной. Снова одиночество, которое скрашивалось встречами с представительницами прекрасного пола – не могло не скрашиваться, ведь Григорий Александрович, как уже не раз упоминалось, был кумиром женщин.
Конечно, были у него увлечения, да только, конечно же, не обо всех известно. Чаще за таковые увлечения выдавались отношения, основанные на совершенно иной почве.
Но вот граф Людовик Филипп де Сегюр, состоявший посланником при дворе Екатерины Второй в 1785-1789 годах и оставивший записки, повествовал как раз об одном сильном увлечении Потёмкина, свидетелем которого ему довелось стать.
Граф понимал, в чём причина бесперспективности этого увлечения. Оттого упоминание проникнуто грустью.
В те годы, которые описывает граф де Сегюр, Григорий Александрович, приезжая в Петербург, часто бывал в доме обер-шталмейстера Льва Михайловича Нарышкина. Вот он вспоминал об этом:
«В Петербурге был тогда дом, непохожий на все прочие: это был дом обер-шталмейстера Нарышкина, человека богатого, с именем, прославленного родством с царским домом. Он был довольно умён, очень веселого характера, необыкновенно радушен и чрезвычайно странен.
Он и не пользовался доверием Императрицы, но был у неё в большой милости. Ей казались забавными его шалости, шутки и его рассеянная жизнь. Он никому не мешал, оттого ему всё прощалось, и он мог делать и говорить многое, что иным не прошло бы даром…»
И не удивительно, ведь в отцы наследника престола Императрицей Елизаветой Петровной были выбраны Сергей Салтыков и Лев Нарышкин. Оба, тогда ещё молодых человека, активно ухаживали на великой княгиней, ну а выбор предстояло сделать ей самой.
Екатерина Алексеевна в своих Записках.. рассказала:
«…Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала:
– Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьёзно.
Я, понятно, вся обратилась в слух; она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу, о своём благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения или отягощения уз супруга или супруги, а затем свернула на заявление, что бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила.
Я дала ей высказать всё, что она хотела, не прерывая, и вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумлённая, и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно. Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала:
– Вы увидите, как я люблю своё Отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: представляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то последний.
На что я воскликнула:
– Нет, нет, отнюдь нет.
Тогда она мне сказала:
– Ну, если это не он, так другой, наверно.
На это я не возразила ни слова, и она продолжала:
–Вы увидите, что помехой вам буду не я.
Я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после пасхи».
По поведению Чоглоковой Екатерина не могла не понять, что всё идёт от Императрицы, и что кандидаты в отцы наследника уже обсуждены, но выбор оставался за нею самой…
Но и это ещё не всё. После удаления из столицы Сергея Салтыкова Лев Нарышкин поддерживал дружеские отношения с великой княгиней.
9 декабря 1758 года Екатерина родила дочь. Вот как рассказала об этом в своих записках она сама:
«… Я разрешилась 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью, которой я просила Императрицу разрешить дать её имя; но она решила, что она будет носить имя старшей сестры Её Императорского Величества, герцогини Голштинской, Анны Петровны, матери Великого Князя».
В «Записках…» упомянуто о реакции на это со стороны Петра Федоровича:
«Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берёт свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребёнок и должен ли я его принять на свой счёт». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо в пылу. Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору Империи».
Лев Нарышкин пошёл действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал от него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к чёрту и не говорите мне больше об этом».
Некоторые историки пытались на свой лад трактовать сказанное и даже делали вывод, что родившаяся девочка была дочерью Понятовского. Но Екатерина Алексеевна не дала и намёка на то в данном случае, в отличии оттого, что говорила она весьма прозрачно относительно рождения Павла. А, следовательно, и историк не вправе делать свои умозаключения.
Единственно, что подчеркнула Великая Княгиня, так это явно безнравственное заявление Великого Князя. Так и читается в его адрес сквозь строки: «Коли не можешь быть мужчиной, так молчи».
Вольтер в своё время сказал, что тайна кабинета, стола и постели Императора (добавим – членов императорской фамилии) не может быть разоблачаема иностранцем (добавим, что и никем другим тоже). Поэтому оставим гадания по поводу тех случаев, когда сама Екатерина Алексеевна не считала нужным открывать тайну.
После рождения Анны Екатерина оказалась в том же положении, что и после рождения Павла. Ей выдали в награду шестьдесят тысяч рублей и опять забыли о ней. Она вспоминала, что «была в моей постели одна-одинёшенька, и не было ни единой души со мной…».
Посещала же Великую Княгиню по её словам «обычная маленькая компания, которую составляли как прежде, Нарышкина, Сенявина, Измайлова и граф Понятовский…».
В «Чистосердечной исповеди» Екатерина признаётся, что поначалу она «отнюдь не приметила» Понятовского, «но добрые люди заставили пустыми подозрениями догадаться, что он на свете, что глаза его были отменной красоты, и что он их обращал, хотя так близорук, что далее носа не видит, чаще на одну сторону, нежели на другие».
Видный исследователь екатерининской эпохи Вячеслав Сергеевич Лопатин указывает, что «прекрасно образованный и воспитанный Понятовский был близок Екатерине по своему интеллекту. Он разделял её интересы и вкусы. Обожая великую княгиню, граф Станислав Август с уважением относился к её высокому положению. Единственный из возлюбленных Екатерины Понятовский запечатлел её портрет:
«Ей было 25 лет. Она только что оправилась от первых родов, когда красота, данная её натурой, расцвела пышным светом. У неё были чёрные волосы, изумительная фигура и цвет кожи, большие выразительные голубые глаза, длинные, тёмные ресницы, чётко очерченный нос, чувственный рот, прекрасные руки и плечи. Стройная, скорее высокая, чем низкая, она двигалась быстро, но с большим достоинствам. У неё был приятный голос и весёлый заразительный смех. Она легко переходила от простых тем к самым сложным».
Комментируя этот отзыв, В.С. Лопатин пишет:
«Возможно, Понятовский преувеличивал красоту Екатерины как женщины, но современники единодушно отмечали её обаяние»
Да, выбор пал не на Льва Нарышкина, а на его соперника (назначенного в соперники Императрицей Елизаветой Петровной) граф камергера Сергея Васильевича Салтыкова.
Но так что ж. Хорошие, дружеские отношения сохранились. Добрый по натуре своей, Нарышкин, не мог не сочувствовать великой княгине, брошенной всеми и забытой. А тут появился Станислав Понятовский. Скорее всего, Лев Нарышкин не подозревал о том, что появился тот не случайно, что постарался поляк завести дружбу с ним по заданию английского посла, искавшего выход на великую княгиню. Ведь в дипломатии важно учитывать все детали. Никто не исключал, что в будущем великая княгиня Екатерина будет играть большую роль в российской политике, что она либо станет регентшей при Императоре Павле, либо… сама – Императрицей. Уж как сложатся обстоятельства.
Задание заданием, но нельзя исключить, что любовь Понятовского к Екатерине была вполне искренней. Недаром он признался позднее, что в любви своей «позабыл о том, что существует Сибирь»…
Знакомство состоялось. Рискованное знакомство. А затем началась переписка. Екатерина получала письма, якобы от секретаря Льва Нарышкина. Она вспоминала:
«Он просил у меня в этих письмах то варенья, то других подобных пустяков, а потом забавно благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень остроумные… А вскоре я узнала, что роль секретаря играл Понятовский».
В «Записках…» Императрица рассказала:
«Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше… В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покои… и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила, мы вышли через маленькую переднюю и сели в его карету никем не замеченные, смеясь как сумасшедшие над нашей проделкой. Мы приехали в дом и нашли там Понятовского…»
Тайну знакомства хранил Лев Нарышкин, а вот маленькая болонка Екатерины выдала её, хотя и выдала лицу не опасному.
Однажды малый двор посетил шведский посланник граф Горн. Сопровождал его Понятовский.
Екатерина так описала случившееся:
«Когда мы пришли в мой кабинет, моя маленькая болонка прибежала к нам навстречу и стала сильно лаять на графа Горна, но когда она увидела графа Понятовского, то я подумала, что она сойдёт с ума от радости… Потом Горн дернул графа Понятовского за рукав и сказал: «Друг мой, нет ничего более предательского, чем маленькая болонка. Первая вещь, которую я дарил своей любовнице, была собачка, и через неё-то я всегда узнавал, пользуется ли у неё кто-то большим расположением, чем я».
Но вернёмся к рассказу Филиппа де Сегюра о доме Нарышкина и, конечно, же о посещениях его Григорием Александровичем Потёмкиным:
«С утра до вечера в его доме слышались веселый говор, хохот, звуки музыки, шум пира; там ели, смеялись, пели и танцевали целый день; туда приходили без приглашений и уходили без поклонов; там царствовала свобода. Это был приют веселья и, можно сказать, место свидания всех влюблённых. Здесь, среди веселой и шумной толпы, скорее можно было тайком пошептаться, чем на балах и в обществах, связанных этикетом. В других домах нельзя было избавиться от внимания присутствующих; у Нарышкина же за шумом нельзя было ни наблюдать, ни осуждать, и толпа служила покровом тайн…
Я вместе с другими дипломатами часто ходил смотреть на эту забавную картину.
Потёмкин, который почти никуда не выезжал, часто бывал у шталмейстера; только здесь он не чувствовал себя связанным и сам никого не беспокоил. Впрочем, на это была особая причина: он был влюблён в одну из дочерей Нарышкина. В этом никто не сомневался, потому что он всегда сидел с ней вдвоём в отдалении от других. За ужином он тоже не любил быть за общим столом со всеми гостями. Ему накрывали стол в особой комнате, куда он приглашал человек пять или шесть из своих знакомых.
Я скоро попал в число этих избранных».
Рассказ Сегюра относится к 1785 году. В комментариях указано:
«Потёмкин ухаживал за Марьей Львовной Нарышкиной, которая потом была замужем за князем Любомирским. Она пела и играла на арфе.
Великий Державин посвятил ей свою «Оду к Эвтерпе»:
Пой, Эвтерпа дорогая!
В струны арфы ударяй,
Ты, поколь весна младая,
Пой, пляши и восклицай.
Ласточкой порхает радость,
Кратко соловей поёт:
Красота, приятность, младость –
Не увидишь, как пройдёт.
Бранным шлемом покровенный
Марс своей пусть жертвы ждёт;
Рано ль, поздно ль, побежденный
Голиаф пред ним падёт;
Вскинет тусклый и багровый
С скрежетом к нему свой взгляд
И венец ему лавровый,
Хоть не хочет, да отдаст.
Пусть придворный суетится
За фортуною своей,
Если быть ему случится
И наперсником у ней,
Рано ль, поздно ль, он наскучит
Кубариться кубарём;
Нас фортуна часто учит
Горем быть богатырём.
Время всё переменяет:
Птиц умолк весенних свист,
Лето знойно пробегает,
Трав зеленых вянет лист;
Идёт осень златовласа,
Спелые несёт плоды;
Красно-желта её ряса
Превратится скоро в льды.
Марс устанет – и любимец
Счастья возьмет свой покой;
У твоих ворот и крылец
Царедворец и герой
Брякнут в кольцы золотые;
Ты с согласия отца
Бросишь взоры голубые
И зажжёшь у них сердца.
С сыном неги Марс заспорит
О любви твоей к себе,
Сына неги он поборет
И понравится тебе;
Качествы твои любезны
Всей душою полюбя,
Опершись на щит железный,
Он воздремлет близ тебя.
Пой, Эвтерпа молодая!
Прелестью своей плени;
Бога браней усыпляя,
Гром из рук его возьми.
Лавром голова нагбенна
К персям склонится твоим,
И должна тебе вселенна
Будет веком золотым.
1789г.
Гавриил Романович Державин не только посвятил оду любви Потёмкина и Марии Нарышкиной, но и сам, влюблённый в неё, написал ей незадолго до её замужества в 1795 году о своей любви в посвящении «Анакреон у печки».
Случись Анакреону
Марию посещать;
Меж ними Купидону,
Как бабочке летать.
Летал божок крылатый
Красавицы вокруг,
И стрелы он пернаты
Накладывал на лук.
Стрелял с её небесных
И голубых очей,
И с роз в устах прелестных,
И на груди с лилией.
Но арфу как Мария
Звончатую взяла,
И в струны золотые
Свой голос издала, –
….
Анакреон у печки
Вздохнул тогда сидя,
«Как бабочка от свечки
Сгорю, – сказал – и я».
Императрица, признав право Потёмкина на свободу, сумела с уважением отнестись к сильному увлечению князя и даже посылала в своих письмах поклоны этому предмету увлечения. Женщина умная и дальновидная, Императрица, видимо, поняла, что даже ей не удержать в клетке «пустынного Льва», от которого нельзя требовать того же, что от прочих избранников.
Недаром П.В. Чичагов писал, что у «Екатерины был гений, чтобы царствовать, и слишком много воображения, чтобы быть не чувствительною в любви».
Во время путешествия Екатерины Великой по Новороссии и Крыму в 1787 году в свите её среди прочих царедворцев были обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин и его супруга Марина Осиповна Нарышкина. Скорее всего, вместе с ними отправилась в путешествие и их дочь Марья Львовна, которую в Петербурге уже все считали невестой князя Потёмкина.
Их любовь к тому времени ещё была достаточно сильной. Два года спустя 9 марта 1789 года А.А. Безбородко писал Виктору Павловичу Кочубею:
«Князь Потёмкин у Льва Александровича Нарышкина всякий вечер провождает. В городе уверены, что он женится на Марье Львовне».
Безусловно, Императрица знала об увлечении князя. Однажды она внезапно приехала в гости к Нарышкину. Подгадала к обеду. А после обеда села за карточный столик с Потёмкиным, Сегюром и Нарышкиным.
Визит Государыни был странен. Видимо, Нарышкины решили, что Государыня приехала решить брачный вопрос – не всем же было известно, что он не решаем, поскольку Потёмкин не свободен от брачных уз.
Но надежда всегда умирает последней. Визит подал надежды. И едва Государыня уехала, как начались танцы и пляски.
Граф Филипп де Сегюр вспоминал в своих записках:
«Барышня Нарышкина сплясала казачка, затем русскую, чем привела всех в восторг. Как плавны её движения, движения её плеч и талии! Она способна воскресить умирающего мужчину!»
И действительно, все отмечали, что Потёмкин помолодел, что словно бы сбросил груз недавней тяжелейшей болезни, полученной во время дипломатической битвы за Крым, которую выиграл блистательно и бескровно.
Но Потёмкина вновь позвали дела государственной важности.
Не сразу стало ясно, что предложения не будет. А время шло. Уже вышли замуж две старшие сестры Марии, уже женились два её брата, а она всё ждала у моря погоды.
И лишь во второй половине 90-х лет (восемнадцатого века) её выдали за пятидесятилетнего польского князя Франтишека Ксаверия Любомирского, поступившего после раздела Польши на русскую службу с чином генерал-лейтенанта. Так внучатая племянница тайного супруга Императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского и дочь несостоявшегося фаворита в то время великой княгини Екатерины Алексеевны, Льва Нарышкина, стала супругой польского князя. И следы её в истории затерялись.
О своей печальной судьбе, о супружестве с нелюбимым Мария Львовна говорила в своих проникновенных стихах, быстро становившихся песнями.
Ах, на что ж было, да к чему ж было
По горам ходить, по крутым ходить,
Ах, на что ж было, да к чему ж было соловья ловить!
У соловушки у младенькаго – одна песенка;
У меня, младой, у меня, младой, — один старый муж,
Да и тот со мной, да и тот со мной не в любви живёт!
Не белись, моё, не белись, мое лицо белое,
Не румяньтеся, не румяньтеся, щеки алые,
Не сурьмитеся, не сурьмитеся, брови чёрные,
Не носись, моё, не носись, мое платье цветное!
Ах, на что ж было, да к чему ж было
По горам ходить, по крутым ходить,
Ах, на что ж было, да к чему ж было соловья ловить!
У соловушки у младенькаго — одна песенка;
У меня, младой, у меня, младой — один милый друг,
Да и тот со мной, да и тот со мной во любви живёт!
Ты белись, моё, ты белись, моё лицо белое,
Вы румяньтеся, вы румяньтеся, щеки алые,
Вы сурьмитеся, вы сурьмитеся, брови чёрныя,
Ты носись, моё, ты носись, моё платье цветное!
Талант поэтессы признан и современниками и потомками – не всем было известно о существовании в нашей русской литературе такой поэтессы. И снова мы видим влияние на развитие таланта необыкновенного края Черноземья, давшего нам Тургенева, Бунина, Никитина, Лескова, Льва Толстого, Фета…
Мария Нарышкина провела немало лет в детстве и юности в дальних имениях Нарышкиных в Черноземье, на Орловщине и в Курской губернии.
В песнях пронзительная мечта о любви, о встрече «друга милого».
Ещё в советское время в издательстве Просвещение вышла книга Анны Михайловны Новиковой«Русская поэзия XVIII – первой половины XIX в. и народная песня: Учеб. Пособие по спецкурсу для студентов педагогических институтов».
Там особо отмечено:
«Большое значение в истории создания «русских песен» в XVIII веке имели так называемые «нарышкинские» песни – «По горам, горам я ходила» и «Ах, на что ж было, ах, к чему ж было».
Их авторство приписывается дочери известного екатерининского вельможи Л.А. Нарышкина – Марии Львовне Нарышкиной. Песни несут на себе печать большого таланта и, несомненно, принадлежат одному автору, так как их поэтический стиль очень сходен. Если считать достоверным авторство Нарышкиной, о котором писали П.А. Бессонов, И.Н. Розанов и другие исследователи, то необходимо отметить её очень хорошее знание народных песен. Это подтверждают и мемуарные свидетельства об обстановке в доме Нарышкиных. Отец Марии Львовны был русским хлебосолом, весельчаком, любителем пения. Писали о нём как о крупном меценате музыкального искусства конца XVIII века».
Дочь Нарышкина играла на арфе, прекрасно пела и сама сочиняла песни. Об ее красоте, уме и замечательном голосе сохранилось немало воспоминаний. Так, П.А. Бессонов писал, что от пения Марии Львовны приходил в восторг сам Державин.
Обе песни были одновременно опубликованы в сборнике Трутовского. Текст первой песни этого сборника:
По горам, по горам,
Я по горам ходила,
Все цветы, все цветы
И я все цветы видела.
Одного, одного,
Одного цвета нет как нет,
Нет цвета алого,
Алого, алого,
Моего цвета прекрасного.
По двору, по двору,
И я по двору ходила,
Всех гостей, всех гостей
И я всех гостей видела,
Видела, видела,
Одного гостя нет как нет,
Нет, нет гостя,
Ах, нет гостя милого,
Милого, милого,
Моего друга любезного…
Аль ему, аль ему,
Аль ему ли служба сказана,
Аль ему, аль ему,
Аль ему ли государева?
Али мне, али мне
В своем доме воли нет,
Али мне, али мне
Послать было некого?
Я сама, я сама,
Я сама к другу поехала,
Я сама, я сама,
Я сама с другом простилася:
Ты прости, ты прости,
Ты прости, ты прости, сердечный друг!
Анна Новикова далее отметила, что песни Марии Нарышкиной напоминают такие народные песни, «По лугу я, девица, гуляла», «Я по бережку ходила, молода» и другие. В них отображены «поиски девушкой «цвета алого» и «гостя милого»… ну а «запев второй песни как бы отвечал на эти поиски вздохом разочарования:
«Ах, на что ж было, ах, к чему ж было по горам ходить».
Эта поэтическая внутренняя связь между обеими песнями убеждает в том, что они были созданы одним автором».
Анна Новикова полагает, что Мария Нарышкина настолько приближала свою поэзию к народному творчеству, чтов песни "Ах, на что ж было..." использовала некоторые строки из народной песни «Ноченька». Впрочем, в ту пору такие формы были приемлемы – вспомним большую схожесть стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» со стихотворением Василия Андреевича Жуковского «Я памятник воздвиг себе чудесный вечный».
Вот и в стихотворении Марии Нарышкиной есть строчки из песни «Ноченька»:
Ах ты, ноченька,
Ночка тёмная,
Ночка тёмная,
Да ночь осенняя.
С кем я ноченьку,
С кем осеннюю,
С кем тоскливую
Коротать буду?
Нет ни батюшки,
Нет ни матушки,
Только есть один
Мил-сердечный друг.
Только есть один
Мил-сердечный друг,
Да и тот со мной
Не в ладу живёт.
Как видим, возлюбленными Григория Александровича Потёмкина были барышни непростые, прекрасно образованные, талантливые, словом, незаурядные.
И очень странно читать в знаменитом романе Валентина Пикуля «Фаворит» такие вот, явно принижающие истинные духовные, нравственный и культурный уровень князя, строки:
«Чтобы не скучать в дороге, Потёмкин из мучных лабазов Калуги похитил от старого мужа молодую, но весьма дородную купчиху, ублажал её слух «кабацкими» стихами Державина:
– «В убранстве козырбацком, с ямщиком-нахалом, на пноходе хватском, под белым покрывалом… кати, кума драгая, в шубсночке атласной, чтоб осень, баба злая, на астраханский красный не шлендала кабак и не бузила драк…» Ну, целуйся!...»
Иными были женщины, иные отношения с ними, иные речи… К примеру, граф Филипп де Сегюр в своих записках рассказал, что Григорий Александрович старался уединиться с Марией Львовной, во всяком случае быть в стороне от шумных кампаний.
Потёмкин рассказывал ей о своих планах, делился грандиозными замыслами во имя России, и было видно, с каким сниманием и интересом слушала она, и были слышны иногда её фразы:
– О, если бы это свершилось!»
Сохранились письма, которые Потёмкин писал действительно горячо любимой им женщине. Правда, имя этой женщины не установлено. Потёмкин старался сохранять имена своих возлюбленных втайне, если это было необходимо для их безопасности.
Нам бы поучиться слогу, душевному жару и проникновенной пронзительности фраз Григория Александровича:
«Жизнь моя, душа общая со мною! Как мне изъяснить словами мою любовь к тебе, когда меня влечёт к тебе непонятная сила, и потому я заключаю, что наши души с тобою сродные… Нет ни минуты, моя небесная красота, чтобы ты выходила у меня из памяти! Утеха моя и сокровище моё бесценное, – ты дар Божий для меня… Из твоих прелестей неописанных состоит мой экстазис, в котором я вижу тебя перед собою… Ты мой цвет, украшающий род человеческий, прекрасное творение… О, если бы я мог изобразить чувства души моей к тебе!».
Или вот такие слова:
«Рассматривая тебя, я нашёл в тебе ангела, изображающего мою душу. Тайную силу, некоторую сродную склонность, что симпатией называют»… «Нельзя найти порока ни в одной черте твоего лица. Ежели есть недостаток, то только одно, что нельзя тебя видеть так часто, или лучше сказать, непрерывно, сколько есть желание».
Надо думать, что писал это он не купчихам с мучного лабаза, да не в его духе словечки, вставленные в его уста автором романа «Фаворит».
Супруг Российской Государыни
Прошли годы. Императрица утвердила и укрепила свою власть, но ей не хватало надёжного мужского плеча, на которое можно опереться.
Об Орлове она сказала «сей бы век остался, есть ли б сам не скучал», Васильчиков же и подавно внимания не заслуживал. И вот прибыл в столицу вызванный ею из действующей армии Григорий Александрович Потёмкин, закалённый в боях генерал-поручик, не раз отмеченный самими Румянцевым за храбрость и мастерство в командовании войсками.
Рассказывая о его приезде, В.С. Лопатин приводит выписку из Камер-фурьерского церемониального журнала, в котором отмечались все важнейшие события при дворе.
Судя по журналу, 4 февраля 1774 года произошло следующее:
«По полудни в 6-м часу из Первой Армии прибыл ко двору Её Императорского Величества в Село Царское генерал-поручик и кавалер Григорий Александрович Потёмкин, который и проходил к Её Императорскому величеству во внутренние апартаменты».
Далее в журнале указано:
«Через час Екатерина в сопровождении наследника вышла в картинную залу и 9-го часа забавлялась с кавалерами игрой в карты. Первое свидание длилось не более часа. Скорее всего, беседа касалась армии и положения дел в Империи. Отметим небольшую подробность: честь представить Потёмкина Государыне выпала на долю дежурного генерал-адъютанта князя Г.Г. Орлова. Вряд ли он догадывался о том, что «его приятель» Потёмкин был вызван секретным письмом Екатерины.
В эти самые дни знаменитый гость Императрицы Дени Дидро, проведший в Петербурге 5 месяцев, готовится к отъезду. Екатерина так занята своими сердечными делами, что не может найти свободной минуты, чтобы попрощаться с философом, обсуждавшим с ней во время долгих и частых бесед вопросы о положении народа, о необходимых реформах.
Второй раз имя Потёмкина появляются в Камер-фурьерском журнале 9 февраля. Он показан среди 42 приглашённых на большой воскресный приём и обед. Но могли быть тайные свидания, о которых официальный журнал хранит молчание. О первых шагах к сближению рассказывают письма. Сначала Екатерина пишет Потёмкину по-французски, называет его «милым другом», обращается к нему на «Вы». Она просит его выбрать «какие-нибудь подарки для «духа», затем посылает ему что-то – «для духа Калиостро». Этот шифр легко читается. «Духи Калиостро» – согласно учению модного в Европе графа-авантюриста – руководят чувствами людей. Подарок предназначался самому Потёмкину».
7 февраля Екатерина писала Потёмкину:
«Когда Великий Князь уйдёт от меня, я дам Вам знать, а пока что развлекайтесь как можно лучше, не в ущерб, однако, честным людям, к коим я себя причисляю. Прощайте, мой добрый друг...».
И такое письмо написано на третий день после первой встречи…
А вскоре ещё одна записочка, по мнению исследователей, относящаяся к 14 февраля:
«Мой дорогой друг, будьте любезны выбрать мне какие-нибудь подарки для духа и сообщите мне, если можете, как Вы поживаете? Не имея никаких непосредственных сношений и из-за отсутствия господина Толстяка, я вынуждена беспокоить вас. Посему приношу Вам свои извинения».
Загадочные строки. Виднейший исследователь писем и документов екатерининского времени, создатель блистательных документальных фильмов о Суворове, о Потёмкине и о Екатерине Великой Вячеслав Сергеевич Лопатин разгадал их смысл. Оказывается, Екатерина II, любившая делать подарки близким людям, предлагала Потёмкину выбрать себе что-то по душе.
В записочке много иносказательного, ведь её автор – Императрица. Даже имена заменены кличками, известными лишь узкому кругу людей. «Толстяк» – это обер-гофмаршал двора князь Николай Михайлович Голицын, преданный слуга Императрицы, брат генерал-фельдмаршала Александра Михайловича Голицына. Оба – близкие люди Петру Александровичу Румянцеву, который женат на их родной сестре. Тайна встреч Екатерины Второй и Потёмкина находилась в надёжных руках. Мало кто был посвящён в их отношения, и уж, конечно, нигде и ничто не протоколировалось».
А письма следовали одно за другим. Они датированы 14, 15, 16 и 18 февраля. Возможно, были и другие, которые не сохранились. 15 февраля Потёмкин присутствовал на обеде, на котором ещё был и А.С. Васильчиков, доживавший во дворце последние дни.
О Васильчикове Императрица упоминала в «Чистосердечной исповеди», даже не называя его по имени.
Постепенно тон писем менялся. Очевидно, во время тайных свиданий Императрица дала понять Потёмкину, что он ей нужен не как боевой генерал или не только как боевой генерал, которому она собирается поручить ответственное дело, а как близкий человек…
И это, видимо, поставило Григория Александровича в некоторое замешательство. Он сразу твёрдо дал понять, что фаворитом быть не намерен – это претило его представлениям о чести и достоинстве, было несовместимо с его Православным воспитанием. Один из биографов князя подметил, что даже самый зловредный и сардонический мемуарист эпохи, некий Вигель, от которого не было никому пощады, и тот признавал, как он выразился, «моральный характер» Потёмкина.
Из переписки напрашивается вывод, что Потёмкин дал понять Государыне: ни на какие отношения, не освещённые Православной церковью, пойти не может. Очевидно и то, что Императрица дала согласие стать его супругой. Когда-то, вскоре после переворота, подобное предложение уже делал Государыне Григорий Орлов. Но высшие сановники намекнули ей, что готовы повиноваться Императрице Екатерине, а госпоже Орловой – никогда. Теперь она уже могла принимать решение без оглядки на кого бы то ни было.
И вдруг 21 февраля Императрица на целый день затворилась в своих покоях во дворце и никого не принимала. Двор застыл в недоумении. Случилось же это после бала-маскарада, который был дан накануне. На том маскараде Императрица танцевала только с Потёмкиным и несколько раз уединялась для разговора с ним. Возможно, именно тогда он дал ей понять, что не пойдёт ни на какие отношения, не освещённые церковью, и попросил признаться в тех увлечениях, которые были у неё при дворе до встречи с ним. Очевидно, он сказал ей о сплетнях и о том числе увлечений, которые приписывали ей сплетники, поскольку в «Чистосердечной исповеди» Императрица обронила такую фразу:
«Ну, господин Богатырь, после сей исповеди, могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? Извольте видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих: первого по неволе, да четвёртого от дешперации (отчаяния – Н.Ш.). Я думала на счёт легкомыслия поставить никак не можно; о трёх прочих, естьли точно разберёшь, Бог видит, что не от распутства, к которой (здесь и деле сохранены орфография и пунктуация Императрицы – Н.Ш.) никакой склонности не имею, а естьлиб я в участь получила с молода мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Беда в том, что сердце моё не хочет быть ни на час охотно без любви…».
Письмо состоит как бы из ответов на поставленные Потёмкиным вопросы и возражений против некоторых его упрёков.
Возможно, в тот же день 21 февраля 1774 года после того, как Потёмкин прочитал «Чистосердечную исповедь», состоялось объяснение, потому что Императрица направила ему вечером ещё одну записочку: «Я, ласкаясь к тебе по сю пору много, тем ни на единую черты не предуспела ни в чём. Принуждать к ласке никого не можно, вынуждать непристойно, претворяться – подлых душ свойство. Изволь вести себя таким образом, что я была тобой довольна. Ты знаешь мой нрав и моё сердце, ведаешь хорошие и дурные свойства, ты умён, тебе самому представляю избрать приличное по тому поведение, напрасно мучишься, напрасно терзаешься. Един здравый рассудок тебя выведет из беспокойного сего положения; без крайности здоровье своё надседаешь понапрасну».
А 27 февраля, выполняя волю Государыни, Потёмкин написал ей прошение о назначении его генерал-адъютантом:
«Всемилостивейшая Государыня!
Определил я жизнь мою для службы Вашей, не щадил её отнюдь, где был только случай к прославлению высочайшего имени. Сие поставя себе простым долгом, не помыслил никогда о своём состоянии, и, если видел, что моё усердие соответствовало Вашего Императорского Величества воле, почитал себя уже награждённым. Находясь почти с самого вступления в армию командиром отдельных и к неприятелю всегда близких войск, не упускал я наносить оному всевозможного вреда, в чём ссылаюсь на командующего армией и на самих турок.., принял дерзновение, пав к освященным стопам Вашего Императорского Величества, просить, ежели служба моя достойна Вашего благоволения и когда щедрота и высокомонаршая милость ко мне не оскудевают, разрешить сие сомнение моё пожалованием меня в генерал-адъютанты Вашего Императорского Величества. Сие не будет никому в обиду, а я приму за верх моего счастия, тем паче, что, находясь под особливым покровительством Вашего Императорского Величества, удостоюсь принимать премудрые Ваши повеления и, вникая в оные, сделаюсь вящее свободным к службе Вашего императорского Величества Отечества».
И вот перед нами письмо уже совершенно определённого содержания:
«Гришенька не милой, потому что милой. Я спала хорошо, но очень немогу, грудь болит и голова, и, право, не знаю, выйду ли сегодня или нет. А есть ли выйду, то это будет для того, что я тебя более люблю, нежели ты меня любишь, чего и доказать могу, как два и два четыре. Выйду, чтоб тебя видеть. Не всякий вить над собою столько власти имеет, как Вы. Да и не всякий так умён, так хорош, так приятен. Не удивлюсь, что весь город бессчётное число женщин на твой счёт ставил. Никто на свете столь не горазд с ними возиться, я чаю, как Вы. Мне кажется, во всём ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих. Только одно прошу не делать: не вредить и не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны. Нет человека, которого он более мне хвалил и, по-видимому, мне, более любил и в прежнее время и ныне, до самого приезда твоего, как тебя. А есть ли он свои пороки имеет, то ни тебе, ни мне непригоже их расценить и расславить. Он тебя любит, а мне оне друзья, и я с ними не расстанусь…».
Императрица не хотела, чтобы Потёмкин с первых дней пребывания в столице был вовлечен в борьбу придворных группировок. Помнила она и о рекомендательных письмах, которые писал Григорий Орлов Румянцеву, когда Потёмкин отправлялся в армию, о том, как хвалил граф молодого генерала.
На следующий день, 28 февраля, Екатерина сообщила в письме, что приказала заготовить указ о пожаловании Потемкина чином генерал-адъютанта Её Императорского Величества.
1 марта весь двор узнал о новом назначении. Из Москвы приехал граф Алексей Орлов, встревоженный известием. Он прямо спросил у Екатерины о слухах, дошедших до него:
– Да или нет?
– Ты об чём, Алехан? – смеясь, ответила вопросом на вопрос Екатерина.
– По материи любви, – сказал граф Орлов.
– Я солгать не умею, – призналась Государыня.
Да, она полюбила, и ничто уже не могло помешать её счастью.
«С первых шагов своего возвышения Потёмкин не только постоянно дежурит во дворце, – рассказывает в своей книге B.C. Лопатин, – но и становится единственным докладчиком по военным делам. Именно по его совету Екатерина решает направить в Оренбуржье против Пугачёва Суворова, который наконец-то получает чин генерал-поручика (17.3.1774). Потёмкин, хорошо знавший генералов и офицеров действующей армии, рекомендует ей дельных людей, на которых можно положиться.... Поначалу новый генерал-адъютант живёт у своего зятя Н.Б. Самойлова, затем переезжает к сенатору и камергеру И.П. Елагину, верность которого Екатерине была испытана во время дела канцлера графа А.П. Бестужева. 15 марта следует новое пожалование: Потёмкин назначается подполковником в лейб-гвардии Преображенский полк...»
Сближение с Императрицей и возвышение Потёмкина были стремительны. 10 апреля Григорий Александрович переехал в Зимний дворец, где ему отведены покои. 21 апреля, в день своего рождения, Екатерина пожаловала ему ленту и знаки Ордена Святого Андрея Первозванного.
Дипломатический корпус с большим вниманием следил в те дни изменениями при российском императорском дворе.
Прусский посланник граф В.Ф. Сольмс доносил Фридриху II:
«По-видимому, Потёмкин сумеет извлечь пользу из расположения к нему Императрицы и сделается самым влиятельным лицом в России. Молодость, ум и положительность доставят ему такое значение, каким не пользовался даже Орлов».
Английский посланник писал в Лондон:
«Потёмкин действительно приобрёл гораздо больше власти, чем кто-либо из его предшественников».
И все в один голос отмечали высокие личные достоинства нового избранника Российской Императрицы.
Но это ещё не все... Вскоре в Лондон полетела очередная депеша, в которой автор её, Гуннинг, оказался очень близок к истине:
«...Если рассматривать характер любимца Императрицы, которому она, кажется, хочет доверить бразды правления, нужно бояться, что она куёт себе цепи, от которых легко не освободится...».
Впрочем, она ведь и не хотела от них освобождаться на протяжении всей своей жизни, вплоть до последнего часа Потёмкина на этой земле.
Вячеслав Сергеевич Лопатин, тщательно проанализировавший письма того периода, подсчитал, что Екатерина в 28-ми записочках называет Потёмкина «мужем» и «супругом» 30 раз, а себя именует женой 4 раза...
Он доказал, что венчание Григория Александровича Потёмкина и Императрицы произошло 8 июня 1774 года в праздник Святой Троицы, и описал это событие:
«Стояла светлая белая ночь, когда шлюпка отвалила от Летнего дворца на Фонтанке, затем вошла в Неву, пересекла её и двинулась по Большой Невке. Там, в отдалённой, глухой части города возвышался Храм Святого Сампсония Странноприимца, основанный по повелению Петра Первого в честь Полтавской победы… Храм сохранился до наших дней. Чуть более 500 шагов отделяют его от берега Большой Невки. В соборе перед красным иконостасом… духовник Императрицы Иван Панфилов и обвенчал её с Григорием Александровичем Потёмкиным. Свидетелями были: камер-юнгфера Марья Саввишна Перекусихина, камергер Евграф Александрович Чертков и адъютант Потёмкина, его родной племянник Александр Николаевич Самойлов, поручик лейб-гвардии Семёновского полка».
Поскольку, во имя сохранения тайны, лишних людей привлечь было нельзя, за дьячка во время венчания был Самойлов. Впоследствии он вспоминал, что, когда произнёс фразу «жена да убоится мужа», священник вздрогнул – женой-то становилась Государыня. Но Екатерина сделала мягкий жест, мол, всё правильно.
Здесь к месту добавить, что Платон Зубов, последний генерал-адъютант Императрицы, на старости лет, находясь в ссылке в своём имении, признался управляющему своим имением Братковскому, что, как не пытался, так и не сумел подорвать авторитет Потёмкина в глазах Екатерины.
– Императрица, – говорил он с досадою, – всегда шла навстречу желаниям Потёмкина и просто боялась его, будто строгого и взыскательного супруга.
Сразу после соединения морганатическими узами с Императрицей Потёмкин показал, что не собирается быть только «мебелью» при дворе.
В.В. Огарков в книге «Г.А. Потёмкин, его жизнь и общественная деятельность», писал:
«Подобная роль для честолюбивого, гордого князя, для человека такого ума, какой был у Потёмкина, явилась неудобною. Мы видим, что уже в эти (1774–1776) два года почти ни одно решение Государыни не обходится без совета с Потёмкиным, многое делается по его инициативе, так что, в сущности, он является главным её советником, и притом советником авторитетным. Нужно сказать, что многие его действия исполнены известного такта и благородства, исключавшего представление о «чёрной» зависти ко всякому успеху, сделанному помимо его. Так, он настоял на усилении армии Задунайского новыми подкреплениями из России и на не стеснении его инструкциями».
Кстати, о добром отношении Потёмкина к своему учителю говорят и другие источники. В частности, в одном из своих донесений, датированном 15 марта 1774 года, прусский посланник Сольмс указывал:
«Говорили, что Потёмкин не хорош с Румянцевым, но теперь я узнал, что, напротив того, он дружен с ним и защищает его от тех упрёков, которые ему делают здесь».
В скором времени Потёмкин стал членом Государственного Совета, вице-президентом Военной коллегии, получил чины генерал-аншефа подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. Чин очень высокий и почётный, ибо полковником лейб-гвардии, по положению, мог быть только Император, в данном случае, Императрица. Государыня пожаловала ему орден Святого Андрея Первозванного, осыпала прочими милостями.
Конечно, те чины, назначения и награды, которые Григорий Александрович получил в 1774 году, кто-то мог счесть превышающими его заслуги. Но, заметим, он являлся законным супругом Российской Государыни. Но главное – он оправдал их в последующем с лихвою. Возникает и ещё один вопрос: правомерно ли считать Потёмкина фаворитом? Правомерно ли уравнивать этого российского исполина, российского гения со всеми теми лицами, коих принято так именовать?
Чтобы ответить на этот вопрос, вновь обратимся к исследованиям Вячеслава Сергеевича Лопатина, который писал:
«Круг обязанностей Потёмкина очень широк. Как глава Военной коллегии, он ведает кадровыми перемещениями и назначениями в армии, награждениями, производством в чины, пенсиями, отпусками, утверждением важных судебных приговоров. В его архиве сохранились сотни писем и прошений, поданных самыми разными людьми, начиная от простых солдат и крепостных крестьян и кончая офицерами и генералами. Как генерал-губернатор Новороссии, он принимает меры по обеспечению безопасности границ своей губернии, формирует и переводит туда на поселение пикинерные полки. Чтобы заполучить для новых полков опытных боевых офицеров, Потёмкин добивается для них привилегий в производстве в чины.
Екатерина... довольна его успехами, ласково именует Потёмкина «милой юлой», полусерьёзно-полушутливо жалуется на его невнимание к ней из-за множества дел и напоминает слишком самостоятельному «ученику» о необходимости соблюдать субординацию.
Нет таких вопросов, по которым бы она не советовалась с Потёмкиным. Государыня обсуждает с ним отношения с сыном и невесткой, причём касается таких интимных подробностей, как связь великой княгини с графом Андреем Разумовским, близким другом наследника престола...».
С первых дней возвышения Потёмкин, конечно, не без помощи Императрицы, сумел правильно определить своё место при дворе. Он старался сглаживать конфликты, использовать полезных людей для интересов государства.
К тому времени наступил окончательный перелом в ходе русско-турецкой войны.
5 июля 1774 года в деревне Кучук-Кайнарджи начались переговоры, и 10-го числа состоялось подписание выгодного для России мирного договора.
10 июля в честь заключения мира с Турцией, для победы над которой Потёмкин сделал немало, ему было пожалованы графское достоинство, шпага, осыпанная алмазами, и портрет Императрицы для ношения на груди, а уже 21 марта 1776 года «исходатайствовано княжеское достоинство священной римской империи». В 1775 году он получил орден Святого Георгия второй степени за прошедшую кампанию.
Но это было позднее, а пока появилась возможность сосредоточить все силы на борьбу против пугачевщины. Граф Никита Иванович Панин, воспитатель наследника престола и глава Коллегии иностранных дел, предложил послать против Пугачёва своего брата Петра Ивановича. Императрица была в сомнениях, поскольку знала о планах Никиты Панина относительно ограничения Самодержавной власти и о его прожектах, касающихся передачи трона Великому Князю Павлу Петровичу.
Потёмкин счёл возможным пойти на назначение Петра Панина, поскольку считал его исключительно честным и порядочным человеком, не способным к интригам.
Интересна реакция Григория Александровича на известие о заключении мира с Портой. Одному из своих добрых знакомых, правителю секретной канцелярии Румянцева П.В. Завадовскому он писал:
«Здравствуй с миром, какого никто не ждал... Пусть зависть надувается, а мир полезный и славный. Петр Александрович – честь века нашего, которого имя не загладится, пока Россия – Россия».
Вот как оценивал Потёмкин своего учителя графа Румянцева! Что же касается зависти, то на большом приеме в Ораниенбауме, организованном по случаю этого события, на лицах иностранных дипломатов было написано, каково их отношение к успехам России. Лишь датский и английский министры оставались спокойны, все остальные представители западных стран едва скрывали свою досаду.
Вместе с указом о назначении Панина, подписанным Императрицей, Потёмкин направил ему письмо следующего содержания:
«Я благонадежен, что Ваше Сиятельство сей мой поступок вмените в приятную для себя услугу. Я пустился на сие ещё больше тем, что мне известна беспредельная Ваша верность Императрице».
Между тем, в Москве готовилось празднование мира с Портой, назначенное на июль 1775 года. В январе Императрица и Потёмкин отправились в столицу, где остановились в старинном дворце, в Коломенском.
«На московский период приходится кульминация семейной жизни Екатерины и Потемкина, – считает В.С. Лопатин. – По-прежнему все важные дела идут либо на совет, либо на исполнение к «батиньке», «милому другу», «дорогому мужу». Ратификация мирного договора султаном и манифест о забвении бунта и прощении участников возмущения, указ о сбавке цены с соли и устройство воспитательного дома, сложные отношения с крымским ханом и упразднение Сечи Запорожской, разработка положений губернской реформы и многие другие вопросы, занимающие Екатерину Вторую и её соправителя, нашли отражение в личной переписке… В Москве Императрица встретилась с матерью Потёмкина, своей свекровью, и оказала её особые знаки внимания, одарив её богатыми подарками…».
Всё, казалось бы, безмятежно на семейном горизонте. Но чаще возникали ссоры, которыми заканчивались обсуждения государственных дел.
Празднования на время примирили супругов. 8 июля Москва торжественно встретила Петра Александровича Румянцева, блистательного победителя турок, а 10-го числа начались торжества поразившие своим великолепием даже дипломатический корпус.
На 12 июля были назначены народные гулянья на Ходынском поле, которые затем внезапно отложили на неделю. Поступило сообщение о болезни Императрицы. Но что это была за болезнь? Сама Государыня поясняла в письмах своим корреспондентам, что причиной, якобы, были «немытые фрукты». Не скоро исследователи докопались до истины.
В.С. Лопатин так пояснил случившееся:
«12 или 13 июля Екатерина подарила своему мужу девочку. Это был пятый ребёнок Екатерины. Первым был Павел, второй Анна, затем дети Григорий Орлова – сын Алексей (будущий граф Бобринский) и… дочь Наталья (будущая графиня Буксгевден). И, наконец, дочь Елизавета, рождённая в законном браке, от горячо любимого мужа.
Елизавета Григорьевна Тёмкина воспитывалась в семье племянника Потёмкина А.Н. Самойлова. Вряд ли она знала, кто её мать. Тёмкиной не было и 20 лет, когда её выдали замуж за генерала И.Х. Калагеорги, грека на русской службе.
Кисть В.Л. Боровиковского запечатлела её облик. На двух портретах изображена молодая женщина, черты лица которой напоминают отца, а фигура – мать. Что это? Посвящение в тайну? Или талант портретиста, умевшего уловить такие тонкие детали? У Елизаветы Григорьевны было несколько сыновей и дочерей. Потомство её здравствует и по сё время.
После рождения дочери отношения между супругами, казалось бы, должны были ещё более упрочиться. Но этого не произошло. Семья не складывалась. Многие историки и писатели ошибочно именовали Потёмкина фаворитом. Фаворитом он не был ни на один час. Напомним, что в феврале 1774 года, по приезде в Петербург, он почти тут же сделался женихом, ибо сразу объявил Императрице, что ни на какие отношения, не освещённые церковью, как человек Православный, не пойдёт. И она дала согласие стать его супругой. А уже в июне он стал законным супругом Государыни. Коим оставался до последнего дня своей жизни, ибо церковный брак расторгнут не был. Сие обстоятельство наложило отпечаток на его жизнь, не позволив поставить между собою и Государыней в качестве супругу какую-то другую женщину.
Как решили свой личный вопрос Потёмкин и Императрица, известно лишь им самим. Мы можем лишь констатировать случившееся, основываясь на письмах и документах. Вот что пишет B.C. Лопатин:
«Кризис в отношениях Екатерины II и Потёмкина длился с конца января по конец июля 1776 года. О его фазах можно судить по письмам Императрицы своему мужу и соправителю. Тяжелое впечатление оставляют эти письма при чтении: ссоры, размолвки, взаимные упреки и обвинения – вот их главное содержание. Чтобы понять происходящее, следует напомнить о том, что Екатерина играла отнюдь не декоративную роль в управлении государством. Она знала цену власти и умела пользоваться ею. Слишком часто она видела, как меняются люди под бременем власти. Недаром, заканчивая «Чистосердечную исповедь», она просила Потёмкина не только любить её, но и говорить правду. Известно изречение Екатерины: «Мешать дело с бездельем». Современники отмечали её умение шуткой, непринужденной беседой ослаблять гнёт власти и государственных забот. Она любила до самозабвения играть с маленькими детьми, с чужими детьми, потому что своих почти не знала. Признаваясь Потёмкину в пороке своего сердца, которое «не хочет быть ни на час охотно без любви», она как бы говорила: жить без любви и взаимной ласки невозможно. Екатерина пыталась сохранить для себя и своего избранника тепло семейного уюта, оградить свой интимный мир от страшной силы государственной необходимости. С Потёмкиным это оказалось невозможным. Она сама вовлекла его в большую политику и.... потеряла для себя.
«Мы ссоримся о власти, а не о любви», – признаётся Екатерина в одном из писем. Первой она поняла суть этого противоречия, первой почувствовала необходимость отдалиться от Потёмкина (как женщина), чтобы сохранить его как друга и соправителя.
А.Н. Фатеев на основании изучения переписки Екатерины Великой и Потёмкина сделал вывод:
«Перед нами пара, предоставившая друг другу полную свободу в супружеских отношениях. Государственные же отношения сделались ещё более скреплёнными, и между соправителями образовались самые искренние чувства взаимного уважения и сотрудничества».
Потёмкин, по его мнению, был по характеру своему, плохо приспособлен к семейной жизни. Историк писал:
«Арабская поговорка изображает семейного человека львом в клетке, а он всю жизнь оставался пустынными львом на свободе».
Разрыв и первая утешительница Потёмкина
Итак, отставка…
Потёмкин отнёсся к ней без особых переживаний. Он лишь просил:
«Ежели мне определено быть от Вас изгнанному, то лучше пусть это будет не на большой публике. Не замешкаю я удалится, хотя мне сие и наравне с жизнью».
Разлад назрел к весне 1776 года. Он постепенно назревал, но поначалу неизбежность расставания была видно только самим супругам, но постепенно это стали замечать многие. В мае Кирилл Григорьевич Разумовский сообщил своему земляку и наставнику сына Михаилу Ивановичу Коваленскому, что для Потёмкина, который вот-вот получит отставку у Императрицы, «утешительницей» становится шестнадцатилетняя фрейлина Екатерина Сенявина.
По удивительному совпадению она тоже, как и Императрица, была Екатериной Алексеевной.
Синявина, происходившая из знатной семьи, была определена во фрейлины ещё в одиннадцать лет. Такое практиковалось. Это почётное пожалование. Исполнение обязанностей при дворе при этом было не обязательно. Во фрейлины Екатерину пожаловала Императрица вместе с её родной сестрой, примерно того же возраста. Обе были, по отзывам современников, необыкновенными красавицами.
Впоследствии граф П.В. Завадовский назвал сестёр нимфами. Императрице особенно полюбилась юная Катенька, которую она почти постоянно держала при себе. Екатерина Сенявина присутствовала на приёмах, на балах и обедах, часто состояла в свите Государыни.
Так в Камер-фурьерском журнале было отмечено, что 6 июня 1776 года в Царском Селе «в комнатах Его Королевского Высочества начался при Гоф-музыке комнатный концерт, во время которого пели, во-первых, Его Королевского высочества секретарь (Гортчинский), после оного по-французски господин Обер-шталмейстер Его Высокопревосходительство Лев Александрович Нарышкин и госпожа фрейлина Синявина».
Императрица даже взяла Сенявину в довольно длительную поездку в Ярополец в гости к З.Г. Чернышёву. Юная фрейлина исполняла там музыкальные произведения собственного сочинения.
В июне 1776 года она играла и пела в Царском Селе для прусского принца Генриха.
Екатерина Алексеевна родилась в семье знаменитого адмирала Алексея Наумовича Сенявина, предположительно в 1761 году. Плюс – минус один-два года. Сенявины – род героический. Дальним родственником приходился Екатерине и знаменитый адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин, возглавивший в 1807 году Вторую Архипелагскую экспедицию русского флота, победитель турок в Афонском сражении и при Дарданеллах, при Императоре Николае Первом – командующий Балтийским флотом.
Но каковы же были отношения с нею у Григория Александровича? Вряд ли можно найти точные достоверные документальные подтверждения. Мы уже видели одно такое увлечение Потёмкина – влюблённая барышня помогла вытащить Потёмкина из добровольного заточения, он даже бывал у неё в гостях и родители, возможно, полагали его женихом, но имя этой его пассии осталось неизвестным.
То же и с Екатериной Сенявиной. Вполне возможно Григорий Потёмкин и положил на неё глаз, но нет данных, что были какие-то у них серьёзные отношения.
Самойлов, кстати писал об одном золотом правиле Потёмкина:
«Если он иногда имел сокровенные связи, то не обнаруживал оных явно, не тщеславился, подобно многим знаменитым людям, своими метрессами»
А вот Гавриил Романович Державин писал:
«Многие почитавшие Потемкина женщины носили в медальонах его портреты на грудных цепочках».
О том же в 1774 году с некоторой ревностью упомянула в одной из своих записочек Императрица:
«Весь город, бесчисленное количество женщин на ваш счёт ставят. И правда, нет большего охотника с ними возиться».
На то же обстоятельство указывал и Массон Шарль Франсуа Филибер, одно время по протекции своего брата преподававший в Петербургском Инженерном и Артиллерийском кадетском корпусе.
«Когда его не было, все говорили лишь о нём; когда он находился в столице, никого не замечали, кроме него».
Сенявина вполне могла покорить Потёмкина своими незаурядными музыкальными дарованиями.
Нельзя сказать, что расставание с Императрицей становилось трагедией для Потёмкина, ведь решение, скорее всего, было обоюдным.
«Мы ссоримся о власти, а не о любви».
Ну что ж, Екатерина Сенявина была умна, очень красива, начитана, образована и воспитана, да вот только Потёмкин, связанный брачными узами с Государыней, не мог нечего предложить ей, кроме короткого романа.
Конечно, любимая фрейлина Императрицы могла надеяться на то, что Потёмкин сделает предложение. Ни она, ни её родители не знали, что Григорий Александрович связан брачными узами с Императрицей. Брак не был расторгнут.
В конце концов, стало ясно, что Потёмкин предложения не сделает. Зато один из наиболее именитых и расторопных вздыхателей и поклонников 35-летний генерал-майор граф Семён Романович Воронцов оказался очень настойчив. Выбора не было. Екатерина Алексеевна Сенявина к всеобщей радости и своих родителей, которых стала уже волновать неопределённость отношений с Потёмкиным, и всей родни дала согласие.
Венчание состоялось 18 августа 1781 года, и уже 16 мая 1782 года графиня Екатерина Воронцова родила сына Михаила. Злые языки тут же подметили, что столь «плотно вписавшаяся в календарь беременность» говорит о крайней необходимости для невесты столь скорого замужества. Другие полагают, что тень Императрицы стояла за этой свадьбой. Конечно, Государыню не столь уж и волновали связи Потёмкина, с которым супружеские отношения остались лишь на уровне официально-церковном. Но и присутствие при дворе возлюбленной князя её не устраивало – слишком много было разговоров по этому поводу. В какой-то степени это замужество избавляло Потёмкина от ответственности за эту его связь.
Впрочем, называют и другую дату свадьбы – 18 августа 1780 года. И тогда сплетни повисают в воздухе, как повисают в воздухе подозрения о возможном отцовстве Григорий Александровича Потёмкина.
Впрочем, супружество продолжалось недолго. 25 августа 1784 года графиню Воронцову сразила чахотка.
Что же касается сына Семёна Романовича и Екатерины Алексеевна, то, опять же, некоторые биографы задают вопрос: «Какую фамилию на самом деле должен был бы носить Михаил Семенович Воронцов, знаменитый герой войны 1812 г., не менее знаменитый генерал-губернатор Юга России, фактически наследовавший Потёмкину и как «светлейший князь», и как правитель Крыма. Его редкая, неворонцовская, щедрость и блестящие административные таланты, проявившиеся также именно на Юге, наводят на ряд размышлений».
Но ответ на этот вопрос получить уже невозможно. Его унесла в могилу «утешительница» Потёмкина после разрыва его с Императрицей очаровательная Екатерина. Потёмкин мог и не знать о своём отцовстве, если даже таковое и было, ну а что касается графа Семёна Романовича Воронцова, то и подавно. Правда, хорошо известно, что граф не любил Потёмкина.
Воронцов оказался хорошим семьянином, хоть и недолго наслаждался семейным счастьем, и прекрасным отцом, воспитавшим двоих детей.
Его нелюбовь к Потёмкину проявилась и в том, что он добавил хворосту в костёр клеветнических вымыслов о Григории Александровиче, написав в 1799 году, когда его дочь уже в период царствования Павла Петровича пожаловали во фрейлины:
«При прежнем царствовании я бы не согласился на это и предпочел бы для моей дочери всякое другое место, пребыванию при дворе, где племянницы князя Потёмкина по временам разрешались от бремени, не переставая называться порядочными девицами».
Ну и коли уж мы коснулись явно клеветнического выпада в адрес Потёмкина, то самое время сказать пару слов и по поводу автора клеветы.
В своих записках генерал-аншеф князь Юрий Владимирович Долгоруков, автор военных мемуаров, отозвался о Семёне Романовиче Воронцове как о человеке талантливом, но плутоватом и отметил, что тот «угодничал» сначала перед Орловыми, когда они были в силе, а потом перед Потёмкиным, который способствовал в получении им высокого дипломатического поста. Ну а после смерти Светлейшего забыл о сём, и подверг порядки при дворе Императрицы Екатерины гнусной, недостойной мужского звания клевете. Причём написал так, как не осмелился бы сделать это при жизни Государыни.
Потёмкин на пути к супружеству
Потёмкин на пути к супружеству
По окончании кампании 1770 года Пётр Александрович Румянцев направил в Петербург генерал-майора Григория Александровича Потёмкина с победной реляцией, причём сделал это не случайно, а, следуя далеко идущим планам. В письме, адресованном Императрице, он сообщал:
По окончании кампании 1770 года Пётр Александрович Румянцев направил в Петербург генерал-майора Григория Александровича Потёмкина с победной реляцией, причём сделал это не случайно, а, следуя далеко идущим планам. В письме, адресованном Императрице, он сообщал:
«Ваше Величество видеть соизволили, сколько участвовал в действиях своими ревностными подвигами генерал-майор Потёмкин. Не зная, что есть быть побуждаемым на дело, он искал от доброй воли своей везде употребляться. Сколько сия причина, столько и другая, что он во всех местах, где мы ведём войну, с примечанием обращался и в состоянии подать объяснения относительно нашего положения и обстоятельств сего края, преклонили меня при настоящем конце кампании отпустить его в Санкт-Петербург…».
Да, действительно, Потёмкин прекрасно изучил не только характер театра военных действий, но глубоко вник и в политическую обстановку, разобрался в отношениях между турками и татарами, что было для Государыни очень важно.
Но Пётр Александрович Румянцев думал не только об этих, пусть даже и весьма важных обстоятельствах. От своей сестры Прасковьи Александровны Брюс, которая была близкой подругой Императрицы, он знал о сердечных неудачах Государыни, знал, что давно уже наметилась трещина в её отношениях с Орловым, но и новый избранник Васильчиков не удовлетворяет всем требованиям, которые она предъявляла к тому, кому вверяла своё сердце. Румянцев опасался, что стремясь иметь рядом мужское плечо, на которое можно опереться, Императрица может ошибиться в выборе этого плеча. А это дурно скажется на государственных делах. И, направляя в Петербург Потёмкина, он хотел лишний раз напомнить о нём Государыне, ведь не было секретом, что она симпатизировала этому человеку и даже принимала участие в его судьбе.
Многие искали, но не все могли найти ответ на вопрос, отчего вдруг Екатерина Вторая приблизила ко Двору ещё совсем молодого офицера, так уж особенно в ту пору себя ничем не зарекомендовавшего.
А если это любовь? Но что такое любовь? По словам архимандрита Паисия Величковского, первая добродетель – вера, а вторая добродетель – любовь к Богу и людям. Святой старец писал: «Любовь обнимает и связывает воедино все добродетели. Одною любовью весь закон исполняется, и жизнь богоугодная совершается. Любовь состоит в том, чтобы полагать душу свою за друга своего, и чего себе не хочешь, того другому не твори. Любви ради Сын Божий вочеловечился. Пребывающий в любви – в Боге пребывает; где любовь, там и Бог».
С любовью к России, с любовью к людям ступила на путь государева служения Императрица Екатерина Вторая.
У нас нет оснований, полагать, что приближение ко двору Потёмкина было проявлением каких-то особых чувств к нему со стороны Государыни. В её эпистолярном наследии, относящемся ко времени переворота, он почти и не упоминается.
Даже в пространном письме к Понятовскому, датированном 2 августа 1762 года, о Потёмкине говорится, как мы уже упоминали, лишь один раз, но даже возраст указан неверно... О своих чувствах к Потёмкину Государыня ничего не говорит, а если женщина не говорит о том сама, разве кто-то вправе что-либо за неё домысливать? А вот то, что в те годы рядом с нею был Григорий Орлов, Екатерина Вторая признаёт: «…сердце моё не хочет быть не ни на час охотно без любви…» и говорит: «Сей бы век остался, если б сам не скучал». Это признание показывает, что хоть власть завоевана, да счастья в жизни личной нет, и любовь, живущая в сердце, выходит за рамки узкого понимания этого чувства.
В первые годы её царствования проявление широкой сердечной любви было совершенно особым, непонятым хулителями всех мастей, понимавших любовь так, как ныне понимают её нынешние демократы.
Хотя термина «заниматься любовью» в годы Екатерины Великой и не было, само подобное словосочетание, появись оно случайно, было бы понято совершенно иначе. Сотворять любовь значило бы укреплять мощь Державы на благо людям, что б жили они, по определению Государыни, в довольстве.
Сердце Государыни не могло охотно жить без любви, но, если Григорий Орлов, по словам её сам скучал, любовь Екатерины в высоком понимании этого слова проявлялась в борьбе, суровой борьбе за могущество Российской Державы, а, стало быть, за благоденствие подданных.
Это всецело относилось и к Потёмкину. Вячеслав Сергеевич Лопатин писал: «Среди окружавших Государыню гвардейских офицеров Потёмкин выделялся своей учёностью и культурными запросами».
Григорий Александрович, как уже упоминалось, очень много читал, и чтение развивало его ум, а не являлось просто одним лишь удовольствием. Этим он уже был близок Екатерине, которая в бытность свою Великой Княгиней подружилась с хорошей, доброй книгой. Люди начитанные всегда находят немало тем для разговоров.
Потёмкин был принят в узкий кружок личных друзей Государыни не только как активный участник переворота и статный красавец, но – и это скорее всего в первую очередь – как человек высокой культуры и всегда приятный, умный собеседник, с которым и время легко летит и за которого не стыдно ни за столом, ни в салоне.
О его развитости свидетельствует и умение быстро, на ходу сочинять четверостишия, когда это очень к месту. Его литературные способности тоже привлекали Императрицу-философа, Императрицу-писательницу.
Посвящал ли он стихи Государыне? Судя по восторженному, трепетному отношению к ней можно с высокой достоверностью утверждать, что не мог не посвящать. Но, увы, они не сохранились, как и многие его письма и записочки личного характера, адресованные её в более поздние времена, в 70-е годы.
Почему-то многочисленные и до предела бестактные исследователи интимной стороны жизни Императрицы Екатерины Великой упрямо не замечают её исполненного отчаяния признания, сделанного в письме к Григорию Александровичу Потёмкину. Письмо то было писано приблизительно в феврале 1774 года и получило название «Чистосердечной исповеди». Оно, кстати, не скрыто за семью печатями. Одна из первых его публикаций сделана ещё в 1907 году А. С. Сувориным в книге «Записки Императрицы Екатерины Второй», о которой мы уже упоминали, и которая, кстати, репринтно переиздана в 1989 году.
Павел Васильевич Чичагов, первым возвысивший голос в защиту Государыни, писал: «При восшествии на престол ей было тридцать лет (точнее 33-ред.), и её упрекают за то, что в этом возрасте она была не чужда слабостей, в значительной доле способствовавших популярности Генриха IV во Франции. Но мы ведь к нашему полу снисходительны. Нелепой мужской натуре свойственно выказывать строгость в отношении слабого, нежного пола и всё прощать лишь своей собственной чувственности. Как будто женщины уже недостаточно наказаны теми скорбями и страданиями, с которыми природа сопрягла их страсти! Странный упрёк, делаемый женщине молодой, независимой, госпоже своих поступков, имеющей миллионы людей для выбора».

П.В. Чичагов, сын знаменитого екатерининского адмирала В.Я. Чичагова, не понаслышке, не по сплетням изучивший золотой век Екатерины и имевший все основания писать о нём правду, а не «сладострастно» измышлять с приставками «думается» и «иначе и не могла поступать» указал: «Всё, что можно требовать разумным образом от решателей наших судеб, то – чтобы они не приносили в жертву этой склонности (имеется в виду любовь – Н.Ш.) интересов государства. Подобного упрёка нельзя сделать Екатерине. Она умела подчинять выгодам государства именно то, что желали выдавать за непреодолимые страсти».
Петру Александровичу Румянцеву было известно многое из того, что делалось при Дворе, и он надеялся, что у Потёмкина есть серьёзный шанс занять место в сердце Государыни. Потому-то для Григория Александровича эта поездка в столицу и имела далеко идущие последствия. Представленный Императрице Екатерине Второй после долгого перерыва, он оставил след в её сердце.
Известный биограф Потёмкина, наш современник Вячеслав Сергеевич Лопатин, издавший личную переписку Потемкина и Екатерины Второй, отмечает:
«Камер-фурьерский журнал за октябрь и ноябрь 1770 года свидетельствует о том, что боевой генерал был отменно принят при дворе. Одиннадцать раз он приглашался к царскому столу, присутствовал на первом празднике георгиевских кавалеров, ставшем с тех пор традиционным собранием воинов, прославившихся своими подвигами. Гостивший в Петербурге брат прусского короля принц Генрих после нескольких бесед с Потёмкиным предрёк ему большое будущее.
Правда, в это самое время звезда братьев Орловых находилась в зените. Григорий Орлов пользуется полной благосклонностью Екатерины. Его братья Алексей и Фёдор прославили свои имена в Чесменской битве.
«Подлинно Алехан, описан ты в английских газетах, – писал Алексею младший брат Владимир. – Я не знаю, ведомо ли тебе. Конечно, так хорошо, что едва можно тебя между людьми считать». Алексей Орлов получил орден св. Георгия 1-й степени, Фёдор – 2-й. Но Государыне не выпускает из поля зрения Потёмкина».
Перед Императрицей был уже не придворный чиновник, а закалённый в боях генерал, не раз продемонстрировавший свою верность России и преданность престолу. Екатерина же ценила в людях мужество и отвагу.
Содействовала сближению Потёмкина и Императрицы графиня Прасковья Александровна Брюс, в девичестве Румянцева, действовавшая по поручению своего брата Петра Александровича. Потёмкин был удостоен особого внимания – он получил разрешение писать Императрицы лично, правда, поначалу было оговорено, что её словесные ответы он будет получать через своего друга придворного поэта Василия Петрова и личного библиотекаря Императрицы Ивана Порфирьевича Елагина.
Между тем, пришло время возвращаться в армию. Даже Григорий Орлов удостоил Потёмкина своих рекомендательных писем.
Война продолжалась. Позади был победоносный 1770 год. Турок били везде – и на суше и на море. Чесменское сражение полностью лишило Османскую империю флота. Но впереди ещё было более трёх лет войны, которые Потёмкин почти полностью провёл в действующей армии.
Императрица не забывала о нём, к тому же частенько напоминала ей об этом, якобы, влюблённом в неё генерале сестра Петра Александровича Румянцева Прасковья Александровна Брюс.
И вот в декабре 1773 года Григорий Александрович получил от Императрицы личное письмо, в котором она писала: «Господин генерал-поручик и кавалер. Вы, я чаю, столь упражнены глазением на Силистрию, что Вам некогда письма читать; и хотя я по Сю пору не знаю, преуспела ли Ваша бомбардирада, но, тем не меньше, я уверена, что всё то, что Вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему Вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, которого службу Вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то Вас прошу по-пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно написано? На сие Вам имею ответствовать: к тому, чтобы Вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к Вам весьма доброжелательна. Екатерина».
Прочитав письмо, Потёмкин понял, что пришла пора действовать. Каждой строкой, каждой фразой Императрица давала понять, что желает видеть его, и как можно скорее. О том же сообщил ему и Румянцев, получивший письмо от своей сестры.
Как уже упоминалось, Ар.Н. Фатеев справедливо заметил: «У великих людей есть какое-то предчувствие места и времени свершения или, по крайней мере, выбора своего великого дела».
Этот выбор сделал Григорий Александрович Потёмкин, когда, отказавшись от беспечной столичной жизни и службы при дворе, попросился в действующую армию. Теперь выбор за него сделала Государыня, о которой настало время сказать более подробно.
После свадьбы... "лежачего не бить"
Венчание Григория Орлова.
А после свадьбы было постановление Сената: Орлова с женою разлучить и сослать обоих в монастыри - его в мужской, её в женский
(Продолжение)
Екатерина Николаевна Зиновьева была кузиной – двоюродной сестрой – Григория Григорьевича Орлова. Родилась она в декабре 1758 года в семье генерал-майора Николая Николаевича Зиновьева, которого Императрица Екатерина Алексеевна вскоре после вступления на престол назначила обер-комендантом Петропавловской крепости. Её мать, Авдотья Наумовна, была дочерью флотоводца Наума Акимовича Сенявина, первого вице-адмирала русского флота, начальник Днепровской флотилии.
Род Сенявиных знаменит в России. Брат Авдотьи Наумовны, адмирал Алексей Наумович, командовал Донской, а затем Азовской военными флотилиями.
Кстати, и адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин, известный победами над турками в Дарданелльском (10-11 мая 1807 г.) и Афонском (19 июня 1807 г.) сражениях и особенно тем, что возглавлял 2-ю Архипелагскую экспедицию Балтийского флота (1805-1807 гг.), приходился дальним родственником Екатерине Николаевне.
Были у неё и два родных брата – Александр и Василий, письма к которым приведены выше. Но нас в данном случае интересуют братья двоюродные, а точнее, один из них.
У отца Екатерины Николаевны была родная сестра Лукерья Ивановна, в замужестве Орлова. Её-то сыновья и прославились в царствование Императрицы Екатерины Второй, а особенно знаменитым стал именно Григорий Орлов, полюбивший юную кузину Катеньку.
В 1773 году произошло событие, которое в дальнейшем серьёзно отразилось на его судьбе. Ушёл из жизни родной дядя, брат матери, Николай Иванович Зиновьев.
Принадлежавшее ему село Коньково он завещал пятнадцатилетней дочери своей Екатерине, которая выросла в нём в роскоши и неустанных родительских заботах.
Григорий Орлов часто бывал в Конькове, ведь его усадьба была совсем рядом, в Нескучном. Он и прежде отдавал должное необыкновенной красоте своей юной кузины, да совсем ещё мала была она. А вот теперь подросла, расцвела необыкновенно и осталась одна. Родители ушли из жизни почти одновременно – в один год.
Орлов с энтузиазмом взялся помогать Катеньке в решении наследственных дел, в организации хозяйства, которое было у неё немалым.
Как и когда вспыхнула взаимная любовь между Григорием Григорьевичем и Катенькой, сказать трудно. Документального подтверждения подобные факты, как правило, не имеют, ведь всегда остаётся какое-то таинство в отношениях между возлюбленными.
Надо полагать, что юная кузина давно уже отмечала и внешнюю привлекательность двоюродного брата, и его удаль богатырскую, а уж наслышана была о нём столько самого лестного и восторженного, что девичье сердце не могло не открыться для самой первой искренней и горячей любви.
К тому времени, возможно, и не без протекции Григория Орлова, Катенька Зиновьева стала фрейлиной Императрицы и оказалась в придворных кругах, где многим, зачастую и сама того не желая, вскружила головы. От женихов отбоя не было, но все получали отказ. Её сердце было занято, хотя не сразу узнали окружающие, кем занято оно.
Императрица, конечно же, узнала, что Орлов относится к Катеньке совсем не как к родственнице. Но она давно переболела этой своей любовью и осталась равнодушной к сообщениям о романе Григория с юной кузиной. Императрица уже приняла важное для себя решение и только ждала удобного момента, чтобы начать осуществление замысла. И вот такой случай представился. Орлов получил отставку…
Поняв бесполезность попыток вернуть любовь Государыни, он отправился в Москву, в своё Нескучное, и стал бывать в Конькове гораздо чаще, нежели прежде.
Правда, поначалу всё ещё на что-то надеялся и ждал вестей из столицы. И лишь в 1774 году, узнав, что возле Императрицы появился Григорий Потёмкин, уехал за границу. Понял, что надежд на возвращение в Зимний Дворец у него теперь не осталось. Потёмкин – это не Васильчиков. Потёмкина он знал и уважал. Ну а что касается соперничества, так ведь не Потёмкин «вытеснил» его из дворца, а Васильчиков, формально Васильчиков. Решение принимала, с кем ей быть, сама Государыня.
Что же касается Григория Орлова и его юной кузины, то сплетен, домыслов и предположений в литературе встречается великое множество, а потому обратимся сначала к достовернейшему источнику. В 1997 году издательство «Наука» выпустило книгу «Екатерина II и Г.А. Потёмкин: личная переписка 1769-1791». На титульном листе значится, что «издание подготовил В.С. Лопатин. Вячеслав Сергеевич всю свою жизнь посвятил доскональному изучению «золотого века Екатерины». Ещё в 1996 году «Наука» издала подготовленный им фундаментальный труд «А.В. Суворов. Письма». Его документальный фильм «Суворов», снятый в конце семидесятых к 250-летию великого нашего полководца, 11 лет не пускали на экран. Странно, поскольку фильм был правдив и патриотичен. Но кому-то из партократов не понравилось то, что автор полностью на достоверных и наглядных фактах развенчал мнимое величие Наполеона как полководца. Выступающая на словах за Россию некоторая часть партократии из окружения ярого русофоба Суслова, по умолчанию старалась сдерживать книги и фильмы, показывающие правду о величии наших замечательных предков.
Но я несколько отклонился от темы. О Вячеславе Сергеевиче упомянул, чтобы привести цитату из комментариев к тому переписки, где говорится о роковой любви Григория Орлова.
В.С. Лопатин в комментариях пишет:
«Княгиня Екатерина (Ульяния) Николаевна Орлова (урождённая Зиновьева – (1758-1781), двоюродная сестра князя Г.Г. Орлова, фрейлина Императрицы. Её любовь и преданность заставили Орлова пойти против мнения братьев и против церковных установлений, запрещающих браки между близкими родственниками.
5 июня 1777 года в тот самый день, когда шведский король удивил Панина и Екатерину своим неожиданным прибытием, Орлов обвенчался с Зиновьевой в церкви Вознесения Христа Копорского уезда Петербургской губернии. Князь показан на официальных приёмах через четыре дня после венчания, его жена – через десять.
Екатерина (одобрявшая этот брак) пожаловала 28 июня 1777 года княгиню Орлову в статс-дамы.
Однако, уже в августе Санкт-Петербургская консистория возбудила дело о незаконности брака.
Императрица вступилась за Орлова и лично писала архиепископу Гавриилу «о знаменитых заслугах князя передо Мною и Государством», прося прекратить дело, которое тянулось до февраля 1780 года…»
Интересно, что покои Орлова в Зимнем Дворце, так же как и покои Потёмкина были оставлены им пожизненно. Потёмкин останавливался в них, когда приезжал в столицу, Орлов же там бывал редко, а после женитьбы в 1777 году на Екатерине Зиновьевой и вовсе оставил их.
После свадьбы «лежачего не бить».
Ну а теперь попробуем более подробно остановится на том, что произошло в жизни Григория Григорьевича Орлова, посмотреть, попробуем выяснить, что же всё-таки известно о бракосочетании Григория Орлова и Екатерины Зиновьевой?
Современник писал: «О кратковременном супружестве знаменитого князя Григория Григорьевича Орлова известно весьма немного, и личность княгини Орловой представляется в каком-то тумане. Её брак со своим двоюродным братом, который был гораздо старше её летами, представляется чем-то загадочным. Задумал ли князь Орлов жениться на девице Зиновьевой вследствие любви и действительного увлечения ею, или в силу оскорблённого самолюбия и пошатнувшегося положения при дворе Екатерины: кто знает!»
Те современники Орлова, которым всегда и до всего есть дело, лишь бы дело это попахивало жареным, не могли смириться с чьим-то счастьем.
Случаи, когда между двоюродными братом и сестрой возникали отношения, прямо скажем, более чем просто родственные, не так уж и редки.
Вспомним Бунинский рассказ «Натали». Вспомним, наконец, кинофильм «Гусарская баллада», где хоть и не показаны таковые отношения, но поручик Ржевский задаёт главной героине, переодевшейся в мундир корнета, весьма прозрачный вопрос: «Скажите ка мне лучше, с наречённою моей у вас амурных счётов нет, надеюсь?»
Но это произведения художественные. А в жизни!? Светлейшему Князю Потёмкину те, кому до всего есть дело, приписывали любовные связи со всеми его племянницами, дочерями его родных сестёр – родство не столь уж дальнее. И эти выдумки пасквилянты обсуждали со сладострастием, забывая, что «моральный характер» поведения Григория Александровича признавал даже весьма и весьма сардонический пасквилянт эпохи Георг-Адольф Вильгельм фон Гельбиг – секретарь саксонского посольства при дворе Екатерины II, распространявший лживый миф о так называемых «Потёмкинских деревнях». Екатерина Великая даже потребовала, чтобы отозвали дипломата-сплетника, написав о нём: «Вы восторгаетесь моим… царствованием, между тем как ничтожный секретарь саксонского двора, давно уже находящийся в Петербурге, по фамилии Гельбиг, говорит и пишет о моём царствовании всё дурное, что только можно себе представить ...».
Так вот уж Гельбиг бы постарался расписать всё в самом дурном свете, если бы нашёл хотя бы малую зацепку – не нашёл.
И в то же время при дворе и в столичных салонах спокойно судачили об этаких связях. А на Орлова набросились единым фронтом… Быть может, потому что он уже потерял необъятную власть?!
Негодования начались за год до бракосочетания. То распускались слухи о том, что девица Зиновьева ждёт ребёнка от князя, то придумывали небылицы о том, что князь просто хочет прикрыть свой грех.
Интересно другое – церковь противилась браку, но ведь Орлов венчался со своей любимой в церкви, правда венчался в небольшой деревенской церквушке. Возможно, местный священник не решился отказать всесильному Орлову. Хоть и стало уже известно о его отставке, да отставка то казалась какой-то довольно странной – Императрица продолжала обходиться с Григорием Орловым довольно милостиво. Этого нельзя было не заметить.
Правда, гостей из высшего света на свадьбе не было – не решились, видно. Что же касается родных братьев Григория Григорьевича и родных братьев Екатерины Николаевны, сведений об их участии или неучастии в свадебных торжествах нет. Известно лишь то, что родные братья Орлова не одобряли его решения. Ну а родные братья Екатерины Николаевны, судя по переписке её с ними, всё-таки смирились с её выбором.
А впрочем, горячо любящим друг друга жениху и невесте так ли уж важны гости? Быть вместе, рядом, задыхаясь от счастья полного единения и духовного, и самого высшего, благословлённого Богом, и всего того, что непреодолимо влечёт друг к другу – вот что наиболее желанно!
Григорий Орлов, в сущности добрый по натуре, не чуравшийся в годы военные общения с солдатами, как с людьми, а не как с нижними чинами, в тот день был особенно щедр. Всем, кто пришёл поздравить своего господина, он подарил по рублю. И сказал, даже слегка прослезившись:
– Гуляйте, ребята, пейте за здравие невесты. Пейте за счастье моё с моею княгиней!
Итак, венчание состоялось. Не нам судить Орлова и его кузину. Да, с одной стороны, слишком близкое родство. А любовь?! Чувства?
Сенат специально собрался по вопросу об этом браке. Решение было жёстким: князя Григория Григорьевича Орлова с женою разлучить, брак считать недействительным, а Орлова и Зиновьеву отправить в монастыри.
Когда приговор принесли на подпись члену Сената генерал-фельдмаршалу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, он отодвинул его в сторону и с сарказмом сказал, что среди документов недостаёт выписки из постановления «о кулачных боях», в которой прямо говорится, что «лежачего не бить»! А потом прибавил:
– Ещё недавно мы все сочли бы за особое счастье приглашение на его свадьбу.
Императрица Екатерина кассировала постановление Сената, и брак вновь стал действительным. Ну а новоиспечённой княгине Орловой Государыня оказала милость высочайшую, сделав её статс-дамой. Кроме того она подарила ей свой портрет, а 22 сентября 1777 Своим Указом наградила Орденом Святой Екатерины и осыпала подарками.
Французский дипломат, барон Мари Даниель Бурре де Корберон в 1775 года прибывший в Россию в составе дипломатической миссии и живо интересовавшийся всем происходящим в столице, в своих записках отметил, что такое решение Императрицы «вызвало большую сенсацию».
Понимая, что оставаться в столице, да и вообще в России в такой обстановке неблагоразумно, молодая чета Орловых отправилась в Швейцарию, чтобы провести там медовый месяц без посторонних косых взглядов и негодований.
И Григорий, и его юная жена Катенька были необыкновенно счастливы. Катенька обратилась к поэзии и из Швейцарии отправила брату стихи, посвящённые обожаемому супругу:
Желанья наши совершились,
И все напасти уж прошли,
С тобой навек соединилась,
Счастливы дни теперь пришли.
Любимый мной,
И я с тобой!
Чего ещё душа желает?
Чтоб ты всегда мне верен был,
Чтоб ты жену не разлюбил.
Мне всякий край
С тобою рай!
Как бы в Петербурге ни осуждали женитьбу Орлова, а всё же твёрдость Орлова и его юной невесты, их самоотверженное стремление друг к другу не могли не вызвать уважение у многих, а у кого-то и плохо скрываемое восхищение. И не случайно, стихи, положенные на музыку и превратившиеся в романс, стали более чем популярны среди столичных жителей.
Вернувшись из зарубежной поездки, Орловы около двух лет прожили в столице, не выходя в свет и не устраивая никаких пышных балов и приёмов. Их гостями бывали лишь братья Григория Орлова и братья Екатерины Николаевны.
Секретарь саксонского посольства при дворе Екатерины II Георг-Адольф Вильгельм фон Гельбиг вспоминал об этой паре в своих мемуарах следующее:
«Княгиня сумела возвратить спокойствие в сердце Орлова; он предпочитал теперь частную жизнь прежнему бурному и блестящему существованию».
Английский посланник при дворе Екатерины II Гаррис Джеймс, лорд Мальмсбери отмечал:
«Орлов неразлучен со своей женою. Никакая побудительная причина не заставит его принять участие в делах».
Одно удручало супругов. Попытки завести детей оканчивались трагически. Дети рождались мёртвыми. Видимо играло свою роль столь близкое родство супругов, не случайно запрещаемое церковью.
Полагая, что заграничные доктора могут помочь в этом вопросе, Орловы отправились за границу. Они объехали почти все западноевропейские страны. Юную княгиню осматривали тогдашние знаменитости, но случалось, что этаких вот знаменитостей разыгрывали из себя шарлатаны. Так что Орловы попадали в руки не только медицинских знаменитостей, но и мошенников. Барон Фридрих Мельхиор Гримм, немецкий публицист, критик и дипломат, который был постоянным на протяжении многих лет корреспондентом Императрицы Екатерины II, в своих письмах называл эти поездки по врачам «охотой за шарлатанами».
Между тем, здоровье юной супруги постепенно ухудшалось по причинам, непонятным Григорию Орлову. Он ещё не терял надежды, что всё-таки станет отцом, да и Императрица Екатерина писала его супруге, чтобы по возвращении в Россию непременно привезла маленького Орлова.
Но неожиданно на одном из приёмов у врача настоящего, а не мнимого, Орлов услышал, что не о детях думать надо, а о том, как спасать саму княгиню, хотя и это уже проблематично, ибо болезнь переходит в необратимую стадию. Но какая болезнь? Откуда же болезнь, у совсем молодой и недавно ещё полной сил, здоровья и энергии женщины? Ответ сразил Орлова. У его супруги – чахотка.
Он не поверил. Снова провели обследование, прошли консультации у лучших медиков. Диагноз подтвердился...
Да и состояние резко ухудшилось.
Григорий Григорьевич не отходил от своей жены до последнего часа. Она угасала быстро, и вместе с нею угасал он, теряя своё богатырское здоровье не от болезни, а от переживаний.
Светлейшая Княгиня Екатерина Николаевна Орлова умерла фактически у него на руках. Это случилось 16 июня 1781 года в Лозанне. Ей шёл двадцать четвёртый год. Орлову не исполнилось и сорока восьми…
Княгиня Орлова была поначалу похоронена в Лозанне, но затем Григорий Григорьевич перевёз её тело в свинцовом гробу в Россию и предал земле в Александро-Невской лавре, в Благовещенской усыпальнице.
Императрица отозвалась на случившееся участливым, сочувственным письмом:
«Привыкши столько лет брать величайшее участие во всех до вас касающихся делах, не могла я без чистосердечного и чувствительного прискорбия уведомиться о рановременной потере любезной вашей княгини, моля Бога, да сохранит ваше здоровье и дни до позднего века...».
После похорон Григорий Григорьевич был в каком-то отрешённом состоянии. Братья перевезли его в Москву, в Нескучное, надеясь, что время – лучший лекарь, что он отойдёт, справится со своим горем. Но видно слишком много бед и разочарований выпало на его долю. После необыкновенного взлёта нелегко падать – не всем удаётся выдержать падений. Орлову на какое-то время удалось, потому что рядом была его Катенька, его юная княгиня, его обожаемая супруга. Злой рок вырвал и её у некогда всемогущего фаворита Императрицы.
Он так и не смог смириться с этой потерей. Неделями отказывался от пищи, не смыкал глаз, начинал заговариваться, порою, по отзывам современников, впадая в детство.
Григорий Григорьевич Орлов пережил супругу почти на два года и умер 13 апреля 1983 года…
Императрица вспоминала о впечатлении, произведённом на неё известием об этом:
«Потеря князя Орлова так поразила меня, что я слегла в постель с сильнейшей лихорадкой и бредом: мне должны были пускать кровь...»
А буквально за несколько дней до его кончины – 8 апреля 1783 года – был подписан Манифест о присоединении Крыма к России.
И в этом, и во многих других свершениях Золотого Века Екатерины есть немалая доля заслуг того, кто был одним из главных виновников вступления на Престол Великой Государыни, ведь он стоял рядом с ней в первые, самые нелёгкие годы её царствования. Его братья были верными соратниками Императрицы, а Алексей Орлов не только уничтожил турецкий флот при Чесме, но и ценой своей репутации спас Престол и Россию от самозванки Таракановой, пытавшейся сокрушить Российскую Империю по заданию всё тех же шакальих стай Запада, ненавидящих Русский мир с времён незапамятных и до нашего времени.
Экзамены - позади
Абитуриентка Глава четвёртая
Начались занятия - Экзамены - позади
Но вот экзамены остались позади, и начались занятия. К этому времени все перезнакомились. Наташа сдружилась с двумя сёстрами-близнецами. Они выделялись большими, по-настоящему русыми косами. Их звали Вера и Люба… Прямо вера и любовь. Не хватало только надежды и Премудрости – Софии. Была ещё Таня, весёлая такая, со стрижечкой короткой, симпатичная и умненькая девочка.
То, о чём говорили в первые дни знакомства, в самом начале первого курса, существенным не было по вполне ясной причине – тогда и не о чем почти было разговаривать и спорить. Разговоры касались самых простейших, всё ещё детским тех. Это уже позднее, после нескольких месяцев учёбы, иногда развёртывались целые дискуссии и на религиозные, и на исторические темы. Говорили даже о современности.
Да и возраст невелик. Всем было лет по семнадцать – восемнадцать – девятнадцать. Разве что староста постарше, посерьёзнее. Он отслужил срочную службу, а потому оказался не только старше, но и несколько более опытным в жизни, чем остальные. Его выбор профессии был более осознанным.
Преподаватель по истории объявила на первом занятии, что порядок таков: сначала изучаются несколько тем, потом по ним проводится зачёт.
Лекции слушали в МГУ. Не в основном здании, а в построенном несколько позже основного, ближе к метро «Университет».
Встречались обычно у выхода из метро. А погода стояла изумительная. Наташе иногда очень не хотелось идти на занятия, но она шла, потому что лекции были не только необходимы. Они были интересными.
Ей нравились лекции по Закону Божьему. Читал их моложавый священник. Читал вдохновенно. После лекций долго отвечал на вопросы.
Вопросы студенты задавали самые различные. И по теме, и чисто жизненные.
Во времена нынешние вопросы веры особенно сложны для некоторых. Годы атеизма оставили след. Большое значение имело то, что долгое время вера была под запретом. А потом, когда её как бы разрешили, «впереди паровоза» побежали самые лютые безбожники и жулики, «заподозрить» которых в искренней вере Бога, мог только слепой. Если бы это было иначе, не разваливалась бы и не обнищала бы страна в «лихие девяностые».
Конечно, лектор старался избегать политики или, во всяком случае, напрямую не касался её. Но люди верующие живут ведь среди населения страны, среди тех, кто верит, и кто не верит или верит по-своему.
Наташа и её друзья, несмотря на то, что готовились к экзамену, а затем к собеседованию по Закону Божьему, были, конечно, стерильны в знании этих всех вопросов, а потому с большим вниманием слушали то, что говорилось на лекции и то, что отвечал лектор студентам.
Им давали знания, которые составляли основу христианской религии. И поначалу никаких сомнений в том, что слушали, не возникало. Хотя вопросы неизбежно должны были возникнуть. И первый главный вопрос, который всегда волновал Наташу – как же это так получается: Бог, Создатель, Творец, Всевышний – один на всех, что признают все религии. Однако, на Земле образовались разные конфессии, приверженцы которых отстаивают каждый свои представления о Боге, причём отстаивают иногда до драки. Имеются в виду религиозные войны, которых немало знает история. Собственно, войны и подразделяются на религиозные, с одной стороны. Это в том случае, когда сильные мира сего, пряча истинные грабительские задачи, посылают свои войска, якобы, во спасение своего Бога. Или чисто грабительские, когда такие диктаторы, как, к примеру, Наполеон, лишь слегка прикрываются лживыми лозунгами, а иногда и не скрывают то, что идут именно грабить.
Преподаватель привёл на лекции первый приказ Наполеона по Итальянской армии: «Я вас поведу в самые плодородные на свете равнины! В вашей власти будут богатые провинции, большие города! Вы там найдёте честь, славу и богатство!»
Он говорил о том, что Наполеон отождествлял такие несопоставимые понятия как честь и богатство. Ведь богатство, по мнению агрессора, можно было «найти» лишь путём мародёрства, путём грабежа. Он и сам показывал в том пример.
А как католическая церковь относится к войнам? То есть к убийству!
Папа римский ещё в древние века обратился с призывом к европейским странам распространять католичество силой. Когда же шведские крестоносцы были разбиты Александром Невским на Неве в 1240 году, а на Чудском озере в 1242 году, папа римский проклял новгородцев, мужественно защищавших свою землю. За что проклял? За то, что не позволили врагу топтать свою землю, бесчестить жён, убивать стариков и детей и грабить, грабить, грабить, якобы, во имя Бога.
А ведь католики считают себя христианами…
В те дни, начиная учёбу, пока на первом курсе Богословского института, Наташа ещё полагала, что Христос и христианство связаны неразрывно, ибо христианство – есть учение Христа. Потом частенько приходилось удивляться многому.
Основным предметом была история. Она была ориентирована в большей степени на духовные аспекты. Наташа интересовалась историей давно, а часто возникавшие дома разговоры о том, что вся беда в разделении науки этой на светскую и духовную. Под влиянием разговоров она решила поступать на исторический факультет именно Богословского института.
Но лекции ей было посещать довольно трудно. Как-то по пути в здание МГУ, где проводились они, она сказала Тане, что, наверное, ей придётся некоторые лекции пропускать.
– Почему? – удивилась Таня. – Мне казалось, что они тебе нравятся.
– Очень нравятся, – согласилась Наташа. – Но дело в другом. Трудно ездить. Ведь мне приходится ехать сначала на трамвае или автобусе до метро, затем делать пересадку на «Кузнецком мосту». А там сама знаешь, какие толпы. И потом ещё сколько остановок до метро «Университет»!
– Ну и что?
– И всё это время на ногах. А у меня проблемы…
– С ногами? А я смотрю, ты прихрамываешь иногда…
Наташа пояснила, что умеет ходить и, не прихрамывая, но, это требует определённых усилий. А если забывает, то сразу начинает прихрамывать.
Таня попросила рассказать, если, конечно, можно.
– Отчего же… Расскажу, – согласилась Наташа, тем более, в тот день они встретились пораньше, чтобы погулять по парку и просто поговорить о всякой всячине.
– Раз тебе трудно ходить. Давай лучше посидим на лавочке, – предложила Таня.
– Не то чтобы трудно, но… просто устаёт сустав и начинает побаливать.
Они направились к берегу и выбрали лавочку, с которой открывался вид на Москву-реку. По реке ещё ходили теплоходы.
Посмотрев на них, Наташа заметила:
– Мама рассказывала, что раньше их называли речными трамвайчиками.
– Слышала… Теперь тоже иногда так зовут, но больше – теплоходами.
Устроившись на лавочке, Наташа некоторое время собиралась с мыслями и, наконец, начала рассказ. Время до лекции было ещё много, Наташа рассказывала довольно долго, поскольку Татьяна иногда задавала уточняющие вопросы. Она слушала внимательно, сочувственно покачивая головой.
А история же Наташи, вкратце, такова...
Продолжение следует…
Ссылки на предыдущие части :
Бойфренд с сайта BMW
Полина Трофимова Мария Шестакова.
Плата за игру. Глава 12
Бойфренд с сайта BMW
Весь следующий день после гибели странного соседа Юры, Лора не виделась со своей подругой. Девять дней, кладбище, поминки. Но едва всё это осталось позади, как сама поспешила в офис.
– Что случилось? почему такая взъерошенная? – спросила у неё Анна Ивановна.
– Будешь тут взъерошенной.
– Да что такое?
– Вчера были на могиле. Родители его, друзья, знакомые… А за нами следили. Остановились два джипа поодаль. Какие-то люди пошли.
– Так, может, просто на кладбище приехали… Сколько братков после разборок похоронено…
– Нет. Следили именно за нами. Когда мы у могилы остановились, и они остановились. А когда назад пошли, они поспешили удалиться, а потом за нами ехали…
– И много было? Что, целая банда? – переспросила Анна Ивановна, явно не доверяя рассказу подруги.
– Человека три или четыре. Да не поймёшь. Кто-то отходил, кто-то подходил.
– И что, так уж за вами и ехали? – снова недоверчиво спросила Анна Ивановна.
– Ну, так особо не следила, но вроде ехали. А потом мне показалось, что возле кафе один из тех джипов точно был. И такое впечатление, что раньше нас туда приехал.
Анна Ивановна взяла авторучку и сделала пометку в блокноте, пояснив:
– Вот это важная деталь.
– Почему? – удивилась Лора.
– Потом, всё потом. Мне ещё надо понять, что к чему. Да, а что дочери говорят? За ними следит кто?
– Младшую я уж не пугаю. Просто прошу быть осторожней. А старшая закрутилась. На кладбище даже не была. Правда, в кафе заявилась с новым бойфрендом.
– Вот как? И когда он появился? – спросила Анна Ивановна.
– Да кто ж его знает? Только шепнуть успела, что состоятельный, весьма приличный. Сегодня вот в Большой театр пригласил…
– Не рано ли? Сорока дней не прошло…
– А-а… – махнула рукой Лора. – Обижена она на отца. Таунхауз её продал. Да ещё и скрывал это. Ну и много чего. Он мне сказал такую фразу, что не поняла сразу… За день или за два как случилось. Узнал, что она прилетает, ну заявил, мол, как же не во время – вот если б через недельку. Что-то его торопило с решением судьбы. А тут объяснения… Надо ж было объяснять, почему машины заложены – и моя, и его, почему дача заложена, да… Ну ты всё знаешь, зачем повторять. Вот я теперь и осталась безлошадной. Иногда у младшенькой своей машину беру – её-то хоть не успел заложить, во время переписали на дочку. А так…
У Лоры зазуммерил мобильный. Она достала его, ответила:
– Легка на помине. Что говоришь? Встретите меня? Подвезёте? Это ещё зачем? Ну, хорошо, хорошо… Да, да, слушаю, слушаю…. Неужели так? Не может быть. Даже не верится. Ну хорошо, хорошо. Подожду вас здесь, у Ани.
Лора убрала мобильник и сказала Ане, которая с интересом прислушивалась к отрывочным фразам.
– Старшая звонила, неуловимая… Сказала, что они меня с Эдиком заберут. Что б одна домой не ездила, мало ли что. И вообще в восхищении. Он, Эдик этот, пообещал разобраться со всеми нашими тайными врагами. И с дачей разобраться, словом отбить её у тех, кому заложили.
– Так они сейчас сюда. Интересно, интересно взглянуть, – недоверчиво проговорила Анна Ивановна. – Что за фрукт? Поглядим.
– Ты как-то недоверчиво говоришь.
– Не верю в современных Монтекристов.
– Почему? – удивилась Лора.
– Узнай ка, подруга моя, где и как они познакомились. Что-то уж больно странно – слишком он «своевременно» появился.
– Знаю! Где ж ещё? В интернете. Она мне говорила.
– С ума сошла. Как же так можно? В интернете? – возмутилась Анна Ивановна.
– Да, нет, я не договорила. На сайте БМВ – есть такой сайт. Ну, владельцы таких крутых тачек там – народ приличный.
– Ну и жаргон у тебя, подруга…
– С кем поведёшься… Муж давно уж на такой язык перешёл, – пояснила Лора.
– Вот и результат, – сказала Анна Ивановна. – Ну а относительно тачек, сейчас посмотрим на их владельца…
Но дочь пришла одна, заявив, что Эдик ждёт в машине.
Анна Ивановна сразу набросилась на неё с вопросами, но та говорила о своём новом кавалере с таким восторгом, что убедить в чём-то было бесполезно.
А вечером и Лора позвонила ей в каком-то бурном возбуждении:
– Ты знаешь, Анечка, вот это прямо манна небесная. Вот это мужик! Домчал меня до дому… За нами следили. Действительно следили, но за ним две машины с его людьми шли. Он с ними был на связи, командовал, мол, видишь «мерс» справа лезет – отсеки, да и бээмвуху не пускай… Так, так…
Словом, действительно нам повезло.
– Сказки мне какие-то рассказываешь, – вздохнув, сказала Анна Ивановна. – И ты сама видела эти машины, которые за тобой гнались?
Но Лора не слушала. Она была взбудоражена каким-то невероятными обещаниями:
– И с дачей, сдачей поможет. Говорит, что отобьём у этих ростовщиков.
– Да откуда ж он взялся, монтекристо такой?
– У них сайт такой. Там все друг за друга горой. И на помощь в беде приходят, – не сдавалась Лора.
– Это он тебе рассказал?
– И дочка подтвердила!
– Я так понимаю, – с некоторой обидой сказала Анна, – что ты в моей помощи больше не нуждаешься?
– Ой, ну что ты, Анечка. Спасибо тебе огромное за поддержку. Ну что я тебя буду от дел отрывать. Пусть уж Эдик помогает.
– И за что, за какие такие коврижки он взялся помогать?
– Говорю же, в дочуру мою, похоже, влюбился.
– Ну и флаг вам в руки, дорогие мои! – в сердцах сказала Анна. – Впрочем, думаю, что ты ещё придёшь ко мне и довольно скоро. Так что надолго не прощаюсь.
И она положила трубку.
Продолжение следует
Как Тургенев Лушеньку от Медведихи спас
Когда мой отец, Николай Фёдорович Шахмагонов, работал над книгой "Любовные драмы Русских писателей", я помогала в подборе материалов и обратила внимание на некоторые интересные факты, которых он коснулся в очерках лишь вскользь.
А потому решила сделать несколько основанных на документах рассказов, новелл и просто зарисовок о фактах, малоизвестных, но касающихся известных писателей и поэтов - Тургенева, Льва Толстого, Александра Блока, Чехова, И начать с описания мужественного поступка Ивана Сергеевича Тургенева, который не побоялся заступиться за свою подругу детства - крепостную девушку.
Александра Шахмагонова
***
Юный Тургенев мчался домой на тройке по зимней заснеженной дороге. Каникулы! Они всегда радостны. Особенно, когда их проводишь в родных краях. А родными этими краями для Ивана Сергеевича Тургенева было Спасское-Лутовиново, впоследствии прославленное им в его замечательных произведениях.
Но тогда оно ещё не было широко известно, но было очень дорого ему. Каждый поворот дороги, каждая рощица, каждый перелесок на пути был знаком. А впереди была радостная встреча с матерью, с дворовыми, на глазах которых он вырос. И особенно встреча с Лушенькой, милой девчушкой, хоть и крепостной, но разделявшей его детские забавы.
Возница покрикивал на лошадей, и они летели по сияющему на солнце безбрежью, вздымая снежную пыль. Вот и усадьба, средь заснеженных деревьев, запорошённых клумб.
Тургенев, не дожидаясь, когда лошади встанут окончательно, почти на ходу спрыгнул прямо в снег и пошёл по целине к парадному входу, из которого уже высыпали дворовые, полюбившие своего молодого барина с самых его детских лет. Контрастировал его добрый характер с суровым характером матери, жёсткой, волевой, своенравной помещицы Варвары Петровны Тургеневой
Шумны приветствия, даже объятия со стороны некоторых дворовых сразу прекратились, едва из дверей показалась Варвара Петровна. Все почтительно расступились, отвешивая нижайшие поклоны и пятясь в разные стороны, освобождая ей дорогу к сыну.
Мать, широко расставив руки, шагнула к нему, обняла его и тут же, отступив на полшага, спросила суровым голосом:
– Почему ты не отвечал мне на письма?
– Я вам писал мама, – слегка склонив голову, – ответил Иван Тургенев.
– Негоже так с матерью поступать, – не слушая, а скорее не слыша ответа, продолжала Варвара Петровна. – Ну да ладно… Приехал и то слава Богу. И как снег на голову. Проходи в дом, как раз к обеду поспел.
– Только в порядок себя приведу и… Я мигом.
Он поднялся в свою комнату, быстро переоделся и, уже спускаясь по лестнице, подумал о том, что не так что-то, совсем не так было при встрече.
«Почему не выбежала Лушенька? Где она?»
Она ведь первой бросалась к нему на шею, конечно, если барыни не было рядом.
«Ну да ладно, появится. Небось, мать работой загрузили. Могла и не услышать, что я подъехал».
Стол был уже сервирован. Во главе его, как всегда, конечно, Варвара Петровна. По сторонам – те из домочадцев, что были в доме на правах гостей.
Тургенев поклонился всем сразу и сел на своё место, по правую руку от матери.
– Ну, подкрепимся, чем Бог послал, – сказала она.
Прежде сотворили молитву, снова сели, загремели столовыми приборами.
– Матушка, – вдруг нарушил молчание Тургенев. – Что-то я Лушеньки не заметил средь встречавших. Где она?
– А-а-а! – с досадой протянула мать и даже вилку бросила в свою тарелку. – Потом, всё потом. Обедай, покуда…
Тургенев насторожился, предчувствуя неладное. Но промолчал. Обедал молча, да и не особо разговорчивыми были домочадцы под суровыми взглядами Варвары Петровны.
А Тургенев невольно вспоминал своё детство. Вспоминал Лушеньку, с которой носились они по просторам Лутовиновским, собирали букеты полевых цветов. Иногда сиживали в садовой беседке, вдыхая аромат жасмина. А Лушенька плела веночки из собранных в поле цветов. Иногда в той же самой беседке он учил ее грамоте, учил писать и читать. Ученицей она была примерной, внимательной, да и схватывала всё на ходу.
После занятий пили чай с мёдом и вкусными пирожками, которые приносили им прямо с кухни, где только что достали из русской печки.
Бывало и вечерами удавалось прогуляться по саду, и Тургенев рассказывал ей много интересного из прочитанных им книг.
Какие чувства он испытывал к ней? Только ли как к подруге детства, как к той, что разделяла ещё безвинные его забавы? Как она относилась к нему?
Лёгкое, нечаянное прикосновение к ней вызывало трепет и биение сердца. А что ощущала она? Он этого не знал, но чувствовал расположение девочки, затем девушки к нему, искреннее расположение, наполненное трепетом.
Между ними не произошло никаких объяснений. Они были ещё слишком юны для того. А когда подросли немного, встречи стали редкими, ведь детство у крепостных кончается слишком рано. Для того, чтобы просто перекинуться несколькими фразами, Лушеньке надо было отпроситься у невероятного количества стоявших над нею в дворовой иерархии людей.
И всё же Иван Тургенев выкрадывал её для прогулки в саду, для чаепития в беседке – кто барину откажет?
Мать смотрела на всё это сквозь пальцы. Нужно же сыну с кем-то общаться, да и, вероятно, планы какие-то уже гнездились к голове её о методах воспитания сына.
И вот Лушенька исчезла.
После обеда мать призвала Ивана к себе для разговора.
– Так ты о Лушке спрашивал? Что й-то тебе надо? Интерес какой? – поинтересовалась она довольно грубовато, но тут жене дожидаясь ответа и сказала: – Нету её. У Медведихи она.
– У кого? У этой зверюги? Мама, как вы могли? Чем вам мешала. Вы это из-за меня? Но я ничего…
– Чего ещё? Ты то причём? Скажешь тоже. Обнаглела она, обнаглела дрянь. Бунтовала слуг.
Тургенев пришёл в ужас. Он знал, что эта Медведиха очень злая и деспотичная барыня, что она бьёт нещадно своих крепостных, жестоко наказывает их за каждую малейшую провинность. Розги, кнут – излюбленные её орудия «воспитательной работы».
– Ну, что молчишь? Что ещё? Продала я её, продала Медведихе.
Мать Тургенева была крута, и она не гнушалась суровых наказаний, но Медведиха!..
– Нет, нет, ничего больше, – поспешил сказать Тургенев.
– Ну, тогда ступай, отдохни с дороги, – махнула мать рукой и протянула ей для поцелуя.
Но Тургеневу было не до отдыха. Он отправился в людскую, чтобы расспросить, как это Лушенька бунтовала слуг?
Боялись рассказывать, а всё ж поведали ему правду. Вовсе никого не бунтовала Лушенька, вовсе никого не подговаривала против барыни. Просто заступилась за старого конюха, которого Варвара Петровна повелела высечь на конюшне за то, что лошадь оборвала постромки. А ведь сам же во время заметил и поправил и ничего не произошло. О том Лушенька и сказала барыне открыто, в лицо. Та хотела и её высечь за одно, но потом заявила:
– Не-ет, я те пожёстче наказание определю. Собирайся…
И повезла рыдающую и молящую о пощаде Лушеньку к Медведихе, приговаривая:
– Вот барыня то и научит тебя, как слуг бунтовать, вот, ужо, научит.
Видно сечь подружку детских игра сына она сочла н целесообразным. С глаз долой – и всё тут. Авось забыл уж сынок, да и не вспомнит её. Но он вспомнил.
Тургенев снова поднялся к матери.
– Позвольте мама, ещё оторву вас от дел.
– Ну, что там ещё? – недовольно спросила Варвара Петровна.
– Просьба у меня к вам, мама. Выкупите Лушеньку, очень прошу вас. У меня столько с ней связано – это ж детство моё. И ничего не думайте. Просто память детства.
– Что? Ты, сынок, совсем спятил – такое просить. Мне до того, что там у тебя с ней дела нет. Она бунтовщица…
– Извините, мама, – Тургенев покорно поклонился и вышел.
Он понял, что уговаривать мать бесполезно. Но доброе сердце Тургенева не могло смириться с такой вопиющей несправедливостью, с такой жестокостью…
План созрел на ходу. Быть может, слишком дерзкий, поскольку всё на эмоциях, всё на желании добиться справедливости.
Он решил выкрасть Лушу у Медведихи и спрятать в надёжном месте. Он продумал всё, кроме одного – прав то на Лушу у него никаких не было. Она ж была крепостной! Он даже не подумал о том, что её будут искать, что скрыться практически невозможно.
На следующий день, объявив, что отправляется на охоту, Тургенев взял ружьё, заехал сначала в соседнюю деревеньку, заплатил одинокому крестьянину за что, что пробудет у него в доме несколько дней с дамой. Тот с радостью освободил хату и отправился куда-то к родным в гости. В истинные свои планы Тургенев его, конечно, не посвятил.
Что ж, хата была более или менее, на околице деревни, да на отшибе. Можно проникнуть незаметно, да и отсидеться, пока всё утихнет.
Приготовив место для укрытия, отправился к Медведихе. Когда приехал в деревню, где была усадьба жестокой барыни, уже стемнело. Пробрался во двор, притаился, наблюдая за происходящим и обдумывая план действий.
И вдруг появилась Луша. Видно её послали в сарай за чем-то, что понадобилось в доме.
– Лушенька! – позвал он.
– Ой! – слегка вскрикнула девушка: – Иван Сергеич, неуж-то вы, дорой вы мой?!
– Иди скорее ко мне, иди…
Он обнял её, дрожавшую от волнения.
– Каково тебе здесь, Лушенька?
– Лихо, ой лихо., – сказала она, и слёзы брызнули из глаз.
– Всё, всё, милая девочка. Муки твои кончились. Я за тобой. Едем, едем немедленно.
– А мне надо взять…
– Ничего не надо, ничего. В санях – тулуп, а вещи, бог с ними… Нельзя ни минуты терять.
Замирая от страха и от счастья, Лушенька вслед за ним пробежала к тому месту, где была привязана лошадь, запряжённая в сани. Сани Тургенев попросил у крестьянина и тот впряг в них лошадь. Не везти же Луше верхом?!
И вот они в крестьянской хате, одни, совсем одни. Радостные от первой победы, уверенные, что всё обойдётся.
Оставим их одних, ведь никому неведомо, кроме них двоих, что было в крестьянской хате, у околице, от которой до заснеженного леса – рукой подать. Шумел лес, сбрасывал на ветру снежные хлопья с высоких сосен. А рядом, в домике, тишина. Даже огня не зажигали, чтобы до времени не выдать себя.
Трудно передать, что творилось в имении Медведихи и в имении Тургеневых, когда стало ясно и Варваре Петровне, что сын неспроста исчез из дому, и Медведихи, что Луша не сквозь землю же провалилась по пути в сарай, до которого всего-то шагов пятьдесят, не более.
Поначалу Варвара Петровна волновалась, не случилось ли что на охоте, хотела даже поиск организовать. Но тут примчались гонцы от Медведихи, решившей, что Луша сбежала назад, в Спасское-Лутовиново.
Вот тут-то Варвара Петровна стала догадываться, что произошло. Но как попросить Медведиху подождать, не поднимать шум. Та бушевала. Нет в Спасском-Лутовинове, значит, сбежала куда-то далеко. Был отправлен гонец к приставу. Тот и пожаловал поутру на место происшествия.
Долго ли коротко ли дознавался он, что же произошло, но ведь дознаться не так и сложно. Всегда кто-то что-то видит, всегда кто-то и что-то знает.
Вычислили беглецов, вычислили и место, где могли укрыться они. Как? Это осталось неизвестным, да только уже во второй половине дня явился пристав к тому самому домику на околице деревни.
Тургенев увидел его в окно и всё понял. Пристав, окружённый людьми Медведихи, приближался. Луша забилась за печку, сидела ни жива, ни мертва.
– Всё, я пропала, всё, теперь забьёт меня Медведиха насмерть…
Тургенев взял ружьё и решительно вышел на крыльцо.
– А… вот и виновник, – провозгласил пристав. – Ну, барин, не чуди. Давай как беглянку, да поскорее, а сам убирайся восвояси. Матушка, Варвара Петровна тебе там гостинцы приготовила.
– Стоять! – крикнул Тургенев. – Ещё шаг – и я стреляю!
Он поднял ружьё и направил его в сторону пристава с компанией. Понятно, что, дворовые Медведихи сами бы и шагу шагнуть не посмели. Они оставались крепостными, и права спорить с барином, хоть и не своим, не имели.
Но с властью не поспоришь, тем более, когда по существующим в ту пору законам, Тургенев был целиком не прав.
И всё же пристав не решился отбирать Лушу. Примчалась мать, Варвара Петровна, подъехала и Медведиха. Варвара Петровна, понимая, что конфликт вышел за все возможные рамки, что, как шепнул ей пристав, сынок-то уже каторгу себе заработал, тут же уговорила Медведиху взять за Лушу и деньги, ею уплаченные, да ещё и неустойку крупную.
Казалось, конфликт шёл к разрешению. Пристав уехал, да вот только на следующий день завели на Тургенева уголовное дело, по которому ему, как бунтарю, грозила многолетняя каторга.
Тут уж мать и связи все свои подняла и денег уплатила немерено. Удалось оставить сына на свободе, да только дело-то так и не закрыли, положив его на всякий случай под сукно.
Так и жил Иван Сергеевич под дамокловым мечом вплоть до отмены крепостного права. Когда сам по себе вопрос о побеге крепостной отпал.
Ну а что же Луша? Её Варвара Петровна, как будто бы и не стала наказывать, да ведь и не была она повинна в своём побеге, ну или повинна не полностью.
О дальнейших отношениях Тургенева и Лушеньки история умалчивает. Тут мы имеем дело со случаем, когда спасение делалось не ради себя, не ради каких-то целей. Иван Сергеевич спасал бедную девушку из жестокого рабства Медведихи, потому что иначе не могло поступить его доброе сердце настоящего Русского человека и великого Русского Писателя.
Он преподал урок матери, и хотя мы не знаем, восприняла ли она такой урок милосердия, можно сказать с уверенностью, что иные уроки, даже не доходя до существа того, для кого делаются, полезны тем, кто их преподносит. Несомненно, для Тургенева тот урок не пропал даром, и возможно именно в тот день, когда стоял он с ружьём наперевес перед толпой возглавляемой приставом, произошло превращение скромного юноши в настоящего мужчину. Мы ещё поговорим о том, какую роль сыграл Иван Сергеевич Тургенев не только в литературе, но и в Государственной службе России, о которой и ныне ещё известно очень мало, потому что о людях, принадлежащих к таковым службам, в газетах не пишут.
Василь Кузьмичёв. Вольный ветер юности
Василь Кузьмичёв
Вольный ветер юности Рассказ Для начала рассказа всегда необходимо вступление, но то, о чем я хочу рассказать, вряд ли нуждается в каком-то вступлении. Такое происходит так, будто звезды и луна отправили сигналы земным существам, наполнив их энергией и неудержимой страстью.
Уже после этого дурмана, Алексей и на службе и дома, не раз прогонял в из памяти события того вечера, они неуклонно возвращались вновь. ... Слышите ли вы запахи? Чувствуете ли всю полноту и весь спектр переживаний, которые невероятным образом дополняют воспоминания? Какой запах у детства? Как музыка способна дополнить картину и как странно эта картина наполняется скрытыми в памяти деталями? Сейчас, занимаясь достаточно сомнительными хозяйственными делами и наблюдая на лицах своих товарищей среди своих товарищей одинаково задумчивое выражение.
Увольнение прошло и хотя был только понедельник даже суток не прошло с того проишествия, события, вернее даже понять не возможно что это было... И иной раз вспоминать мучительно и больно, а не вспоминать точно умножать свою боль точно добавлять громкости в своём приёмнике... Вот эта улица, вот автобус кряхтя и вздрагивая подкатил к остановке. С криком старости открылись двери, и Алексей вышел на остановку. До дома , где прошло его детство шла широкая дорога, и каждое возвращение домой раньше, маленьким, она казалась нескончаемой. Но теперь от гигантских не объятных тополей по краям обычной деревенской улицы стояли высокие пеньки тополей, покрытые молодой порослью в некотрых местах, словно стыдливо прикрываясь от взглядов прохожих...
Вот он родной двор, вот она скамейка вот тропинка между сараями .... Легкая сырость травы, запах старого дерева будто дымкой окутали всё вокруг, вот то самое дерево и вот... Алексей даже встряхнул головой, но не смог отбросить воспоминания о первом поцелуе... Окна Татьяны соседской девушки выходили прямо на линию старых гаражей, бдительные родители то и дело подходили к окну и всегда что-то спрашивали или говорили ребятам... Конечно молодые люди не обращали внимания ни на что.... Свет из окна освещал только верхнюю часть семейки и страстного, крепкого чрезмерного сплетение рук видно не было. И вот уже всё, пора домой. Минуты полетели стремительно. Вот родители Татьяны ослабили бдительность занялись подготовкой к ужину вот.
Татьяна встала, и её девичий стан, словно берёзка под ветром, прогнулся к нему, легкое платье не смогло скрыть острые бугорки которые рвались точно вершины врываются в небосвод... Вот Алексей чуть наклонился и.... Закурить нет молодой человек?! Голос разорвал картину воспоминания ...Всё рухнуло. Вздрогнув и стыдясь, словно эти воспоминания могли видеть все вокруг, Алексей почти огрызнулся, что не курит, и с удивлением обнаружил что стоит на месте уж несколько минут... От двора детства почти ничего не осталось. Тополя изничтожены, скамейка вросла в землю и накренилась, тропинки заросли травой, гаражи и сараи нагнулись точно нищенки возле церкви. Вместо песочницы стихийная парковка автомобилей. Мельком бросив взгляд на зеленый «Пежо 307», который, как было заметно, аккуратно был припаркован, оставляя возможность для парковки и проезда других автомобилей, Алексей вошёл в подъезд.
Он почувствовал себя Гулливером, и, ему казалось, что ничего не осталось от огромной деревянной лестницы, ведущей на второй этаж. Вместо манящего полумрака, царившего возле двери, татьяниной квартиры горел мертвецким цветом плафон с энергосберегающий лампой.... Алексей спокойно прошёл мимо двери, не опасаясь отца Татьяны, который прежде точно знал, что именно он проходит мимо и распахивая дверь настеж грозил ремнём… – Тронешь дочку! Прибью! Чтоб только после свадьбы и то когда покажешь, что достоин! Поднявшись домой и поздоровавшись с родителями, спешно переоделся, чтобы скорее улизнуть от охов и родительских ласк, и вернуться на улицу. Это был субботний вечер, и безумно хотелось пива...
Хотелось скорее открыть бутылку и затянуться сигаретой... Желание вовсе не вредной привычки, а ощущения свободы... И вот, когда он расположился на скамейке возле дома и сделал первый глоток, хмель ворвался в голову мягкими но цепкими движениями. Снова потянуло к воспоминаниям... – Я и не сразу узнала тебя .... Привет как дела? Шепот знакомого голоса, далёкого родного не реального, словно ото сна пробудили Алесея. Он встал, повернулся внутри защемило грудь... «Как хорошо, что вечер!» – мелькнуло в голове, ведь уши, вечные предатели на всех экзаменах, наверняка вспыхнули огнём и горели даже в темноте... Перед ним стояла он, Танечка. Стояла и улыбалась, стояла прямо перед ним, словно тогда, в тот вечер... – Ты ли это? Звонко спросила она? – Я очень рад, я не ожидал ! Я... – Что, что так изменилась что напугала тебя и лишила дара речи? – Нет!! Ты не поверишь!.. Я вспоминал сейчас... Она не дала договорить, замсыпала вопросами: – Как родители? Как дома? Ты поднимался хоть? А ты не женился часом? – Танюшка!!! – Нет!
Не смей меня так назвать! – ответ и строгий, и мягкий одноврменно опять лишил Алесея речи... Глаза Татьяны сверкали игривыми огоньками. Она смотрела прямо ему в глаза... – Я, нет... Не женился. Причем здесь... Что за допрос ты учинила?! Ты вообще как здесь – я слышал ты уехала! – Уехала. Мы с подругой детей привезли к бабушке! Ау! Новости, одна за другой врезались в сознание Алексея и оставляли в нём уродливые и частые шрамы, которые ранили, хуже алкоголя. Он обернулся. У машины стояла девушка... – Оля сейчас едем! Кстати, ты помнишь это Алексей. Я про него рассказывала! – Да, конечно, помню! Я про него знаю, как мне кажется, больше его самого... Искра надежды вспыхнула и еле теплилась в сознании. – О! Ты немного выпил? Права есть? Мы детей отдали бабушкам и планируем повеселился! Отвезешь нас в клуб? – Ты дашь мне хоть слово сказать? Или спросить хоть ... – Не нуди! Отвезешь или нет? – в звонком голосочке появилась металлическая нотка... Перспектива посещения местного клуба, да ещё с двумя девушками!? –Я?! Не знаю что сказать… – Так, зануда, мы хотим на танцы. Вези, там и поболтаем! – Я за правами! Момент! События развивались быстрее, чем к этому был готов Алексей, но как будущий офицер – он всё время себя так подкалывал – не должен боятся трудностей!
Даже если впереди ситуация с ва-а-ще не понятным раскладом! Влетев в квартиру и сообщив, что едет с Таней на танцы, краем глаза увидел довольное лицо отца и отметил тревожный взгляд матери. Спешно собрался и выскочил на улицу. – Я готов! Хотя, если бы мы прогулялись где... – Нет, танцы только танцы! – Но как же я, да с двумя девушками с замужними... – С одной замужней, – перебила его Ольга. – С одной... Татьяна договорить не дала и резко, на манер команды, сказала по машинам! «Что это? Где я? Что со мной? Почему каждое её действие, слово, её движение, словно врезается в меня... Как я мог тогда расстаться с ней?» – Ты занудничать собрался?! Лицо такое сделал... – Татьяна… Прекратите меня подкалывать! Что там у вас в руках? Шампанское? Так пейте, пейте! Ольга, покажите ей! – Веди ровнее! А то!.. Как поставили машину, как ждали такси… Всё это медленно оттягивало воспоминание о том времени, про которое говорят: гордится есть чем, а рассказать некому нельзя! Возвращались шумно! Компания постепенно распадалась, причём, так же не понятно распадалась, как и собралась в баре!
Ноги гудели от плясок, алкоголь и грохот от музыки в тишине провинциального городка давили на мозг. Незаметно подошли к квартире Ольги. – А у меня есть ананас! – сказала Ольга. – Айда ко мне! Алексей, полуобнимая одной рукой Ольгу, другой крепко сжимая Татьяну, слегка отстранился и объявил, что ещё успеет купить шампанского. – Так и решим! – сказала Ольга. – Мы ждём! И две девушки остановились возле подъеда... Вот и кухня. Вот кусочки ананса плавают в пузырьках шапанского. Голова начинает раскалываться от усталости и выпитого. Ольга стояла спиной к окну и докуривала сигарету. Алексей крепко обнимал Татьяну за плечи .... За окном сгустилась ночь, дом тихонько засыпал... – Я вам постели приготовила, – вдруг, как показалось, виновато сказала Ольга. – Нет, я домой, – возразила Татьяна... – Перестань! – начала Ольга. – Мы ведь собирались ночевать у меня! – Да мне и пастель не нужна. Я на полу могу лечь! – с надеждой сказал Алексей, быстро трезвея. – Разбирайтесь сами. А я в душ... И ольга ушла ... – Как ты? – спросил Алексей. – Норм!
Но только молчи! Не надо сейчас, давай не сейчас, не-на… – но Алексей уже поймал губы Татьяны и поцеловал, крепко обнимая её ... Ответный поцелуй был резок и сладок. Но Татьяна тут же отстранилась, потом запустила руку в шевелюру прижалась и поцелуй словно глоток жаждущего воды путника опьянил их обоих... Шатаясь, Алексей сделал шаг и сел на стул. Татьяна, легко закинув ножку, обняла его и они так крепко сжали друг друга в объятиях, что хрустнули позвонки... –Ты меня сломаешь... – Нет, съем! – спускаясь от губ через шею всё ниже, говорил Алексей... Ответное движение груди будоражило и без того вырывавшуюся плоть ... – Я хочу. Молчи... Ещё поцелуй, и кофточка брошена, ливчик освободил острую девичью грудь,
Алексей сжал девичий стан руками и начал покусывать один за другим соски. Потом, то медленно, то быстрее переключаясь, он пытался орпуститься ниже. Внутри все пылало. Он встал, подняв девушки на руки, и понёс в спальню. – Стой! Нельзя… Оля… – Татьяна высвободилась из объятий. Алексей сценически упал на стул и протянул руки к Татьяне! Ольга вышла из ванны, замотанная в полотенце. – Так... Мебель не громить! Идите в душ! Тем более кое-кто почти готов к водным процедурам, – хихикнула она вскользь, любуясь голым торсом Алексея. – Мне нужно пять минут, – закрываясь, сказала Татьяна, сверкнув глазами на Ольгу и Алексея... Алексей сел на стул и залпом выпил бокал шампанского... – Смотри не вырубись! – Оль, я даже не начинал пить!
Щёлкнул замок в ванной. Алексея встал, оглянулся на Ольгу. Девушка полулежала на диване. Завязанное полотенце, коварно распускалось обнажая острые коленки и поднимаясь все выше и выше. Алексей повернулся к ней, и стал снимать джинсы. Он сложил и посмотрел в глаза Ольге. Ольга не отвела взгляд, лишь села на диван и сложила ноги по турецки. Коварное полотенце поползло вниз. Алексей подхватил его инстинктивно. Ольга вздрогнула, посмотрела на него: – Татьяна ждёт... – Я... Я.... Да что такое.... Вдруг шум воды прекратился... – Есть заколка? – сросила Татьяна. – Ща-ас! – Ольга встала, оказавшись лицом к лицу с Алексеем. Он вдохнул аромат её тела, мягкий и приятный запах геля для душа.
Линия тела от поднятой руки к месту, закрытому полотенцем. Узел ослаб достаточно, удерживаясь на острой девичьей груди, полотенце ниспадало на спину, почти оголяя её, гибкий позвоночник. Две ямочки на спине чуть приоткрылись, и стал виден разрез. – Поправь! – сказала Ольга. Алексей подчинился и отошел уступая дорогу. Душ для него оказался спасением, внизу всё болело, холодные струи освежали. Он никак не мог совладать с окрепшей плотью. Через пару минут вошла татьяна. В глазах её сверкали игривые искры, и в то же время сомнение и неловкость зависли в воздухе. Она смотрела на его плоть, находясь прямо напротив него. Алексей выключил воду и потянулся за полотенцем, которое висело за спиной Татьяны. Она не отстранилась а наоборот прильнула к его плоти... Стон вырвался из его груди... Татьяна не смогла сдержаться и сразу полностью охватила губами, и Алексей увидел как он полностью погрузился в нее, Вздрогнув от такого желанного прикосновения, он вздохнул полной грудью... Внутри словно вспыхнул огонь.
Татьяна не умолимо приближала его к концу, но в то же время хотелось что бы всё это не кончалось... Он с новыми силами начал покрывать Поцелуями, приоткрыл глаза он видел как половые губы будто раскрываются на встречу его языку, он проник внутрь, глубоко как только смог, до боли в мышцах... И тут же почувствовал что там внизу , еще плотнее сжались губы девушки... Он еле сдержался. В этот раз удалось... Слегка приподнявшись, он передвинул Татьяну вперед, а сам остался лежать на спине, что было перед ней он не видел. Татьяна встала на одну ножку, хитро улыбнулась, а потом одним движением, впустила в себя его плоть. Алексей смотрел как происходит движение, и этот момент врезался в память, кружил голову, сжимал грудь, стало тяжко дышать. Татьяна начала движение бёдрами то вперед, то назад, уже не поднимаясь.... Все....терпеть уже не было никаких сил....
В голове мелькнуло множество способов предотвратить конец действия, но спинка, ниспадающие кудри и эти движения.... Все было напрасно... Он резко обнял девушку и опрокинувшись вместе с ней на спину, успев выйти и...тут же теплая струя покрыла пушёк, животик и манящие уголки выступающих косточек... Татьяна издала стон.... А Алексею стало стыдно ....он и минуты не продержался .... И.теперь, что теперь? Ноги ещё сводила сладкая судорога, а плоть лишалась твердости... Татьяна на коленях, будто дикая кошка снова забралась к изголовью дивана проложила голову Алексея себе на колени... , Напротив, у края кровати сидела Ольга, её ноги были раздвинуть широко, Взгляд Алексея застыл между ними...
Внутри Ольги была белая восковая свеча Ольга постепенно освободила её и вставила опять, потом сомкнув колени звонко рассмеялась и опрокинулась на спину, запрокинув ножки вверх. В полумраке не было точно видно но воспалённый разум дорисовал всё, что скрывала темнота, а свеча, словно прожектор направлял его мысли. Он поднял глаза и посмотрел на Татьяну, он пытался прочитать хоть намек, уловить что нибудь... Но тщетно. На её лице была сдержанная улыбка, точно сомнение, или тайна... Она подглаживала его по груди и посматривала на Ольгу... Вдруг, наклонившись и скользнув грудью по лицу Алексея она потрогала смягчавшуюся плоть.... – Ольга иди к нам... Поближе ... Он не опасен сейчас.... Но скоро я его уговорю... Перебравшись на диван, Ольга легла рядом, демонстративно отстранившись от ребят. Легла и повернулась к ним ... Алексей поедал глазами ножки, острые коленки, прокаченный животик с напряженной боковой мышцей... Вот сейчас! Сейчас .... Вдруг Татьяна взяла его руку и положила на диван, ближе к Ольге,
Ольга легла на живот и накрыла руку юноши...потом постепенно начала двигаться вперёд. В этот момент Татьяна перебралась и оседлала Алексея... Пальцы его чувствовали каждую вену и мышцу Оли, и тут она, приподняв ягодицы, двинулась вперед достаточно для того, чтоб накрыть его руку. Алексей вздрогнул. Он осторожно и нежно двигался вверх... Татьяна вновь обхватила его губами, сил смотреть на все это не было, ломило шею голова потяжелела и он запрокинув её назад закрыл глаза... – Вот и готово! – сказала Татьяна. Она снова приподяла одну ножку с тем чтобы был виден сам процесс погружения и, улыбнувшись, впустила в себя лишь верхнюю часть...потом чуть глубже и вновь только верх, потом полностью отпустила его.... Алексей не помнил точно, что он видел, а что его воспалённый разум дорисовывал. Стон сдерживать сил не было он стонал... Ольга двигалась продвигалась, раскрываясь, к его пальцам.
Потом она повернулась встала на колени, подвинулась попочкой ближе к нему... Взяла его руку и впустила в себя два его пальца. Присев от удовольствия, она застонала... Алексей почувствовал как внутри Ольги все сжалось его пальцы были глубоко и хотелось двинутся ещё и ещё глубже, но Ольга всё сильнее и сильнее прижимала его руку к дивану, движения её стали резкими она почти села на руку Алексея, обняв себя за грудь. Алексею казалось он сходит с ума, ему хотелось целовать Ольгу, схватить её посадить над собой.... Хотелось...... В этот момент Татьяна полностью впустила его в себя и перестала двигаться ... Всё словно пошло кругом, словно туман окутал полумрак комнаты... Ольга резко отстранилась бросилась на спину, руки её скользнули вниз, она начала ласкать себя, поджала ножи к груди, замерла.... И заметалась на диване.... Её движения становились медленнее, но были прекрасными и страшно возбуждающими... Внутри у Алексея всё напряглось. Он словно пружина вскочил, и Татьяна оказалась у него на руках... Не отрываясь от девушки он провернул и поставил её на коленки на диван... Ольга повернулась на бок и наблюдала со стороны.... Татьяна застонала, выгнула спину и так широко раздвинула ноги что алексей вошёл ещё глубже....
Она билась головой по подушкам, то и дело двигаясь к Алексею всё резче и резче и вот ещё раз она привстала, схватила одной рукой его ягодицы и прижимала юношу несколько секунд к себе, потом издала стон и рухнула на кровать.... Алексей накрыл её сверху, но долго продержаться ему не удалось. Словно угодав момент, Ольга подсунула ему в руку маленькое полотенце.... Встало солнце... Первые лучи, осветив верхушки деревьев, стыдливо заглянули в комнату... На диване лежали измотанные, но со сладострастным выражением лица Алексей, крепко обнимавший Татьяну со спины, и всё так же отстранившаяся и подтянувшая ножки к груди Ольга...
Под таинственным светом кометы.
Великая Княгиня Екатерина Алексеевна.
Николай Шахмагонов.
Екатерина Великая в любви.
Документально-историческое повествование
Под таинственным светом кометы
Пуржила и вьюжила русская зима, взбивали огромные снежные перины неугомонные метели, очаровывало снежное безбрежье, таинственно мерцающее в лунном свете и сверкающее в свете солнечном. Дороги, порой, едва угадывались под снежными покровами. Без провожатых не найдёшь, куда ехать – заплутаешь в бесконечных просторах. Не доводилось прежде юной прусской принцессе Софии видеть столь необозримые, стремящееся к бесконечности, бескрайние просторы. Могла ли она представить себе в те минуты, что пройдут годы, и вся эта невообразимая красота русских полей, торжественность дубрав, рощ и лесов, одетых в белоснежное убранство непорочной чистоты, будет в её державной власти. Вряд ли могла предположить, что она, во время частых своих путешествий, будет проноситься в карете, поставленной на лыжи, по Российским просторам, жмурясь от слепящего снега днём и восхищаясь яркими факелами костров, освещающими царский путь ночью.
Резвые кони мчали прусскую принцессу в тревожную, но желанную неизвестность. Ей не было жаль прошлого – её влекло будущее, пусть туманное, но полное надежд. Ночами, когда вдруг стихали метели и умолкали вьюги, в безоблачном небе сверкала яркими мириадами звёзд огромная комета, одновременно и тревожная и завораживающая своею неземной, недоступной красотой и пугающей таинственностью. Она притягивала, она звала к раздумьям над странными поворотами судьбы, и принцесса София видела в ней какой-то высший знак, словно бы предназначенный именно ей Самим Богом. А где-то вдалеке, в глубине России, столь же заворожено глядел на комету двухлетний мальчуган, которому в будущем было суждено прославить мчавшуюся зимними дорогами принцессу в знаменитой оде «Фелица». И губы малыша, сидевшего на руках у няни, шептали первое в жизни осознанное им слово «Бог». Имя этого мальчугана – Гавриил Державин. Под таинственным знаком кометы въехала в Россию прусская принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, чтобы в крещении Православном получить имя Екатерины Алексеевны и стать супругой наследника Российского престола.
Годы спустя она отметила в своих «Записках»: «В Курляндии я увидела страшную комету, появившуюся в 1744 году; я никогда не видела такой огромной – можно было сказать, что она была очень близка к земле». И, может быть, эта комета утвердила её в том, что суждено ей высокое предназначение. Недаром же её тянуло в Россию, недаром она сделала всё возможное, чтобы убедить своих родителей в необходимости принять предложение Императрицы Елизаветы Петровны и мчаться, мчаться, сквозь заметённые метелями русские просторы в эту загадочную, быть может, даже отчасти пугающую, но такую желанную страну. Впрочем, того, что было у неё позади, прусской принцессе не было жалко. Она спокойно оставила небольшой заштатный прусский городишка, чтобы окунуться в необозримые русские просторы и в пучину столь ещё, по мнению родителей, изменчивую и непостоянную русскую действительность. Что оставила она в Пруссии? Почему не жалела о том, что оставила? О младенчестве и отрочестве будущей Российской Государыни известно не так уж много. Причина ясна: кто мог предугадать столь великое её будущее?
Известный биограф Императрицы А.Г. Брикнер указывал в монографии: «Императрица Екатерина в позднейшее время охотно вспоминала и в шутливом тоне говорила о той сравнительно скромной обстановке, при которой она, бывшая принцесса Ангальт-Цербстская Софья Фредерика Августа, родилась (21 апреля ст.ст., или 2 мая н.ст., 1729 года) и выросла в Штеттине, как дочь губернатора этого города, принца Христиана Августа и принцессы Иоаганны Елизаветы, происходившей из Голштинского дома и бывшей, таким образом, в довольно близком родстве с Великим Князем Петром Фёдоровичем». В 1776 году, касаясь, к слову, своего детства, Императрица Екатерина Вторая писала барону Гримму, собиравшемуся посетить Штеттин: «Я родилась в доме Грейфенгейма, в Мариинском приходе.., жила и воспитывалась в угловой части замка и занимала наверху три комнаты со сводами, возле церкви, что в углу. Колокольня была возле моей спальни. Там учила меня мамзель Кардель и делал мне испытания г. Вагнер. Через весь этот флигель по два или три раза в день я ходила, подпрыгивая, к матушке, жившей на другом конце…». А далее в шутку прибавила: «…может быть, Вы полагаете, что местность, что-нибудь значит и имеет влияние на произведение сносных императриц».
В другом письме она продолжила шутку: «Вы увидите, что со временем станут ездить в Штеттин на ловлю принцесс, и в этом городе появятся караваны посланников, которые будут там собираться, как за Шпицбергеном китоловы». Этими шутками Екатерина хотела, очевидно, подчеркнуть совершенную необычайность превращения принцессы из обедневшего рода сначала в Великую Княгиню, а затем и в Императрицу России. Но в словах её ощущается гордость за то, что она сумела сделать в России, чувствуется уверенность в том, что не слишком преувеличивали на новой её родине те, кто предлагал её дать высокое имя Матери Отечества. Но что же послужило причиной столь неожиданного вызова в Россию незнатной прусской принцессы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с тем, что происходило в ту эпоху в самой России. Династическая линия Романовых с конца XVII века и вплоть до восшествия на престол Екатерины Великой была весьма слабой и непрочной. Старший сын Петра I, царевич Алексей Петрович, был, как известно, умерщвлён. Сын Петра I от Марты Самуиловны Скавронской (будущей Екатерины I) умер в младенчестве.
Сын казнённого царевича Алексея Петровича, ставший в юные лета Императором Петром II, умер, а по некоторым данным, был отравлен. Детей у него не было по младости лет. Даже женить юного Императора не успели. Род Романовых по мужской линии пресёкся, и в 1730 году Верховный тайный совет остановил свой выбор на Анне Иоанновне, дочери Иоанна, старшего брата Петра, выданной ещё в 1710 году за герцога Курляндского и вскоре овдовевшей. Анна Иоанновна правила с 1730 по 1740 год, и это царствование оставило по себе тяжёлые воспоминания. После её смерти оседлавшие Россию во времена «бироновщины» иноземцы возвели на престол младенца Иоанна Антоновича при регентстве его матери, Анны Леопольдовны, которая была дочерью герцога Мекленбург-Шверинского и племянницы Петра I Екатерины Иоанновны.
Всё это было сделано в обход законных прав дочери Петра Первого Елизаветы Петровны. Наконец, русской гвардии надоела вся эта дворцовая кутерьма иноземцев, и 25 ноября 1741 года, разогнав неметчину, гвардейцы возвели на престол Елизавету Петровну. Императрица Елизавета Петровна, насмотревшаяся на возню вокруг престола малодостойной уважения своры алчных претендентов, стала искать возможность укрепить династическую линию. Но, увы, ей удалось найти лишь сына гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и Анны Петровны, дочери Петра I от Марты Самуиловны Скавронской, который был наречён сложным для понимания в России именем Карл Пётр Ульрих. С одной стороны, он был внуком Петра I, а один внук – Император Пётр II – уже правил в России с 1727 по 1730 год. Почему же не стать Императором второму внуку? Но, с другой стороны, претендент на престол, выбранный Елизаветой Петровной, её саму привёл в шок… Тем не менее, дело сделано, и отступать было некуда.
Императрица стала спешно искать невесту для наследника. Она решила все надежды возложить на то чадо, которое родится от брака дурно воспитанного и малообразованного Великого Князя с достойной супругой, если удастся подыскать таковую. Есть что-то мистически загадочное в том, что выбор пал именно на Екатерину Алексеевну, которая до Православного Крещения звалась: Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. Посудите сами: предлагались невесты гораздо более именитые. А.Г. Брикнер в «Истории Екатерины Второй» рассказал: «Уже в 1743 году в Петербурге был возбуждён и решён вопрос о женитьбе наследника престола. Ещё до этого, а именно в конце 1742 года, английский посланник сделал предложение о браке Петра с одной из дочерей английского короля; рассказывают, что портрет этой принцессы чрезвычайно понравился Петру.
С другой стороны, зашла речь об одной французской принцессе, однако, Императрица Елизавета не желала этого брака. Из записок Фридриха II видно, что Императрица Елизавета, при выборе невесты для своего племянника, «всё более склонялась на сторону принцессы Ульрики, сестры прусского короля». Зато выбор Бестужева пал на Саксонскую принцессу Марианну, дочь польского короля Августа III, ибо этот брак вполне соответствовал политической системе канцлера, союзу между Россией, Австрией и Саксонией, для сдерживания Франции и Пруссии». Как видим, рассматривались четыре претендентки, к одной из которых благоволила Императрица Елизавета Петровна, к другой сам Великий Князь Пётр Фёдорович, а к третьей, уже по политическим мотивам, канцлер Бестужев.
Но вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, Императрица Елизавета Петровна, никого не известив, завела переговоры о браке наследника с принцессой Софьей Фредерикой Августой Ангальт-Цербстской, родители которой были крайне бедны, а сама невеста к тому же ещё, приходилась жениху троюродной сестрой. Впрочем, полезнее ли были бы для России все вышепоименованные невесты, если учесть каков сам жених по умственному складу и характеру? Могла ли Россия стать для них столь же желанной Родиной, как для Екатерины, если они у себя дома купались в роскоши, а для принцессы Ангальт-Цербстской на её родине перспектив по существу не было? Одной из причин выбора явилось то, что принцесса Софья, став Великой Княгиней, не смогла бы опираться на силу придворных партий, которые неминуемо сгруппировались бы при любой из перечисленных выше претенденток. Такая опора могла серьёзно осложнить передачу прав на престолонаследие тому, кто появится на свет после бракосочетания Великого Князя. Многие историки пытались понять, почему выбор пал именно на Софию Фредерику Августу? А.Г. Брикнер предлагал такое объяснение: «С давних пор между русским двором и родственниками невесты Великого Князя Петра Фёдоровича существовали довольно близкие сношения.
Брат княжны Иоганны Елизаветы (матери будущей Императрицы Екатерины II), епископ Любский Карл, при Екатерине I был в России в качестве жениха Елизаветы Петровны. Он вскоре умер, но Елизавета Петровна не переставала питать некоторую привязанность к его родственникам. Ещё до мысли о браке Петра с принцессой Ангальт-Цербстской, они находились в переписке с её матерью…». Так или иначе, но решение было принято, и Елизавета Петровна тайно призвала в Петербург Иоганну Елизавету с дочерью. Причины приглашения, да и само по себе приглашение держались в тайне. Письмо из России. О том, с чего всё начиналось для неё самой, Императрица Екатерина Вторая подробно поведала в своих «Записках…»: «1 января 1744 года мы были за столом, когда принесли отцу большой пакет писем; разорвав первый конверт, он передал матери несколько писем, ей адресованных. Я была рядом с ней и узнала руку обер-гофмаршала Голштинского герцога, тогда уже русского Великого Князя.
Это был шведский дворянин по имени Брюмер. Мать писала ему иногда с 1739 года, и он ей отвечал. Мать распечатала письмо, и я увидела его слова: «…с принцессой, Вашей старшей дочерью». Я это запомнила, отгадала остальное и, оказалось, отгадала верно. От имени Императрицы Елизаветы он приглашал мать приехать в Россию под предлогом изъявления благодарности Её Величеству за все милости, которые она расточала семье матери». Когда родители уединились в кабинете, как поняла она, для совещания по поводу загадочного письма, София-Фредерика почувствовала необыкновенное волнение. Она ждала решения, понимая, что речь в письмо о ней, о её судьбе. И решение вскоре было вынесено: мать «отклонила отца от мысли о поездке в Россию». И вот тут будущая Императрица Екатерина проявила удивительную, даже весьма дерзкую инициативу: «Я сама заставила их обоих на это решиться, – вспоминала она в «Записках…», – Вот как. Три дня спустя я вошла утром в комнату матери и сказала ей, что письмо, которое она получила на Новый год, волновало всех в доме… Она хотела узнать, что я о нём знала; я ей сказала, что это было приглашение от Русской Императрицы приехать в Россию, и что именно я должна участвовать в этом. Она захотела узнать, откуда я это знала; я ей сказала: «через гаданье»…
Она засмеялась и сказала: «ну, так если вы, сударыня, такая учёная, вам надо лишь отгадать остальное содержание делового письма в двенадцать страниц». Я ей ответила, что постараюсь; после обеда я снесла ей записку, на которой написала следующие слова (гадалки, популярной в то время в Штеттине – Н.Ш.): «Предвещаю, что Пётр будет твоим супругом» Мать прочла и казалась несколько удивлённой. Я воспользовалась этой минутой, чтобы сказать ей, что если действительно ей делают подобные предложения из России, то не следовало от них отказываться, что это было счастье для меня. Она мне сказала, что придётся также многим рисковать в виду малой устойчивости в делах этой страны; я ей отвечала, что Бог позаботиться об их устойчивости, если есть Его воля на то, чтоб это было; что я чувствовала в себе достаточно мужества, чтобы подвергнуться этой опасности, и что сердце моё мне говорило, что всё пойдёт хорошо…». Затем предстояло ещё убедить отца, с чем Софья Фредерика Августа вполне справилась, пояснив, что по приезде в Петербург они с матерью увидят, надо ли возвращаться назад. Отец дал письменное наставление в нравственности и велел хранить в тайне предстоящую поездку. Детские годы на родине отложили определённый отпечаток на характер будущей Императрицы.
В.В. Каллаш в статье «Императрица Екатерина II. Опыт характеристики», опубликованной в книге «Три века», которая была издана к 300-летию Дома Романовых, сделал такой вывод: «Богатые природные силы, высокие требования, пошлая, монотонная, бедная обстановка – вот условия, среди которых слагался характер Екатерины в её юности. Сознание недюжинных сил, постоянные унижения, противоречия между думами и действительностью заставляют рваться из этой тягостной атмосферы, отдаляют от родных, воспитывают самостоятельность характера, находчивость, наблюдательность, усиливают самолюбие и тщеславие; упругость некоторых из этих черт развивается пропорционально давлению среды». Но что же ожидало в России? Принцесса не могла не думать о том на протяжении всей долгой дороги, но всего того, что предстояло ей испытать, конечно, предположить не могла. «Русская корона больше… нравилась, нежели особа» Петра». Петербург встретил прусскую принцессу оглушающим пушечным салютом. Праздничное великолепие города поразило её. Можно себе представить, сколько было самых ярких впечатлений от Зимнего Дворца, восторгов от величественного вида Петропавловской крепости, гармонирующего с Невой, скрытой белоснежным убранством.
Но это только начало – предстоял ещё путь в Москву, где находился двор, и где ждали её Императрица и Великий Князь. И этот путь поразил не меньше. И ныне ещё, в век торжества сокрушителей природы, Валдай живёт, борется с жестокосердием двуногих врагов лесов, озёр полей и всего в них живого, а тогда он сверкал своею нетронутою красотой в необыкновенном торжественном величии. Вышний Волочок, старинная Тверь, Клин представали пред глазами будущей Державной Повелительницы. А впереди была златоглавая Москва. Её золотистые сорок сороков окончательно сразили своим певучим серебряным звоном. И вот первая встреча с Елизаветой Петровной. Императрица слыла едва ли не первой русской красавицей своего времени. В «Записках Екатерины это подтверждено в полной мере: «Когда мы прошли через все покои, нас ввели в приёмную Императрицы; она пошла к нам навстречу с порога своей парадной опочивальни. Поистине нельзя было тогда видеть её в первый раз и не поразиться её красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была также очень красива; на Императрице в тот день были огромные фижмы, какие она любила носить, когда одевалась, что бывало с ней, впрочем, лишь в том случае, если она появлялась публично. Её платье было из серебряного глазета с золотым галуном; на голове у неё было чёрное перо, воткнутое сбоку и стоявшее прямо, а причёска из своих волос со множеством брильянтов…».
В то время самыми влиятельными сановниками при Елизавете Петровне были граф Алексей Григорьевич Разумовский (1709 – 1771) и его младший брат Кирилл Григорьевич Разумовский (1728 – 1803). Алексей Разумовский пользовался особенным расположением Елизаветы Петровны. Существует даже предание, что они венчались 13 июля 1748 года (по другим данным – в 1750 году). Елизавета Петровна была человеком верующим. Именно вера Православная помогала ей пережить все муки, унижения и издевательства Императрицы Анны в страшный для России век «бироновщины». Противозаконно отодвинутая от наследования престола, Елизавета Петровна видела в жизни немного добрых минут. Жених, предназначенный ей, умер, и предание о её сближении с Алексеем Разумовским не лишено оснований. Любившая хоровое пение Елизавета взяла к себе из придворной капеллы привезённого с черниговщины в Петербург молодого малороссийского казака Алексея Разума, красавца, имевшего замечательный голос. Вскоре он стал камердинером, а затем и вершителем судеб людских при малом дворе. Сразу после переворота 25 ноября 1741 года Алексей Разумовский стал поручиком лейб-кампании с чином генерал-поручика и действительным камергером, а в день коронации Елизаветы Петровны получил Орден Святого Андрея Первозванного, чин обер-егермейстера и богатые имения. В 1756 году Императрица произвела его в генерал-фельдмаршальский чин.
Все эти факты не могут не наводить на мысли об особой роли Алексея Разумовского в судьбе России. Императрица Елизавета Петровна по обстоятельствам государственного свойства не могла стать официальной супругой Алексея Разумовского. Да и нужды в том для продолжения уже существующих отношений в общем-то не было. При любом повороте дела Разумовский не мог стать отцом наследника престола, а к власти, по своему характеру, не стремился. Нужда была иная. Православная Императрица понимала, что отношения её греховны и, вполне возможно, стремилась узаконить их перед Богом, тем более, что неизмеримо важнее это сделать именно перед Богом, а не перед людьми. Верующим ведомо, что в 1-м послании Коринфянам есть такие строки: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться как я; Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Елизавета Петровна была нелицемерно верующей, и потому нет ничего невероятного в преданиях о её духовном браке. К примеру, Е.Анисимов в книге «Россия в середине XVIII века» тоже указывает на то, что «Алексея Григорьевича Разумовского традиционно принято считать тайным мужем Императрицы, обвенчанным с нею в подмосковном селе Перово в 1742 году».
Эта дата даже более достоверна, ведь Елизавета Петровна вступила на престол в 1741 году, и не было резона ждать до 1748 года. В 1747 году секретарь саксонского посольства Пецольд докладывал: «Все уже давно предполагали, а я теперь знаю достоверно, что Императрица несколько лет назад вступила в брак с обер-егермейстером». Интересные мысли о политике Императрицы Елизаветы Петровны высказал автор книги «Рождение новой России» В.В. Мавродин: «Вступление на престол Елизаветы, умело ускользнувшей в период подготовки дворцового переворота от пут французской и шведской дипломатии, и первые шаги обескуражили иностранных дипломатов!» «Трудно решить, какую из иностранных наций она предпочитает прочим, – писал о Елизавете Петровне Лафермлер. – По-видимому, она исключительно, почти до фанатизма любит один только свой народ, о котором имеет самое высокое мнение». Не из колыбели ли Елизаветинской государственности выросли воззрения на Русский народ у Екатерины Алексеевны? Известны слова Екатерины Великой: «Русский народ есть особенный народ в целом свете: он отличается догадкою, умом, силою… Бог дал Русским особое свойство». А.Г. Брикнер отметил: «Первое впечатление, произведённое принцессою Иоганною Елизаветою и её дочерью на Императрицу (Елизавету Петровну – Н.Ш.), было чрезвычайно благоприятно.
Однако, в то же время, они видели себя окружёнными придворными интригами. Для приверженцев проекта саксонской женитьбы приезд Ангальт-Цербстских принцесс был громовым ударом. Они не хотели отказаться от своих намерений. Саксонский резидент продолжал хлопотать об этом деле, обещая Курляндию, как приданое невесты Марианны». Историк Сергей Михайлович Соловьёв указал, что Бестужев был приведён в ярость приездом принцессы Ангальт-Цербстской и заявил: «Посмотрим, могут ли такие брачные союзы заключаться без совета с нами, большими господами этого государства». С первых дней пребывания при дворе принцессе Софии приходилось вести себя более чем осмотрительно, тем более, она не могла не заметить, что жениху своему не очень пришлась по душе.
Впрочем, это не слишком её огорчало, ибо Великий Князь также не тронул её сердца. Она и прежде знала, что её жених не блещет достоинствами. В своих «Записках…» она сообщила, что увидела его впервые ещё в 1739 году, в Эйтине, когда он был одиннадцатилетним ребёнком, и наслушалась весьма нелицеприятных отзывов: «Тут я услыхала, как собравшиеся родственники толковали между собою, что молодой герцог наклонен к пьянству, что его приближённые не дают ему напиваться за столом, что он упрям и вспыльчив, не любит своих приближённых и особливо Брюмера, что, впрочем, он довольно живого нрава, но сложения слабого и болезненного. Действительно, цвет лица его был бледен; он казался тощ и нежного темперамента. Он ещё не вышел из детского возраста, но придворные хотели, чтобы он держал себя как совершеннолетний. Это тяготило его, заставляя быть в постоянном принуждении. Натянутость и неискренность перешли от внешних приёмов обращения и в самый характер». Встреча с будущим женихом Великим Князем Петром Фёдоровичем, как видим, не произвела на Софию Фредерику Августа такого впечатления, как встреча с Императрицей Елизаветой Петровной. В своих «Записках…» она отметила: «Не могу сказать, чтобы он мне нравился или не нравился; я умела только повиноваться. Дело матери было выдать меня замуж. Но, по правде, я думаю, что русская корона больше мне нравилась, нежели его особа».
Да, мысли о Российской короне занимали её с того самого момента, как узнала о письме-приглашении, причём были столь настойчивы, словно подсказывал их кто-то Высший и Всемогущий. Эти мысли отодвигали на второй план все неудобства и неурядицы, которые стояли на пути к столь казалось бы призрачной цели. И не пугало даже то, что Великий Князь вовсе не был её интересен. Она вспоминала о тех своих впечатлениях: «Ему было тогда шестнадцать лет; он был довольно красив до оспы, но очень мал и совсем ребёнок; он говорил со мною об игрушках и солдатах, которыми был занят с утра до вечера. Я слушала его из вежливости и в угоду ему; я часто зевала, не отдавая себе в этом отчёта, но я не покидала его, и он тоже думал, что надо говорить со мною; так как он говорил только о том, что любит, то он очень забавлялся, говоря со мною подолгу». Мы привыкли рассуждать о Великом Князе Петре Фёдоровиче, пользуясь оценками современников, наблюдавших его в России – но в Россию явилось то (как в известном каламбуре) «что выросло, то выросло». Во всяком случае, о том, как проходило детство этого человека, обычно не упоминается.
Тем интереснее сообщение, сделанное одним из авторов книги «Три века», изданной к 300-летию Дома Романовых: «Пётр III был от природы слабым, хилым, невзрачным на вид ребёнком, который постоянно болел и выйдя уже из детского возраста. Дурное воспитание, легкомысленно и бестолково ведённое его голштинскими наставниками Брокдорфом и Брюммером, не только не исправило недостатков физической организации принца, но ещё более их усилило. Ребёнок часто должен был дожидаться кушанья до двух часов пополудни и с голоду охотно ел сухой хлеб, а когда приезжал Брюммер и получал от учителей дурные отзывы о принце, то начинал грозить ему строгими наказаниями после обеда, отчего ребёнок сидел за столом ни жив, ни мёртв, и после обеда подвергался головной боли и рвоте желчью.
Даже в хорошую летнюю погоду принца почти не выпускали на свежий воздух… Принца часто наказывали, причём в числе наказаний были такие, как стояние голыми коленями на горохе, привязывание к столу, к печи, сечение розгами и хлыстом». Словом, над ним, по сути, просто-напросто издевались, как над сиротой, ибо матери он лишился ещё в младенчестве, а отца в весьма малом возрасте. Известно, что жестокость воспитателей никогда не приводит к благим результатом, переламывает характер воспитуемого, зачастую образуя в нём ещё большее жестокосердие. Казалось бы, переезд в Россию мог стать спасением для четырнадцатилетнего отрока. Но никому и в голову не пришло поменять воспитателей, поскольку садисты, приставленные к Карлу-Петру-Ульриху, вполне естественно, на людях свою жестокость не демонстрировали. Да и вопросы воспитания при Дворе Елизаветы Петровны не стояли выше тех, что испытал уже на себе высокородный отрок. «И здесь нисколько не заботились о физическом развитии наследника престола, заставляя его подолгу и чуть не до изнурения проделывать всевозможные балетные па». В результате за три года пребывания в России Пётр перенёс три тяжёлых болезни. И снова никто не подумал о физической закалке. Жизнь текла по-прежнему.
Симпатий ни у кого наследник престола не вызывал. Да, впрочем, и был он далеко не симпатичен. Французский поэт, писатель и историк, член Французской академии Клод Карломан Рюльер оставил его словесный портрет: «Его наружность, от природы смешная, сделалась таковою ещё более в искажённом прусском наряде; штиблеты стягивал он всегда столь крепко, что не мог сгибать колен, и принуждён был садиться и ходить с вытянутыми ногами. Большая, необыкновенной фигуры шляпа прикрывала малое и злобное, но довольно живое лицо, которое он безобразил беспрестанным кривлянием для своего удовольствия». И вот прибывшая в Россию принцесса София должна была стать супругой этакого чучела. Рюльер, кстати более расположенный к Великому Князю, нежели к принцессе, тем не менее, оставил портрет её, представляющий явную противоположность вышеописанному портрету: «Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд, – всё возвещало в ней великий характер. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, прекрасный ряд зубов, нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок.
Волосы каштанового цвета отличной красоты, чёрные брови и таковые же прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны. Гордость составляла отличительную черту её физиономии. Замечательные в ней приятность и доброта для проницательных глаз не что иное, как действие особенного желания нравиться…». «О свадьбе слышала с отвращением…» Между тем началась подготовка к свадьбе. Столь радостное, казалось бы, событие, было омрачено взаимным равнодушием между женихом и невестой. Об истинном отношении Екатерины к Петру Фёдоровичу говорят такие строчки: «Я с отвращением слышала, как упоминали этот день (свадьбы – ред.), и мне не доставляли удовольствия, говоря о нём. Великий Князь иногда заходил ко мне вечером в мои покои, но у него не было никакой охоты приходить туда: он предпочитал играть в куклы у себя; между тем, ему уже исполнилось тогда 17 лет, мне было 16; он на год и три месяца старше меня».
Свадьба была назначена на 21 августа 1745 года. Образцами для торжеств, как писал биограф, служили подобные церемониалы при бракосочетании французского дофина в Версале и сына короля Августа III в Дрездене. Императрица Елизавета Петровна, будучи нелицемерно набожной, пожелала, чтобы жених и невеста подготовились к этому обряду по православному, то есть по всем правилам выдержали Успенский пост. 15 августа она вместе с ними отправилась причаститься в церковь Казанской Божьей Матери, а затем, спустя несколько дней, водила их, причём пешком, в Александро-Невскую лавру. «Чем больше приближался день моей свадьбы, тем я становилась печальнее и очень часто я, бывало, плакала, сама не зная, почему, – признавалась Екатерина. – Я скрывала, однако, насколько могла, эти слёзы, но мои женщины, которыми я всегда была окружена, не могли не заметить этого, и старались меня рассеять».
Накануне свадьбы двор переехал из Летнего в Зимний дворец. «Вечером, – вспоминала Екатерина, – мать пришла ко мне и имела со мною очень длинный и дружеский разговор: она мне много проповедовала о моих будущих обязанностях; мы немного поплакали и расстались очень нежно». Ранним утром 21 августа Петербург был разбужен пушечной пальбой. Торжества начались. Сама Императрица Елизавета Петровна приняла деятельное участие в приготовлениях Великой Княгини. Уже в 8 часов утра она пригласила Екатерину в свои покои, где дворцовые дамы стали её причесывать. «Императрица пришла надеть мне на голову великокняжескую корону и потом она велела мне самой надеть столько драгоценностей из её и моих, сколько хочу, – читаем мы в Записках. – …платье было из серебристого глазета, расшитого серебром по всем швам, и страшной тяжести». Примерно в три часа дня Императрица усадила в свою карету Великого Князя Петра Фёдоровича и Великую Княгиню Екатерину Алексеевну и повезла их «торжественным шествием» в церковь Казанской Божьей Матери.
Там и состоялся обряд венчания, который провёл епископ Новгородский. У врачей, очевидно, уже в ту пору появились сомнения относительно способностей Великого Князя сделать то, что от него требовалось в первую очередь – то есть дать потомство. Елизавета Петровна с каждым годом, да что там годом, с каждым месяцем, а может быть, и днём убеждалась в неспособности Петра Фёдоровича занять престол русских царей, когда придёт время. И вот бракосочетание состоялось. Торжества продолжались десять дней и превзошли своим великолепием те, которыми гордились в Версале и Дрездене. Двор Императрицы Елизаветы и без того поражал иностранцев своим богатством, своим гостеприимством, необыкновенными празднествами. А во время торжеств окончательно сразил всех.
В день свадьбы во дворце дали торжественный бал, который, правда, продолжался всего около часа, и на котором танцевали только полонезы. Что же было потом? Конечно, первая ночь после свадьбы – таинство, которое принадлежит новобрачной паре. Быть может, так оно и было бы, и мы не прочли бы в «Записках Императрицы Екатерины II» того, что можем прочесть, не прочли, если бы всё случилось не так, как у юной Великой Княгини и Великого Князя. В «Записках…» Императрица не скрывала ряда своих последующих связей и увлечений, но лишнего не допускала ни в единой строчке. Здесь же, говоря о первой ночи, которую принято именовать брачной, весьма и весьма откровенна: «Императрица повела нас с Великим Князем в наши покои; дамы меня раздели и уложили между девятью и десятью часами. Я просила принцессу Гессенскую побыть со мной ещё немного, но она не могла согласиться. Все удалились, и я осталась одна больше двух часов, не зная, что мне следовало делать: нужно ли встать? Или следовало оставаться в постели? Я ничего на этот счёт не знала…». Вот на этой строчке хотелось бы задержать внимание читателей. Многие авторы пытались убедить нас, что принцесса София приехала в Россию чуть ли уже не прошедшей огни, воды и медные трубы.
Иные даже заявляли, что рвалась она сюда, поскольку «очень любила гусар». Оставим на совести пасквилянтов их заявления. Но вот что вспоминала Императрица о том, каковы её представления об отношениях мужчины и женщины были до свадьбы: «К Петрову дню весь двор вернулся из Петергофа в город. Помню, накануне этого праздника мне вздумалось уложить всех своих дам и также горничных в своей спальне. Для этого я велела постлать на полу свою постель и постели всей компании, и вот таким образом мы провели ночь; но прежде, чем нам заснуть, поднялся в нашей компании великий спор о разнице обоих полов. Думаю, большинство из нас было в величайшем неведении; что меня касается, то могу поклясться, что хотя мне уже исполнилось 16 лет, но я совершенно не знала, в чём состояла эта разница; я сделала больше того, я обещала моим женщинам спросить об этом на следующий день у матери; мне не перечили и все заснули. На следующий день я, действительно, задала матери несколько вопросов, и она меня выбранила». Полагаю, что сомневаться в искренности написанного, оснований нет. Ведь в тех главах «Записок», где речь идёт об отношениях с Сергеем Салтыковым, Станиславом Понятовским, с Григорием Орловым, Императрица достаточно откровенна. Вот и в описании того, что с нею произошло после свадьбы она, судя по тону повествования, ничего не скрывает: «Наконец, Крузе, моя новая камер-фрау, вошла и сказала мне очень весело, что Великий Князь ждёт своего ужина, который скоро подадут. Его Императорское Высочество, хорошо поужинав, пришёл спать, и когда он лёг, он завёл со мной разговор о том, какое удовольствие испытал бы один из его камердинеров, если бы увидал нас вдвоём в постели; после этого он заснул и проспал очень спокойно до следующего дня... Крузе захотела на следующий день расспросить новобрачных, но её надежды оказались тщетными; и в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения». Девять лет без изменений!
Эту фразу Екатерина Алексеевна повторила затем, уже в 1774 году, в письме, адресованном Григорию Александровичу Потёмкину. А если точнее – именно с такой фразы и начато письмо, названное «Чистосердечной исповедью». Но всё это было через много лет. Пока же необходимо заметить, что именно в те праздничные для всех, кроме Екатерины, дни, она окончательно убедилась в том, что в личной жизни ей счастья ожидать не приходится. Какими бы сложными ни были её отношения с матерью, но мать была и оставалась для неё самым близким и дорогим человеком, и предстоящий отъезд ещё более усугублял положение. «Со свадьбы моё самое большое удовольствие было быть с нею (с матерью – ред.), – признавалась Екатерина. – Я старательно искала случаев к этому, тем более, что мой домашний уголок далеко не был приятен. У Великого Князя всё были какие-то ребячества; он вечно играл в военные действия, окружённый прислугой и любя только её. В «Чистосердечной исповеди», адресованной Потёмкину в 1774 году, есть такая строчка: «…есть ли б я смолоду получила мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась». А ведь такие мысли родились у Екатерины не сразу, не вдруг – они выстраданы нелёгкой её жизнью в первые годы после замужества. Казалось бы, что ещё надо – достаток, положение, колоссальные перспективы… Но, недаром говорят, что «богатые тоже плачут». Люди великие считают богатством не то, что считают таковым князи из грязи. Екатерина не случайно увлекалась философией – именно в философии она находила мудрые мысли, созвучные со своими душевными чаяниями. Ещё в первые дни пребывании в России произошёл такой любопытный случай…
В Петербург приехал граф Гюлленборг, который ещё прежде, во время одной из встреч в Гамбурге, поговорив с юной принцессой, посоветовал её матери Иоганне Елизавете побольше заниматься с дочерью, у которой уже проявился философский склад ума. И предрёк принцессе большое будущее. И вот во время встречи в Петербурге, он поинтересовался, как обстоят дела с занятиями философией «при том вихре» событий, в котором она пребывает, и как она оценивает сама себя. Екатерина стала рассказывать о своих делах и занятиях, и, видимо, в чём-то показалась графу самонадеянной, потому что он с тёплой улыбкой сказал: – Пятнадцатилетний философ не может ещё себя знать! А потом, подумав, предупредил, что в своём положении она окружена множеством подводных камней, о которые легко можно разбиться, если не закалить душу. А для закалки её надо питать самым лучшим чтением. Граф рекомендовал «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Письма к Луцилию» и «О счастливой жизни» Луция Аннея Сенеки, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье и другие труды.
«Я тотчас же послала за этими книгами, – писала впоследствии Екатерина Великая, – которые с трудом тогда нашли в Петербурге». Графу же обещала набросать свой портрет, дабы он мог видеть, знает ли она себя. «Действительно, я изложила в письме свой портрет, который озаглавила: «Набросок начерно характера философа в пятнадцать лет», и отдала ему. Много лет спустя, а именно, в 1758 году, я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиной знания самой себя…» Быть может, именно тот разговор подтолкнул её к чтению книг по философии, к попытке осознать своё место в бурном и неустойчивом мире. Много созвучного своим мыслям она нашла у Сенеки, который в своё время писал: «Достичь счастливой жизни трудно, ибо, чем быстрее старается человек до неё добраться, тем дальше от неё оказывается, если сбился с пути; ведь чем скорее бежишь в противоположную сторону, тем дальше будешь от цели. Итак, прежде всего, следует выяснить, что представляет собой предмет наших стремлений; затем поискать кратчайший путь к нему, и уже по дороге, если она окажется верной и прямой, прикинуть, сколько нам нужно проходить в день и какое примерно расстояние отделяет нас от цели, которую сама природа сделала для нас столь желанной».
Вот одна из дорог, указанная философом: «Угождайте же телу лишь настолько, насколько нужно для поддержания его крепости, и такой образ жизни считайте единственно здоровым и целебным. Держите тело в строгости, чтобы оно не переставало повиноваться душе: пусть пища лишь утоляет голод, питьё – жажду, путь одежда защищает тело от холода, а жилище – от всего ему грозящего. А возведено ли жилище из дёрна или из пёстрого заморского камня, разницы нет: знайте, под соломенной кровлей человеку не хуже, чем под золотой. Презирайте всё, что ненужный труд создаёт ради украшения или напоказ. Помните, что ничто, кроме души, недостойно восхищения, а для великой души всё меньше неё». Да, если бы Екатерине смолоду достался муж, достойный любви, в личной жизни всё могло бы сложиться иначе.
В своих «Записках» она размышляла об этом: «Я очень бы любила своего супруга, если бы только он захотел или мог быть любезным; но у меня явилась жестокая для него мысль в самые первые дни моего замужества. Я сказала себе: если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастнейшим созданием на земле; по характеру, каков у тебя, ты пожелаешь взаимности; этот человек на тебя почти не смотрит, он говорит только о куклах или почти что так, и обращает больше внимания на всякую другую женщину, чем на тебя; ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого, следовательно, обуздывай себя, пожалуйста, насчёт нежностей к этому господину; думайте о самой себе, сударыня. Этот первый отпечаток, оттиснутый на сердце из воска, остался у меня, и эта мысль никогда не выходила из головы; но я остерегалась проронить слово о твёрдом решении, в котором я пребывала – никогда не любить безгранично того, кто не отплатит мне полной взаимностью. Но по закалу, какой имело моё сердце, оно принадлежало бы всецело и без оговорки мужу, который любил бы только меня, и с которым я не опасалась бы обид, каким подвергалась с данным супругом. Я всегда смотрела на ревность, сомнение и недоверие и на всё, что из них следует, как на величайшее несчастье, и была всегда убеждена, что от мужа зависит быть любимым своей женой, если у последней доброе сердце и мягкий нрав. Услужливость и хорошее общение мужа покорят её сердце».
А ведь такой человек уже жил на земле… Близкий по духу и сердцу, но в то время ещё очень и очень далекий и вовсе её неизвестный. Да к тому же совсем ещё ребёнок. Как не обратить внимания на схожесть сокровенных мыслей юной Великой Княгини и первых осознанных высказываний отрока Григория Потёмкина, которые он оставил на полях книг своей родительской библиотеки. Известный мемуарист ХIX века Сергей Николаевич Глинка, побывавший в селе Чижово Смоленской губернии, его время ещё сохранившемся, нашёл в одной из книг подчёркнутые рукою Григория Потёмкина слова: «Изобилие денег не то, что благоразумие души: деньги истрачиваются». И Григорий начертал возле этих строк: «И это сущая правда, и я целую эти золотые слова!». Но до встречи Екатерины и Потемкина было ещё очень и очень далеко.
Матерь мира
Геннадий Лучинин
МИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ МАТЕРЬ МИРА
Дивное диво происходило кругом – до тех пор, пока я не почувствовал его и в себе... И не сразу понял – и сейчас не знаю наверняка – сказка это была, или же была это самая настоящая и живая быль, перенесшая нас – по всей видимости – далеко вперед. Или – не очень далеко... В день сегодняшний.
1.
А теперь послушай... Все, что с нами происходит – и то, что происходит помимо нашей воли – происходит по Верхнему Промыслу и происходит затем, чтобы нас созидать до новых качеств, ступеней и состояний, которые предусмотрены для каждого из нас на пути нашего бесконечного роста до ИЗБРАННЫХ НАМИ вершин. Я пишу это тебе не затем, чтобы повлиять на тебя и приблизить к себе искусственным путем, ибо всему свое время. А пишу я это затем, чтобы не забыть. Ибо такие вещи не повторяются дважды.
И, не сказав их раз и другой, следующего раза может и не быть. Ибо то, что идет, есть ДОВЕРИЕ. А мое дело – передать без искажений. Ибо это уже промысел – и он мой, и – на какой-то очень серьезной стадии осмысления – уже не мой.
Начав с утра эти размышления и с ними в основном определившись, я вышел в лоджию и увидел восход, который еще, как из печи пирог, поджидал свое солнышко, но его еще не было. И это ничего – ровным счетом ничего не значило, ибо оно чувствовалось уже во всем и, казалось, – вот-вот заступит на свою повседневную службу. Сама река с фрактальными линиями окружающих ее деревьев была еще темна и черты ее прибрежные почти не проглядывались, только что глазки – кое-где – не проблескивали, а проступали туманными белками, и тогда было понятно, что здесь река.
Затем заречные дали стали все же проступать, придавая ясности рисунку, но – совсем чуть, сохраняя ту таинственность, от которой – только глянув – невольно задерживаешь дыхание. Едва отвернулся я от вида очарованного, и глянул через минуту-другую вновь, как снова увидел изменение. Солнце было уже на своем положенном месте, и над ним появился сине-алый просвет, разрастающийся кверху позолотой, которая оперяла и сбрызгивала робко наметившуюся полоску облаков и разрозненные клочки над ними.
Сделал с десяток снимков, поддавшись этому очарованию, включил компьютер и чайник, вернулся – и вся картина была опять уже другой, ибо от прежней не осталось и следа. Деревья ближнего ряда на этом берегу проявились очевиднее, но весь окоем за ними был погружен в глубокий туман с глубоким отсветом нежных ало-фиолетовых оттенков, и единственно, что оставалось еще в поле моего обозрения, было солнце – как самое ответственное лицо и настоящий очевидец происходящего. Но скоро не стало и его...
Вот так и течет теперешнее время, ускоряясь с каждой минутой, и то, что казалось нам прежде простым и незыблемым, как Вечность, которой некуда спешить, показывает нам теперь поминутно и свой характер, и постоянно меняющуюся реальность. Потому что мы отстаем – от Времени и от самих себя. И той Необходимости, которая взяла нас ныне под руку, чтобы мы ускорились.
И эта нынешняя реальность, оставляющая для нас только отпечатки своего извечного пребывания на кратковременных свитках нашей жизни, ныне кажется нам иной, категорически иной – требующей к себе особого нашего внимания и внутреннего самопогружения, и такого же средоточения. На том, что поминутно происходит внутри и вне нас.
А то, что происходит, есть череда событий, меняющихся, как это утро, у нас на глазах, и не знающих, что каждую минуту НАС ЖДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ. А вот какое оно есть и будет, до времени-до поры – тайна. Ибо то, что происходит с нами прямо здесь и сейчас, зачастую требует от нас либо собственных осмыслений, либо пояснений извне.
2.
То, что я сейчас рассказываю, можно воспринимать как прямое письмо к тебе – мой явленный ангел, можно воспринимать и как очередную новеллу, адресованную любому из читателей, желающих снова и снова открывать двери в Неизведанное. Ты ведь помнишь неожиданность, которой я называю твое появление на нашем местном горизонте, озаренном этими событиями? Концерт, городище и моя галерея, где я представлял свои картины эзотерического содержания нашим гостям, в том числе и тебе.
Сразу признаюсь, что почти сразу, начав свой рассказ о картинах, я вошел в поток необычных энергий, когда все, что говоришь – за небольшими исключениями – происходит автоматически, а ты плывешь по течению и служишь для кого-то, кто тебя «курирует», механическим передатчиком информации, но той же, которую ты с радостью и на своем уровне собирался поведать.
Знаешь, наверху ведь нет времени, и события, которые у нас развертываются в простой логической очередности, там видны как одна сплошная картина, в которой причина переходит в следствие, а следствие порождает следующую причину, чтобы добиваться – как у нас порою еще говорят – настойчиво и неуклонно – означенной когда-то и кем-то цели.
Это как раз тот самый случай, когда я имею в виду целеположенность мира и неумолимость его предначертаний, которые – как ни странно – иногда не сбываются. Но мы-то сами тоже хотим, чтобы эти предначертания сбывались, и ради этого готовы к любым испытаниям, тем более что знаем: испытаний сверх меры нам не дают. И еще: эти испытания для нас, конечно же, в итоге, – благоносны. Так утверждает практика.
И когда такие вещи с нами происходят, мы тогда же – сразу, или сколько-то спустя, начинаем понимать, что в тот самый момент – со всей очевидностью – мы были вставлены в некую программу, которая осуществлялась у нас на глазах, и, может быть, при нашем личном исполнении, или же косвенном участии. И кто-то входил в эту программу, а кто-то оставался и вне ее, даже будучи в физическом присутствии. Но такова данность, и таков мой ответ на твой вопрос: «А что это было? Я пока не могу понять, ибо во мне было ощущение, что я здесь уже была, при этом присутствовала, и это – все, что здесь есть и происходит, тоже мое...»
Отвечаю еще раз: это был тот самый эффект, который на западе называют «дежавю». Он в том, что нам кажется, будто то, что с нами происходит сейчас, с нами УЖЕ БЫВАЛО. Вопрос только в том, когда: в нашем прошлом или будущем? Ведь там, наверху, как мы уже только что говорили, времени нет. И таким образом, предлагая нам рассмотреть ситуацию, подобную этой, нам предлагают что-то очень важное вспомнить. Важное, конечно, в первую очередь, для нас самих, да и не только. Ведь на каждого из нас там имеются виды и перечень задач, которые нам предстоит решать – с сегодняшнего дня или со временем – и взять их на себя. И чем быстрее мы все это сделаем, тем лучше для всех.
Тем не менее, вопрос остается, и здесь, и сейчас он – главный: вот все-таки это ощущение «дежавю» – оно из прошлого, или же из будущего? Это уже было или только еще будет? Хороший вопрос. Но вы послушайте ответ... Скорее всего, это УЖЕ БЫЛО И... ЕЩЕ ТОЛЬКО БУДЕТ. Потому что было и не дало – пока – нужного результата. Потому что – по всей вероятности – слушали и ... не услышали. Вот почему ПОНАДОБИЛСЯ ПОВТОР СОБЫТИЯ. Чтобы всколыхнуть нас еще раз, как мы говорим в таких случаях, чтобы пробудить. Что нужно пробудить и что нужно понять? Но тогда перейдем – вернее, вернемся в минувшую уже реальность, которая нас все еще не отпускает...
3.
Как раз за пять минут до открытия моей второй выставки 14 августа 14 года – чуть менее месяца спустя после той, первой (от 19. 08), – на моем мобильнике раздался звонок. И голос, который я не сразу узнал – поскольку здесь было очень шумно, да который я и знать по-настоящему не мог, ибо мало общался, предложил мне ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫСТАВКУ МОИХ КАРТИН В МОСКВЕ. На что я сразу сказал, что я же не идиот, чтобы отказываться от таких предложений. Но это было не все.
Потом голос стал говорить, как мне сразу показалось, о самом для себя сложном. Как раз об этом самоощущении эффекта «дежавю», который, якобы, ты испытала в тот первый раз, когда была среди моих картин на открытии еще той, первой выставки, здесь, у нас. И я вспомнил один из ее эпизодов. Тогда я много шутил и вместе с вещами очень серьезными говорил и разные глупости, чтобы люди не закисли от сложного. То есть дробил их сознание.
И там – на грани фола – после какого-то шуточного смыслового хода – какого – и сам уже не помню точно – воскликнул, имея в виду кого-то поощрить: женюсь на той, которая первой и прямо сейчас подымет руку в знак согласия. Теперь принято говорить, что и в шутке есть доля шутки – почему-то именно эта мысль проскользнула во мне как маленькая короткая молния, не оставив разрушительных последствий, но оставившая памятку, оставившая в памяти закладку: «Помни». Но плохо мы знаем себя.
...Она откликнулась и подняла руку сразу, без раздумий, и, как я теперь полагаю, тоже будучи в трансовом, или около того, состоянии, находясь почти в состоянии гипноза от темы из моего выступления. То есть на уровне подсознания, еще решительно не представляя себе, а что же и зачем она это сделала. Да чтобы подыграть, чтобы принять участие в действе. Но такой вывод может оказаться слишком простым, ибо такой вывод может быть хорош только на первый взгляд.
Но вернемся к этой второй выставке. Первая моя мысль после ее звонка была об организации выставки моих картин в Москве. Выставки, подкрепленной материально. Такие предложения делают не каждый день. И я жду их давно и – можно сказать – бесплодно. И эта часть ее звонка забила вторую. Но потом все встало на свои места, и я вспомнил свое первое ощущение от встречи с этой серьезной и внимательно слушающей девушкой.
Она вся источала мир и равновесие. И доброжелательность. И еще мудрость. Увидев на себе ее взгляд, наверное, его трудно было забыть. Ибо он был то, о чем говорят: проливает бальзам. Вот и во мне что-то стронулось тогда сразу, хотя поначалу показалось, что это обычный случай, когда человек нравится – вот и все. Обычное дело. Ну и что?! А потом возникло желание приблизить этого человека к себе побольше. Зачем?
4.
На такие вопросы ответы никто сразу не дает. И совершенно бессознательная тяга к ней у меня усиливалась. С какой стати? Это было как-то не так и не то, что бывает обычно. Процесс продолжался. Тяга не отвязывалась. Тогда я нашел ее электронный адрес и написал письмо, а на другой день – и второе. Говорил непонятно о чем. Снова бессознательно. Она не отвечала, и это ее право. Значит, что-то было не так. Или же что-то тут крылось совсем другое?..
Вспомнил: говоря о выставке, она в своем первом звонке говорила еще, что, занимаясь делами выставки, чаще будем общаться. И я понял, что этот момент, на самом деле, очень для меня важен. Я вспомнил, что, будучи еще в Москве, на Вече, уже очень хотел с ней встретиться – ведь повод для этого был дан нам еще раньше: вы ведь помните, что я обещал на ней жениться, а она предложение приняла. Шутка шуткой, но в каждой шутке...
Но здесь другой случай, и шутка шуткой и останется. Я был женат, и наш возраст был несопоставим. Но. Есть одно «НО», которое у каждого остается всегда на подсознании и содержит в себе обоснованные надежды – на что бы то ни было – из того, что нам очень бы сильно хотелось. Если вы, конечно, готовы изменить мир и меняться для этого сами.
И еще один очень существенный момент, который кто-то как будто специально устраивал для меня, чтобы... Совершенно верно: чтобы я обратил на нее внимание. Дело вот в чем: там, в Москве, я случайно подглядел ее глаза, из которых брызнули слезы радости от встречи с ее хорошей подругой. Это был прямой признак искренности и вместе – необычайной открытости, признак большой сердечной глубины. Именно эта «случайность» сделала тогда самый ощутимый прокол в моем сердце, чего уж, честно говоря, я совсем никак не хотел и не ожидал. В том числе и вот почему...
В эти крайне насыщенные событиями дни, я неожиданно понял для себя одну простую вещь, которая мне никак не давалась, и над решением которой я бился долго и бесплодно. Дело вот в чем. Все те мои женские персонажи, которых встречал я на своем пути в эти ближайшие несколько лет, озаряли мою судьбу и мое сердце дивным светом и великой радостью. И это было бы хорошо и понятно по простой логике жизни, которая утверждает: «Жизнь дана нам для счастья». Но снова не все так просто.
Ничего не делается в природе просто так. Эти встречи организовывались для меня зачем-то, с какою-то очевидною целью. Чтобы я что-то начал понимать. И, кажется, начал. Я понял сильную мысль о двуполярности мира, или о мужском и женском началах, о которых мы немного задумываемся в своих философских осмыслениях. И те мои женские персонажи, которых встречал я за это время на своем пути, открыли для меня целое огромное царство Света и дивной, и немыслимой красоты. Красоты физической и душевной, да и духовной.
Они повернули мое представление о Женском Начале и направили в русло, где открывались мне одна за другой новые и бесконечные его грани и глубины, которые меня окончательно покорили. Но я серьезно опасался, как бы не сгореть в этих глубинах дотла – тем более сильный негативный опыт у меня на этой ниве уже был, и вышел я из него с трудом и сильно потрепанным. Но приближение к пониманию НАСТОЯЩЕГО ЖЕНСКОГО НАЧАЛА осветило меня изнутри и дало более свободы и открытости. И не только.
Такое приближение было для чего-то и кому-то нужно – и это я понимал. Это было нужно мне и всем нам, и, как мне кажется, вот для чего: ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА ОТ ИСКАЖЕНИЯ ЕГО ЧИСТОГО И СВЕТЛОГО ОБРАЗА НА СКРИЖАЛЯХ ВЕЧНОСТИ. Это надо было не только мне, но и самой Природе Жизни, которая ОТСТАИВАЛА СВОЕ. Каким образом? Через мои новеллы. ВОТ ПОЧЕМУ я и попадал, как мне казалось, в свои необычные приключения, чтобы больше и лучше понять женщину и ЕЕ ЗАЩИТИТЬ – через свое писательское ремесло – перед людьми и перед собой. И перед Будущим, в которое все мы сегодня входим с Затаенной и Великой Надеждой.
С этой целью мне и подкидывались Судьбою новые и новые встречи, а это значит, – новые сюжеты для новых книг. Ведь для творческого человека творчество – это всегда святое. А для него нужны питающие свежие и необычные эмоции, новые энергии. И необычные ситуации. И вот особенность: как только тема писательского исследования себя исчерпывала, и ее писательская разработка заканчивалась, постепенно отступала и моя жгучая тяга к предмету моего обожания, освобождая место для новых открытий и ощущений.
Понимание всего этого тоже стало для меня очень серьезным открытием, и я таким образом получил огромный и настоящий повод для душевного равновесия и сердечного удовлетворения. И оттого еще, что получил в этот раз сразу несколько ответов на свои несколько затяжных вопросов.
Встреча с этой женщиной, имя которой я не называю, как мне казалось, тоже была из этого ряда, и я заранее придерживал свое сердце на поворотах, чтобы не устраивать пожаров. Но что-то мне подсказывало, что этот случай – из другого ряда и совершенно особый... А вот теперь-то, только теперь, мой читатель, мы и приближаемся к сути разговора. А, значит, будьте внимательны...
5.
После ее звонка прошло пять дней, томление недосказанности и неопределенности во мне по этому вопросу оставалось и не отпускало. А коли так, Вселенная сама решила ответить на мои вопросы. Ведь она – Женщина, и вопрос мой тоже был женский, и он говорил всего-то: «Что? » – подразумевая всю эту историю. И она, Вселенная, дала свои пояснения, поскольку, видимо, того стоило. Да, по всей видимости, ей и самой было интересно посмотреть, что же из этого выйдет.
И вот на шестой день, после той встречи с ней, с утра, у меня в груди – в самой ее середке, началось сгущение теплоты, и я увидел внутренним зрением возникающее у меня в этом месте светлое голубоватое образование и свечение, похожее на облачко. Я почувствовал: это было ее присутствие во мне – этой моей новой знакомой. Мне стало интересно, да и было невероятно приятно, что она возвращается ко мне из своих далеких краев. Вот таким мистическим образом. А что дальше?..
А дальше. В этот же день – мы выехали с женой на природу – на реку, на песочек. Лето уходило, и надо было с ним тоже пообщаться и порадоваться на него и от него, насколько это на данный момент все еще было возможно. А, может быть, – с ним уже и попрощаться...
Время на реке в это время тоже шло, а это облачко в моей груди разрасталось, становилось плотнее, приобретало плотность и изумрудный оттенок – признак качества. Затем, в этом же самом месте, то есть в собственной груди, я почувствовал и ЕЕ присутствие, и, наш расклад в пространстве сильно изменился. Как? Мы были уже – как бы это точнее сказать... мы были уже в этот момент, что называется, двое в одном объединенном духе и – разное в едином.
А потом процесс развивался, и в какой-то момент я снова увидел ЕЕ уже отдельно от себя и в каком-то новом и великолепном качестве. Почему снова? Потому что этот образ в картинке стал являться мне еще вчера, в течение всего дня, хотя и с перерывами. Представьте себе...
Я вижу ЕЕ как крупную центральную фигуру в неком условном действе и раскладе, где она исполняет главную роль. Все это очень похоже на картину, только картина эта – живая. Она здесь, эта женщина, как определил я сходу ее роль и содержание, – МАТРОНА. Что это означает? – Подумайте над этим вместе со мной сами. Представьте себе – в центре действа – прекрасную и величественную фигуру в статическом положении. На голове – как навершие – то ли кокошник – из древнего русского обряда, то ли корона. Скорее, – первое и второе вместе, но только с еще более значительным содержанием.
Вокруг нее происходит движение, а именно: гораздо более мелкие, по сравнению с нею, светлые разноцветные женские фигуры медленно вращаются, словно в каком-то замедленном и заколдованном хороводе, по каким-то своим внутренним траекториям, обусловленным неким установившимся порядком.
Эти траектории я не мог отследить сразу. Ну, вот, представьте себе, что вы видите и чувствуете в этой картине движение и все время происходящие перемены. Но. Как только вы пытаетесь получить какую-то конкретность и заостряете зрение, движение переходит в статику, то есть прекращается. Меня не устраивала такая закрытость, и раз процесс уже пошел, то было логично спросить, как он, этот хоровод, вращался внутри себя – по каким категорически тайным и внутренним законам?..
Разгадку я нашел только на другой день, ближе к вечеру. Это ведь не так бывает, как может кто-то подумать, что будто на одном только этом вопросе ты и сидишь, позабыв обо всем прочем. Совсем наоборот: чем больше ты отстраняешься от объекта своих исследований, тем более к нему приближаешься. И вот под вечер уже, вдруг – мысленно – я не увидел, а скорей почувствовал, этот рисунок, который отражал ход движения женского хоровода, или персонажей ЕЕ приближения. Что меня в нем поражало? А то, что при всем своем внутреннем вращательном вращении, которое производили «девы», условная нить движения этого хоровода не имела ни начала, ни конца. Она выходила из ниоткуда и впадала в никуда.
И вот эту линию я почти увидел, и бросился зарисовать, совсем не будучи уверен в том, что что-то у меня получится. Но рисунок получился с первого раза – так мне показалось. Наверное, вы, читатель, догадались вперед меня, что – да, это была непрерывная линия. И хоровод выходил как бы из одного ее рукава, чтобы войти в другой, и вращался по двум внутренним фигурам, переходящим одна в другую. Обе эти фигуры имели очертания сердца, и, следовательно, продолжали одну и ту же мысль о двоих в одном духе и о разном в едином, которую я почти только что вам высказал.
А вот и другая особенность: в этом ДВИЖЕНИИ было два встречных хоровода со встречным течением и каждый из них – именно – отдаленно походил на сердце. И все это двигалось по одной траектории, которая представляла собою одну непрерывную линию. Чувствуете? – И здесь снова прослеживается рука Гиперборейской Традиции, характерная рисунком, сделанным одной непрерывной линией. Космическая Тема?!
Однако же эта идея с рисунком у меня все-таки уперлась в тупик, потому что оставалось еще одно «но», которое я обнаружил при более длительном ближайшем рассмотрении. Ибо на моем гипотетическом рисунке траектория движения проходила в том числе и по ее голове вместе с навершием. Но, мне-то казалось, что движение хоровода – на самом деле – не касалось ее головы.
Словом, здесь было еще над чем подумать, и кажется мне уже сегодня, что загадка эта так просто от меня не отстанет, а вынудит, скорее всего, искать наиболее точное решение, поскольку нерешаемых задач в Природе Мира нет. Хотя вы тоже отлично понимаете, что корень всего вопроса кроется не в рисунке и характере этого движения, а в чем-то совершенно ином.
Одета Она, моя Матрона, была в свободные одежды и полна силы и духовного величия. А еще – она узнаваема, и в лике ее сквозит перманентно, на этой картине, она, эта самая моя серьезная и вместе простая девушка, о которой я только что вам рассказывал. Это сходство не оставляет сомнений, но дело в том, что это не сходство, а здесь – ОНА САМА – реальная, как мир, и светлая, как Свет. Но как узнать, когда же и где же, и как это происходило? И откуда она «пришла»?
6.
Все это происходит со мною на берегу моей реки. На том самом берегу, о котором уже упоминал. Я – в полном отстранении от мира. Свет, солнце, воздух. Легкий ветерок, плеск волны, птичьи голоса... Нирвана, место в раю... И что бы в таком состоянии ты ни увидел, удивляться ничему не будешь. Но вот в чем дело: один и тот же образ – мыслеобраз притягательной женщины – снова стоит передо мною, одна и та же картина, а ощущение ЕЕ присутствия во мне только нарастает. И я понял, да и вы тоже, мой читатель, что мне идет навстречу информация, которую нужно понять и принять, и это очень важно. Для меня, для нее, для какого-то дела, для чего-то еще. Принять и расшифровать. И у меня состояние выжидания нарастает: что дальше?
А дальше замечаю... Стало что-то чуть меняться в изображении общей картины, и вдруг вижу вот что: как будто бы, голова ее – совсем на малый срок – вдруг уже иным образом – как бы промельком, совсем на миг – оборачивается ко мне боком, словно что-то показывая, на что-то намекая. Показывая мимолетно свою щечку, свою головку сбоку – на что-то, что я знаю точно, как будто, очень похожую. На что же, на что?
И тут меня, наконец, осеняет! Да, да, да! Вот она, милосердная истина! А я еще мимоходом – в этот момент и очень отстраненно – успеваю подумать о том, что как же трудно им там, наверху, приходится с нами, как же им надо извернуться, чтобы хоть что-то до нас донести. Из того, что намерены они нам передать – нам, нашему сознанию – в известных им целях.
И в один из таких поворотов ее ко мне щечкой, я промельком вижу свою картину с той самой выставки, на которой она – «МАТЕРЬ МИРА» Так называется картина. И обе эти картины – и та, моя, на холсте, и эта, мистическая – в мыслеобразе – разнятся по изображению в деталях, но исполнены в одной гамме и как бы порою накладываются друг на друга, и в чем-то становятся похожими, чтобы что-то сказать. А вот что? Вот что! Я вижу эту мою новую знакомую в обеих этих картинах, и на той, и на другой сразу – и вдруг понимаю, что это – одно и то же лицо, один и тот же образ. На них – ОНА, МОЯ ДИВА, собственной персоной!
Общий цвет на картине – алая роза и вишня. А детали, фон и окружение – из радужной палитры моего Белого квадрата. И моя очень медленная и постепенная отгадка, наконец, выходит наружу и вся целиком.
Так вот!!! Она – Матерь Мира! Будущая, настоящая, в проекции? И чем больше ты отвечаешь на вопросы, – тем больше, кажется, появляется новых вопросов. Так хорошо ли это?! Конечно же! Но кто она тогда; когда она будет тем, что я видел, в насколько отдаленном грядущем; или уже была? А вот этого, конечно, – пока – никто из нас знать не может. Ей показывают – через меня – ее портрет и ее предназначение в жизни. Ей показывают ЕЕ ВЕРШИНУ, нам с нею показывают НАС. Поскольку и я тоже свое присутствие в этом мистическом пространстве чувствую хорошо.
И я нахожусь, разглядывая картину с ней, как бы будучи всюду и в то же время – чуть в стороне от нее. Но чувствую себя в тех же Времени и Пространстве, что и она. И чувствую ее, и чувствую себя, и чувствую еще и такую странность: что мы с ней – это одно, что мы – два в едином. Но это в Будущем, которое проявило себя здесь и сегодня таким неожиданным и невероятным образом. Да еще и свело нас вместе каким-то удивительным промыслом.
Я смотрю на нее и понимаю: что да, она мне приятна и духовно близка, то же отношение исходит и от нее по отношению ко мне. Мы оба – два об одном. Но. Картина обо мне была для меня еще раньше, и это отдельная история, а сегодня она, эта картина, – о ней. Поскольку теперь я уже знаю о ней следующее: ОНА – ЖЕНСКАЯ СУТЬ МИРА И МИРОЗДАНИЯ, ПРИДАЮЩАЯ ЭТОМУ МИРУ ГАРМОНИЮ И РАВНОВЕСИЕ – через МИЛОСЕРДИЕ И ВСЕПОНИМАНИЕ. ОНА – МАТЕРЬ МИРА.
ОНА – ОДНА ИЗ СТОРОН ЕДИНОГО, ИЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОРОНА МУЖСКОГО НАЧАЛА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО СОБОЮ ПЕРВОПРИЧИНУ И ВСЕСУЩНОСТЬ МИРА, ГАРАНТИРУЮЩЕГО ЕГО СТАБИЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Об этом все.
7.
Но вот о чем еще невозможно не сказать, пока мы с вами совсем не вышли из темы. Давно уже, и очень давно, во мне жило ощущение того, что прошлое и настоящее, и будущее – это одно и единое целое, или три в одном – по уже известной нам аналогии. И сегодня для таких выводов у нас появились подтверждения – пусть и пришедшие к нам мистическим путем.
А это значит: не надо думать, что время – как одна из Сутей Вечности – течет только в одну сторону, и Будущее не влияет на Прошлое. Влияет, как видите, и очень сильно, – как в только что разобранном нами случае. Ибо Время – река, в которой многое в одном, и все это – хотя и по-разному – взаимодействует – на множестве уровней и множестве проявлений – и... поддерживает друг друга – по мере необходимости.
Все это только добавляет нам оптимизма, ибо дает понять, что мир не линеен, и, как и Время, – взаимосвязан и взаимозависим всеми своими составляющими. Именно это обстоятельство нас не ограничивает, а – напротив: дает нам возможность для сотворчества с Пространством, в котором, зная его законы, ВОЗМОЖНО ВСЕ.
Вот почему мы понимаем, что, даже будучи в трехмерном мире, Будущее все равно порою являет нам свое доброжелательное лицо, чтобы сбрызнуть наше вопросительное состояние живою водою оптимизма и – самое главное – добавить нам безусловной веры – в самих себя и... в оправданное и целесообразное устроение Мира. А это значит: ИДУЩИЙ – ПРИДЕТ. Ибо путь его ЦЕЛЕПОЛОЖЕН. И нам в этом помогают наши друзья из невидимого мира, которые в нас верят.
Вы понимаете, читатель, что ко всему выше сказанному вы должны относиться философски, тем не менее с радостью и надеждой уповая на грядущие времена, которые подошли к нам вплотную, чтобы мы с вами могли и видеть их, и их осязать, что называется, наощупь. Но, если вы способны читать и прямо, и между строк, многое из сказанного вы возьмете себе на веру.
Мир вам, Свет и Любовь!
Геннадий Лучинин
В защиту "чистой женщины"
Полина Трофимова
Несколько слов в защиту Императрицы Екатерины Великой,
умевшей любить чистой и искренней любовью
Полина Трофимова Несколько слов в защиту Императрицы Екатерины Великой, умевшей любить чистой и искренней любовью Сначала хотела поучаствовать в обсуждении уже даже не статьи об Екатерине Великой, а самого образа Государыни. Но потом вспомнила об уникальной книге видного исследователя того века. О книге Вячеслава Сергеевича Лопатина «Екатерина II и Г.А. Потёмкин. Личная переписка. 1969-1791 год». Издано Российской Академией Наук в 1997 году в серии Литературные памятники. Я не берусь спорить о том, что является историческим трудом, что сочинениями на историческую тему, а что компиляцией. Себя не отношу ни к историкам, ни к историческим беллетристам, ни тем более к компиляторам. А потому в спор не ввязываюсь и никого не опровергаю. Но вышеназванный труд В.С. Лопатина, объёмом в 990 страниц, мне кажется всё-таки классически историческим, поскольку каждый документ имеет свой адрес. Точный адрес. Автор указывает, что и где взял. Итак, именно в этом труде я почерпнула данные о том, что, кроме низких клеветников, немало было во все времена и искренних защитников доброго имени Императрицы. Русская Женщина эмигрантка Анна Кашина, возвысила свой голос в защиту Екатерины Великой, да где, в Западной Европе, давно уже потерявшей всякую совесть. И было это в тридцатые годы, когда особенно старались опорочить русскую императрицу Бернард Шоу и Альфред Савуар, которые, по словам упомянутой выше русской женщины по имени Анна Кашина, «буквально упивались в изображении сладострастия замечательной женщины» (Императрицы Екатерины Великой). А теперь приведу то, что написал по этому поводу в своём статье составитель переписки Екатерины и Потёмкина В.С. Лопатин В 1934 г. на страницах русского эмигрантского журнала «Иллюстрированная Россия» (выходившего в Париже), среди сотрудников которого были И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, М.А. Алданов и другие известные деятели русской культуры, появились заметки под заглавием «Великая в любви». В четырёх номерах журнала Анна Кашина-Евреинова (жена известного театрального режиссера Н.Н. Евреинова) рассказала историю появления во Франции писем Екатерины II Потёмкину и ознакомила читателей со своим исследованием этой переписки». Далее В.С. Лопатин приводит слова самой Анны Кашиной-Евреиновой: «Жорж Удар, известный французский журналист, побывавший несколько раз в Советской России, вывез оттуда недавно найденную и ещё не опубликованную переписку Екатерины Второй с Потёмкиным. Он решил немедленно опубликовать эти письма по-французски и поручил мне их перевод и комментарии» (Иллюстрированная Россия. No 40. 29 сент. 1934. С. 1.). Вячеслав Сергеевич поясняет: «Отметив интерес парижской публики к личности императрицы, русская журналистка связала этот интерес с недавними театральными премьерами и шумным успехом у публики пьес знаменитого Бернарда Шоу и менее знаменитого, но популярного парижанина Альфреда Савуара, пьес, посвящённых Екатерине II. С возмущением Кашина-Евреинова писала о том, как европейские знаменитости изображали Великую императрицу – друга Вольтера и автора «Наказа». И Савуар, и Шоу буквально упивались в изображении сладострастия замечательной женщины. Журналистка признается, что и она сама, получив от Удара интимные письма императрицы, опасалась «потоков сладострастия, которые будут хлестать из каждой строчки этих писем...» Она вспоминала: «Я принесла письма домой и, набравшись «ратного духа», засела их читать. Прочла, не отрываясь, всю объёмистую пачку, и, только окончив последнее письмо, я глубоко вздохнула и подумала: "И может же обывательская легенда и хлестко-фривольные анекдоты до такой степени опоганить образ прелестной женщины, написавшей такие прелестные письма". Екатерина показалась мне до такой степени привлекательной, человечной, обаятельной и такой "чистой женщиной", несмотря на свои 44 года, возраст, в котором она писала свои письма к Потёмкину, что мне естественно захотелось узнать, что представляла её жизнь до этого возраста. Труд по изучению её предшествующей жизни занял немало времени, но зато доставил и много радости. Да разве есть большая радость, как реабилитировать невинно оклеветанную. Да ещё женщину. Да ещё такую прелестную женщину. Да еще русскую Императрицу!" (Там же). Кашина-Евреинова не претендовала на историческую точность своей работы. Из-под её пера вышел психологический очерк, основанный на внимательном прочтении писем, но писала с необыкновенной искренностью: «Она (Императрица) была истинной женщиной, живым образчиком женственности», – приводит журналистка слова английского историка доктора Гентша и подтверждает эту характеристику цитатами из писем. Рассказав романтичную историю любви императрицы к Потёмкину, журналистка не могла не отметить писем, в которых Екатерина называет своего возлюбленного «мужем», а себя – его «верной женой». Она сослалась на предисловие к письмам профессора Я. Л. Барскова, который утверждал (повторяя версию П.И. Бартенева), что брак был заключён в конце 1774 г. Кашина-Евреинова, следуя за письмами, попыталась понять семейную драму императрицы. По её мнению, причиной охлаждения Потемкина к Екатерине стало именно венчание. Тайный муж Государыни достиг невозможного, причём достиг невероятно быстро и потерял к ней интерес как к женщине. Анна Кашина далее с уверенностью писала: «Но Екатерина еще неотступнее тянется к нему... Ведь любовь к нему заполняет ее жизнь... Она впервые узнала, что значит любить по-настоящему. Она ясно понимает, что уже никогда больше она не полюбит так, как она любит сумасшедшего, но гениального Потёмкина... При желании дать какое-нибудь определение характеру любви Екатерины к Потемкину, я бы сказала: суеверная любовь... Она плачет по Потёмкину, как будто смерть его застала её в самый разгар их любви, а между тем, прошло пятнадцать лет с тех пор, как эта связь оборвалась. Екатерина пишет Гримму: «Этот удар меня сразил. Мой ученик, мой друг, могу сказать, мой идол, Князь Потёмкин умер в Молдавии»... Именно идол! В самом широком, в самом хорошем смысле этого слова». (Иллюстрированная Россия. No 43. 20 окт. 1934. С. 9-10.). Вячеслав Лопатин заканчивает такими словами: «Так писала на чужбине русская женщина, потрясённая любовными письмами другой женщины, жившей полтора века назад. Переводу Анны Кашиной-Евреиновой выпала счастливая судьба. Ж. Удар опубликовал письма в журнале "Revues de Paris". В том же 1934 г. любовные письма Екатерины II к Потёмкину вышли отдельной книгой в известном парижском издательстве Калмана Леви. С тех пор ни один исследователь не обошелся без этих писем – выдающегося свидетельства Истории». Можно, конечно, опровергать всё и вся. Но книга, выпущенная Вячеславом Лопатиным, не просто какое-то брожение вокруг истории. Там приведены неопровержимые документы, письма. Причём сделаны подробные комментарии к письмам. И труд, долженствовавший, быть сухим, читается, словно остросюжетный роман. У нас же любят, к сожалению, с кондачка бросит уничижительную фразу, не покрепив её ничем. Любят у нас и написать сочинения вокруг истории, да ещё потом и требовать: верьте мне, читатели, на основании того, что не смеете не верить. А доказательства? Вам они не нужны, вы до них не доросли! Обойдётесь.
Какую "правду" нам долгое время навязывали о Екатерине Великой
ПОШЛЯКИ
Почему-то многочисленные и до предела бестактные исследователи интимной стороны жизни Государыни Императрицы Екатерины Великой упрямо не замечают её исполненного отчаяния признания, сделанного в письме к Григорию Александровичу Потёмкину.
Письмо то было писано приблизительно 21 февраля 1774 года и получило название «Чистосердечной исповеди». Оно, кстати, не скрыто за семью печатями. Одна из первых его публикаций сделана ещё в 1907 году А.С. Сувориным в книге «Записки Императрицы Екатерины Второй» и переиздана в 1989 году. 1989 год – разгар безнравственного плюрализма.
Все нечистые на руку писаки и издатели с необыкновенной алчностью ринулись зарабатывать на всякого рода бульварных изданиях. Посыпались на книжные развалы пошлые книжонки «Любовники Екатерины», «Департамент фаворитов», «Роман одной Императрицы» и прочая бездуховная макулатура. Удивительно, но упомянутые выше записки Государыни, изданные 150-тысячным тиражом Московским филиалом издательства «Орбита» просто не были замечены.
В те годы я начал серьезно заниматься исследованием жизни и боевой деятельности Генерал-фельдмаршала Светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического. Написал ряд статей в защиту памяти Екатерины Великой и её могучего сподвижника. 12 октября 1990 года мою статью по поводу клеветнических изданий под названием «Пошляки» опубликовала «Литературная Россия», в то же время газета «Советский патриот» в №34 предоставила мне для публикации материала с аналогичным названием целый разворот. В «Красной Звезде» от 27 апреля 1991 года была опубликована моя статья «Светлейший князь Тавриды», в Коммунисте Вооруженных Сил №1 и №2 за 1991 год – страницы будущей книги «Благослови, Господь, Потёмкина». Впоследствии я лишь слегка изменил заглавие книги, отпечатанной 150-ти тысячным тиражом в типографии «Красной Звезды» – «Храни, Господь, Потёмкина». Мои очерки на данную тему публиковал и Военно-исторический журнал в период своего расцвета и удивительной популярности при главном редакторе генерал-майоре Викторе Ивановиче Филатове. Публикации «Чудный вождь Потемкин», прошли в «Советском патриоте» в окружных газетах, причём многие военные газеты, такие, как «Защитник Родины» и др., дали по 10 – 15 публикаций с продолжением. Это лишний раз доказывает, что военная журналистика была несравненно выше и чище хулительных жёлтых изданий, управляемых из-за рубежа и старательно работающих по созданию в стране общества либерастов и «Иванов, не помнящих родства». А правда скрывалась не за семью печатями. В своих публикациях я опирался на эпистолярное наследие, на то, что писала о себе сама Императрица, на то, в чём признавалась и о чём умалчивала она, ибо, если уж женщина что-то о себе умалчивает, не по-мужски пытаться домысливать недосказанное.
Как, скажем, оценить «умозаключения» некоего Н. И. Павленко по поводу «Чистосердечной исповеди»? В книге «Екатерина Великая», изданной в популярной в советские времена серии «Жизнь замечательных людей», он писал: «Это послание, названное автором «чистосердечной исповедью», в действительности содержит более фальши, нежели чистосердечных признаний». Как не стыдно было господину Павленко делать подобный вывод из поистине чистосердечного письма Женщины, а тем более Государыни. Вторгаться в интимную личную жизнь любой женщины столь бессовестно и грубо, дело, недостойное мужчины. А в данном случае нельзя забывать ещё и о том, что Екатерина Вторая по восшествии на престол была коронована и прошла Миропомазание по обряду Русской Православной Церкви.
Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в книге «Самодержавие духа» указал, что Церковное таинство Миропомазания открывало Государям «глубину мистической связи Царя с пародом и связанную с этим величину религиозной ответственности», что осознание этой ответственности руководило всеми «личными поступками и государственными начинаниями до самой кончины». Раскрыл он и саму суть обряда: «Чтобы понять впечатление, произведённое на Царя помазанием его на царство, надо несколько слов сказать о происхождении и смысле чина коронации. Чин коронации Православных монархов известен с древнейших времён. Первое литературное упоминание о нём дошло до нас из IV века, со времени императора Феодосия Великого. Божественное происхождение Царской власти не вызывало тогда сомнений. Это воззрение на власть подкреплялось у византийских императоров и мнением о Божественном происхождении самых знаков царственного достоинства. Константин VII Порфирогенит (913 – 959) пишет в наставлениях своему сыну: «…одежды и венцы (царские – Н.Ш.) не людьми изготовлены и не человеческим искусом измышлены и сделаны, но в тайных книгах древней истории писано, что Бог, поставив Константина Великого первым христианским Царём, через ангела Своего послал ему эти одежды и венцы». Исповедания веры составляло непременное требование чина коронации. Император сначала торжественно возглашал его в церкви, и затем, написанное, за собственноручной подписью, передавал патриарху. Оно содержало Православный Никео-Царьградский Символ Веры и обещание хранить апостольское предание и установления и установления церковных соборов». Чтобы ответить на вопрос, вправе ли мы судить Государей Православной Русской Державы, прошедших обряд Миропомазания по чину Русской Православной Церкви, а, стало быть, Самим Богом поставленных, нужно к известной заповеди: «Не судите, да не будимы будете» прибавить заповедь-предостережение Самого Всевышнего: «Не прикасайся к Помазанникам Моим!».
Как же оценить, написанное господином Павленко в книге «Екатерина Великая» с точки зрения веры Православной? Далее он, продолжая доказывать фальшивость исповеди Государыни писал: «Достаточно сравнить интимные письма Императрицы к двум фаворитам: Г.А. Потёмкину и П.В. Завадовскому. Обоим фаворитам она клялась беспредельной любви и верности до гроба, но рассталась с ними с легкостью необыкновенной». Стыдно столь скабрёзно «исследовать» интимные письма женщины, да ещё толковать их по-своему, со своей, как говорят, колокольни!
О таких «исследователях» интима адмирал Павел Васильевич Чичагов со справедливым презрением писал:
«Эти самые яркие обвинители обоих полов именно те, которые имеют наименее прав обвинять, не краснея за самых себя. У Екатерины был гений, чтобы царствовать и много воображения, чтобы быть нечувствительною к любви. …Не забудем слово принца де Линя: «Екатерина – Великий» (Catherine le Grand), и пусть же она пользуется правами великого человека». Но господин из числа «обвинителей обеих полов» продолжает повествование в противном этому пониманию духе. О рождённых болезненным воображением историка клятвах, которые, по его предположениям, якобы, давала Потемкину и Завадовскому Государыня, он писал: «Думается, что подобные клятвенные обещания она давала и другим своим любовникам. Иначе и не могла поступить дама, сердце которой, по её признанию, «не хочет быть не на час охотно без любви». Поэтому сомнительным надобно считать и её заявление о том, что она создана для семейного очага и если бы была любима Петром III или первым фаворитом в годы царствования, Григорием Орловым, то об её изменах не могло быть и речи».
И снова хочется сказать: стыдно! Стыдно мужчине делать столь безнравственные домыслы, характерные скорее для сплетницы «хуже старой бабки», как именовала подобных особой княгиня Ливен, да ещё с неопределённой приставкой: «думается». Это историку думается. Но как было на самом деле ведь не ему знать.
Павел Васильевич Чачагов, первым возвысивший голос в защиту Государыни, писал:
«При восшествии на престол ей было тридцать лет (точнее 33-ред.), и её упрекают за то, что в этом возрасте она была не чужда слабостей, в значительной доле способствовавших популярности Генриха IV во Франции. Но мы ведь к нашему полу снисходительны. Нелепой мужской натуре свойственно выказывать строгость в отношении слабого, нежного пола и всё прощать лишь своей собственной чувственности. Как будто женщины уже недостаточно наказаны теми скорбями и страданиями, с которыми природа сопрягла их страсти! Странный упрёк, делаемый женщине молодой, независимой, госпоже своих поступков, имеющей миллионы людей для выбора». Вдумайтесь в полные пренебрежения и высокомерия слова господина Павленко: «Иначе и не могла поступить дама, сердце которой, по её признанию, «не хочет быть ни на час охотно без любви». Что за примитивное понимание любви!? В этой фразе явный намек на то, что автор понимает любовь так же, как нынешние пропагандисты свободного секса. Иначе и не могут поступить обоеполые хулители. Отвратительно звучит и такая фраза: «… все теории Екатерины о пользе фаворитизма надобно считать прикрытием сладострастия, попыткой возвести разврат в ранг государственной политики». Сколько ненависти! Откуда? Чем насолила сему господину Самодержавная Государыня? Тем, что Россия под скипетром Государыни нанесла удар гнуснейшей гидре Пугачева? Тем, что присоединила Крым? Тем, что умиротворила Кубань, благоустроила Новороссию? Тем, что, по словам А. А. Безбородко, «ни одна нужна в Европе несмела пальнуть без ведома Великой Государыни»?
П.В. Чичагов, сын знаменитого екатерининского адмирала В.Я.Чичагова, не понаслышке, не по сплетням изучивший золотой век Екатерины и имевший все основания писать о нём правду, а не «сладострастно» измышлять с приставками «думается» и «иначе и не могла поступать» указал: «Всё, что можно требовать разумным образом от решателей наших судеб, то – чтобы они не приносили в жертву этой склонности (имеется в виду любовь – Н.Ш.) интересов государства. Подобного упрёка нельзя сделать Екатерине. Она умела подчинять выгодам государства именно то, что желали выдавать за непреодолимые страсти. Никогда ни одного из фаворитов она не удерживала далее возможно кратчайшего срока, едва лишь замечала в нём наименее способности, необходимой ей в благородных и бесчисленных трудах. Мамонов, Васильчиков, Зорич, Корсаков, Ермолов, несмотря на их красивые лица, были скоро отпущены вследствие посредственности их дарований, тогда как Орлов и Потёмкин сохранили за собой свободу доступа к ней: первый в течении многих лет; второй – во всё продолжение своей жизни. Самый упрёк, обращенный к её старости и обвинявший её в продолжении фаворитизма в том возрасте, в котором, по законам природы, страсти утрачивают силу, – самый этот упрёк служит подтверждением моих слов и доказывает, что не ради чувственности, а скорее из потребности удостоить кого-то своим доверием она искала существо, которое по своим качествам было бы способно быть её сотрудником при тяжких трудах государственного управления». Когда читаешь «Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, заключающие то, что он видел и что, по его мнению, знал» невольно начинаешь думать, что он удивительным образом ещё в начале XIX века сделал уничтожающий отзыв на книгу Н.И. Павленко, изданную в 2004 году. Настолько полно и неизменно озвучены в сей книге все нафталинные клеветы и похабные анекдоты, сочиненные «сладострастными» злопыхателями, клеветниками и ненавистниками XVIII – XIX веков, которые, можно подумать, были бесполыми имя приписки их к одному их полов не делает чести ни тому, ни другому полу.
Нельзя не остановиться и на пошлом анекдоте об истопнике Теплове, который «со сладострастием» приводит Н. Павленко. Да, простит меня читатель за пошлую цитату из его книги и в особенности да, простят меня женщины: «Случайных, кратковременных связей, не зарегистрированных источниками, у Императрицы, видимо, было немало». Но, позвольте, разве имеет право историк рассуждать с этакой приставкой «видимо»? Это же клевета чистой воды. Можно не сомневаться, что, если бы сей автор был современником Государыни, он наверняка бы постарался стать регистратором её связей. А так ведь – никаких доказательств. Единственный источник – сплетня. Докажите хотя бы один факт фаворитизма, но докажите так, как это принято доказывать в суде – со свидетельскими показаниями столь занимающих вас интимных подробностей. За двадцать лет, пока я занимаюсь исследованием жизни и деятельности двух величайших деятелей прошлого – Екатерины и Потёмкина – никто ни разу не сумел мне привести доказательств фаворитизма. Только ссылки на пасквилянтов прошлого, разоблачённых ещё в те давние времена. И даже список так называемых фаворитов, приведённый Павленко на станице 355 книги «Екатерина Великая» рассыплется в прах, ибо все эти лица по официальным документам проходят либо как генерал-адъютанты, либо занимают какие-то другие чины. Иные их наименования документального подтверждения не имеют, и рождены одним всем известном источником – «ЧБС». Заключение же о «кратковременных связях» господин Павленко делает из семейных, якобы, преданий. Он пишет: «Основанием для подобного суждения можно считать семейное предание о происхождении фамилии Теплова. Однажды Григорий Николаевич, родоначальник Тепловых, будучи истопником, принёс дрова, когда Императрица лежала в постели. «Мне зябко», – пожаловалась она истопнику. Тот успокоил, что скоро станет тепло, и затопил печь. Екатерина продолжала жаловаться, что ей зябко. Наконец робкий истопник принялся лично обогревать зябнувшую Императрицу. С тех пор он и получил фамилию Теплов». Удивительно, что г. историк не удосужился узнать, кто же такой Теплов? А ведь данные о Григории Николаевиче Теплове, который никакого отношения к «истопникам» не имел, не за семью печатями скрыты.
В книге «Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII века» о нём говорится следующее: «Григорий Николаевич Теплов, тайный советник, сенатор, обязан возвышением своим графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, который полюбил его за ум и образованность, и вверил ему воспитание своего младшего брата, впоследствии пожалованного гетманом. Теплов сопровождал графа Кирилла Григорьевича в чужие края и по возвращении в 1746 году, когда граф, имея 18 лет от роду, назначен был Президентом Академии наук, Теплов именем его управлял Академией; он был одним из главных лиц, содействовавших вступлению на престол Екатерины Второй, и пользовался отличным благоволением Её до кончины своей, последовавшей 30 марта 1779 года». Вот тебе и «семейное предание» о происхождении фамилии. Хороший «истопник» был у Государыни! Чего только не родит воспалённое воображение историка-интеллигента! Кстати, достаточно подробно рассказывается о графе Теплове в «Словаре достопамятных людей Русской земли» Д.Н. Бантыш-Каменского», который вышел репринтным изданием совсем недавно.
Как тут не вспомнить Ивана Лукьяновича Солоневича, который с горечью написал: «Фактическую сторону русской истории мы знаем очень плохо – в особенности плохо знают её профессора русской истории. Это происходит по той довольно ясно причине, что именно профессора русской истории рассматривают эту историю с точки зрения западноевропейских шаблонов». Иные авторы забывают, что при написании книги надо несколько унимать свои сладострастные воображения и хоть чуточку думать над тем, что пишешь. Семейное предание!? А ведь семейное предание, если говорить о семье Екатерины и её преданиях, это предания Павла Первого и его семьи, Николая Первого и его семьи и так далее вплоть до Николая Второго, приходящеюся, ей уже прапраправнуком. Представьте себе, как все эти достойные Государи и достойные их супруги скабрезно улыбаясь, обсуждают, как их мать, бабушка, прабабушка (и. т.д.) затащила в постель истопника?!. Быть такого не может. Впрочем, каждый судит о поступках других по своим собственным. Переведите на себя, дорогие читатели, сказанное, и вы, несомненно, содрогнётесь от омерзения при одной только мысли о возможности существования подобных преданий. Неудачная форма легализации сплетни с помощью ссылки на предание. Но и этого мало. Господин Павленко со знанием дела указывает, что «Екатерина не пренебрегала случайными связями, и Марья Саввишна Перекусихина выполняла у неё обязанности «пробовальщицы», определявшей пригодность претендента находиться в постели у императрицы. Таким образом, императрица имела за 34 года царствования двадцать одного учтенного фаворита. Если к ним приплюсовать…».
Всё, далее цитировать эту грязь, сил нет. Лишь гнев и возмущение могут вызвать рассуждения очередного учетчика сладострастия Женщины, да не просто Женщины, а ещё и Государыни, и Государыни, по делам своим во имя России – Великой.
В Православном Букваре говорится: «Клевета является выражением недостатка любви христианской или даже обнаруживает ненависть, приравнивающую человека к убийцам и поборникам сатаны: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8,44)»; «Дети Божии и дети дьявола узнают так: всякий, не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» (1 Ин. 3,10); «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей» (1 Ин. 3,15). В то же время клевета – порождение зависти, гордости, стремящейся к унижению ближнего, и других страстей. Поэтому-то диавол и называется в Св. Писании клеветником. Казалось бы, что огород – городить, когда речь идёт о людях давно ушедших. По крайней мере, так думают многие старатели на ниве хулительных произведений, ошибочно именуемых литературными или историческими. Но «уходит» тело «ушедших», а не душа. Души бессмертны, кроме душ убийц, клеветников и прочих нелюдей. Души героев прошлого слышат нас. Клевета печалит их, и они вопиют к нам: будьте праведны, боритесь за правду! Заявление же Н. Павленко, сделанное со слов какого-то иноземного клеветника М.Д. Корберона о том, что «Орлов грубо обходился с Императрицей и даже не раз побивал её» ставит его книгу на уровень жёлтых изданий. Стыдно издеваться над великими нашими предками, молитвами которых, подвигами которых мы с вами и живём. В предисловии к так и не написанной им книге «Павел I» Владислав Ходасевич писал: «Те исторические события, которые по каким-то причинам долгое время не были в должной мере раскрыты и всесторонне освещены, имеют склонность мало-помалу превращаться в легенду. Суеверия, связанные с такой легендой, едва ли не навсегда укореняются в сознании общества. Истина остаётся непопулярной даже тогда, когда она уже стала достоянием учёных специалистов. Широкие круги публики довольствуются легендой: они с нею уживаются и неохотно меняют однажды сложившиеся воззрения». Ровно как и к истории царствования Императора Павла I, это определение можно отнести к истории Императрицы Екатерины Великой, да и вообще к описанию большей части событий великого прошлого России, которые подобные описания зачастую незаслуженно принижают. Более подробно о Екатерине Великой и Потймкине можно прочитать на сайте "Проза.ру. Николай Шахмагонов", где размещена моя книга, вышедшая в 2008 году «Светлейший Князь Потёмкин и Екатерина Великая в любви, супружестве, государственной деятельности». Завершить же повествование о славном екатерининском царствовании мне хотелось обширной, но более чем актуальной цитатой из трудов блистательного летописца русской старины Ивана Егоровича Забелина, поскольку эта цитата может служить своеобразным вступлением к предстоящему повествованию: «Всем известно, что древние, в особенности греки и римляне, умели воспитывать героев… Это умении заключалось лишь в том, что они умели изображать в своей истории лучших передовых своих деятелей, не только в исторической, но и поэтической правде. Они умели ценить заслуги героев, умели отличать золотую правду и истину этих заслуг от житейской лжи и грязи, в которой каждый человек необходимо проживает и всегда больше или меньше ею марается. Они умели отличать в этих заслугах не только реальную, и, так сказать, полезную их сущность, но и сущность идеальную. То есть историческую идею исполненного дела и подвига, что необходимо, и возвышало характер героя до степени идеала». Далее И.Е. Забелин продолжил так, словно видел происходящее в наши дни через толщу десятилетий: «Наше русское возделывание истории находится от древних совсем на другом, на противоположном конце. Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю и о каких-либо характерах и идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие были у нас идеалы, а тем более герои! Вся наша история есть тёмное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает большинство образованных Русских людей. Ясное дело, что такая история воспитывать героев не может, что на юношеские идеалы она должна действовать угнетательно. Самое лучшее как юноша может поступить с такою историею, – это совсем не знать, существует ли она. Большинство так и поступает. Но не за это ли самое большинство русской образованности несёт, может быть, очень справедливый укор, что оно не имеет почвы под собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону. Действительно, твёрдою опорою и непоколебимою почвою для национального сознания и самопознания всегда служит национальная история… Не обижена Богом в этом отношении и русская история. Есть или должны находиться и в ней общечеловеческие идеи и идеалы, светлые и высоконравственные герои и строители жизни, нам только надо хорошо помнить правдивое замечание античных писателей, что та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит вовсе не от их славных или бесславных дел, вовсе не от существа исторических подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения и даже намерения писателей изображать в славе или унижать народные дела, как и деяния исторических личностей». Свой взгляд на золотой век Екатерины и на его деятелей из стаи славной екатерининских орлов я выразил такими поэтическими строками:
Всевышний Бог! Не ведал ты позора
За Богородицы Светлейший Дом,
Когда Генералиссимус Суворов
Жёг вражью нечисть Праведным огнём!
Всеславный Бог! Ты меч вручил Державный
Тому, кто не бросал на ветер слов,
Кто первым был из стаи Право Славной
Екатерининских орлов.
В те времена Святая Русь вставала
Из пут петровских и дворцовых ссор,
Святая Церковь к Богу направляла
Сынов отважных – право славных взор.
И с Богом в сердце побеждал Суворов,
И с Богом вёл эскадры Ушаков,
Потёмкин расширял страны просторы,
Славян храня от вражеских оков.
И Божьей волей праведная сила
Открыла с силой тёмной грозный спор,
Суворов на обломках Измаила
Изрёк: «Мы, Русские! Какой восторг!»
По Божьей Воле распахнулись крылья
Над морем Чёрным русских парусов,
От Тендры счёт побед к Калиакрии
Вёл легендарный Фёдор Ушаков.
И в армии времён Екатерины
Неистребимый Русский Дух царил.
На подвиг звал Суворовский орлиный
Клич: «С нами Бог! Вперёд, Богатыри!»
Пора нам к Богу обратить молитвы,
И по-суворовски вести за Правду спор.
И вспомнить, как перед Священной битвой
Девиз: «Мы, Русские! Ура! Какой восторг!»
Из жизни неугомонного Дачника 2
Из жизни неугомонного Дачника
И приключился такой пассаж… Эротический рассказик

А она: – Кто вы есть? Сказал, а она: – Я – Наташа. – Очень приятно, – говорю. – А к кому вы? Ответил. А она: – Понятно. – Жарко, – говорю, – на улице. Сейчас бы на бережок. – Мечты, мечты, – ответила она. Не знаю, зачем о бережке говорил. Дачи на озере или там на реке какой приличной, не имел тогда. Тут пришли ребята, к которым я приезжал. Очень удивились, что мы тут беседуем. Показалось мне, что не очень довольны. Выпроводили со всею вежливостью, но скоренько. Ну что ж. Хороша Наташа, да не наша. Но ведь бывает так. Её к нам прислали с документом одним. В кабинете я не один обычно-то. Так ведь лето, отпуска. Один оказался в тот день. Ну и сразу чайку предложил. А кабинет на стороне северной, и жарко не так. Да и вентилятор старался-свистел до невозможности. Она ж сама напомнила про бережок. А выходные на носу были. А я ей: – Приглашаю к друзьям на озеро. Недалеко на электричке. Машин тогда не было, то есть были, да не у всех. У меня не было. Она так на меня посмотрела. С удивлением посмотрела. – В субботу с утреца рванём, а в воскресенье назад. Устроят, разместят. Она снова на меня взгляд направила. Изучала, а потом вдруг: – А удобно? – Ну, коль приглашаю? Прищурилась она, спросила хитро так: – И часто так приглашаете? – Да, ну, что провалиться на месте этом – нет. – Да мне какое дело? Приглашали или нет. Ехать неудобно. Скажут, мол, вот – ещё одна. Говорила она бойко. За словом никуда не лезла. Сразу выдавала. – Не скажут. Один ездил. И редко. – Ну, коли так, – она поколебалась. – Рванём. И ведь рванули. Знакомились в электричке. Я о себе понавыдумал, а она о себе. Ну как водится. Оба молодцы, мол. Ну не так что б уж сильно. Так, малость самую. Приехали. Вроде за поездку чуток и сблизились. Дом у приятелей большой, старый. Хозяйка сразу с контрой к Наташе. Понятно: сама красавица, а тут?! Подкалывала. Как настало время раскладываться на ночь, сказала кому-то на вопрос его, где: – Подождите, новобрачную пару надо определить. Наташа внимания своего ноль – не вышла закавыка. А хозяйка мне: – Ты бельё-то не забыл взять? А то и не упастись? Первый раз услышал, что такое надобно. Руками развёл. – Опять забыл. Говорила же! Вот ей-ей ничего такого не говорила. Специально она. Специально. Наташу позлить. Гляжу, та насторожилась. Ну, так что ж, не сбежит же? Далеко, да и поздно. Место указали. Вышли мы перед сном. Она в одну сторону, я – в другую Потом сошлись. Она что-то о хозяйке сказала. Догадалась ведь, что и для чего та излагала. Ну и хорошо. Мы выпили за ужином. Повольнела она. Только руку протянул, а она поцелуй, да взасос. Оторвались. Пошли в комнату. А там темно уж. А комнатуха мал-мала. Глаза не попривыкли. Свет не зажигали. Она к постельке и села вроде как, потом легла. Я тоже на краешек. Снял кое-что. Волнуюсь. Руку протянул, а она голышкой лежит. Ну, совсем-совсем голышкой. Погладил и в атаку. Коршуном налетел и скоро упал на грудь-то её лицом. Отдышаться. А она вдруг как оттолкнёт. – Ты что, уже? Да мне ж туда нельзя. Период самый… Ты что!? – А что не сказала? – спросил. Но она с норовом была. Больше ни слова. В молчанку заиграла. Я и так, и этак, хотел приласкать. Руку отбивала. Вот и думал: «Дурень я дурень! Какую ночь себе испортил! Какую ночь!» Нет слов, хороша была. Да и хоть мигом всё, а усёк я этот вопрос. И надо ж, всю ведь ночь. Всю ноченьку просидела. Ноги поджала, руками обняла и сидела. А ноги, ноги точёные. Увидел, как светать стало. Утром она меня сторонилась. Никто не мог понять, отчего. Хозяйка радовалась. Тихо, конечно. А зачем и не пойму. Что ей-то до меня. Что мне-то до ей? Назад ехали молча. Уже прощаться стали, в городе-то. – Ладно, я и сама виновата. Но вот так. Теперь быть-то как? Ну и некоторые детали прояснила. Ну, понятно какие. Я шёл домой и тосковал. Какая могла быть подружка классная. Ну, не дурень ли я?! Вот так опыт получается. Надо не о себе, а о той, с кем ты дело-то начал таковое, думать по первому делу. А то сам всё получил. А ей проблемы. За пару минуток то. Не обидно ль ей-то.
Эротические приключения в прицепном вагоне
Так что весь день предстояло пробыть в Тбилиси. Советским был ещё Тбилиси. Сидело, как и вся Грузия, как и другие республики, на плечах кормившей всех России. Майским вечером я оказался на Сухумском вокзале. Сел в поезд, когда уже стемнело. В четырёхместном купе было занято одно место. Кто-то спал, укрывшись с головой одеялом. Когда я вошёл, краешек одеяла откинулся, и женский голос спросил: – Где стоим? Какая станция? – Сухуми – ответил я. – А-а…
Так мало проехали. Я не стал включать лампочку и сел в полутьме на свою койку. – Если хотите, пейте чай, мне не помешаете. Устала сегодня. – Благодарю вас. Но я тоже хочу спать. Пикантный момент. Сколько анекдотов о том, когда женщина и мужчина едут вдвоём в купе. Разочарую. Я честно собрался спать. Сходил, умылся, потом разобрал постель и лёг спать. Утром оказалось, что соседка моя примерно моих лет и весьма привлекательна.
Едва мы очухались от сна, проводница принесла чай. В дверь постучали, и просунулась голова грузинской национальности. – Девушка… Как спалось? В гости можно? – Вчера надоел, – шепнула она мне едва слышно. – Едва отделалась. Я кивнул, внимательно глядя в глаза женщине, и раздражённо спросил: – В чём дело? Мы вот только встали. Какие гости? Кто вы? Голова тут же исчезла, а соседка по купе сказала: – Верно, решил, что муж. Вчера пугнула, что муж ушёл в ресторан за вином, и он не любит, когда вот так пристают. Не знаю, поверил, нет, но только отвалил, как я закрыла дверь.
Открыл её проводник, когда вас проводил в купе. – Да, муж для них важно, – ответил я. – Мне приятель один рассказывал. Однажды шёл с женой по улице одного закавказского городка. Остановилась машина, и жене стали предлагать, мол, поедем с нами. Умчались, но сделав круг, остановились опять. Наконец приятель спросил: «Что вам нужно от моей жены!». А в ответ: «Извини, дорогой, так бы сразу и сказал, что с женой идёшь. Извини!» И машина скрылась. Тут произошло примерно тоже самое. Только я лишь сделал вид, что муж, а соседка – моя жена.
Её это не только не покоробило, но, кажется, понравилось. За утренним чаем она рассказала, что зовут её Ирина. Живёт в Баку. Работает в районном комитете партии. Должность не назвала, а меня это и не интересовало. А дальше стала всё об отдыхе своём, да об отдыхе. Отдыхала она в Сочинском санатории 4-го главного управления. Такие санатории были для партийных босов. Даже медкнижку зачем-то достала. Сделала так, чтоб я увидеть мог. Пожаловалась на головные боли. Мол, вот так отдых. Никакой радости общения. Говорила двусмысленно.
Понимай, как хочешь. Я сделал вид, что не понимаю. Прибавила, что и потанцевать даже было не с кем. Все люди суровые, по сторонам не смотрят. Больше с жёнами, а если одни, то преферанс – главное занятие. Местных в танцзал не пускали, разве что от пристававших на улице отбиваться приходилось. Пояснила, что имела в виду вот таких местных, что в купе заглядывал. Ну а дома, в Баку, она слишком на виду. Я снова не задал вопросов. И она продолжила. Сообщила, что разведена и осталась с тремя детьми. Тут я понял, что интерес её пусть даже к случайному, приличному знакомству, может быть и не случайным. Разговор прервало прибытие поезда в Тбилиси. Проводница сказала, что вагон сейчас отцепят и отгонят на запасной путь.
Там он будет до вечера. Сообщила: – Я купе закрою и вагон закрою, так что вещи можете смело оставлять. Там посторонние не ходят. Охрана. Мы отправились в город. В Тбилиси мне прежде бывать не приходилось. В дальнейшем тоже. Ирина бывала в городе, и потому вызвалась показать мне достопримечательности. Мы обошли наиболее интересные места, проехали на метро. Увидев ресторан, пригласил пообедать. К ввечеру заметно устали. Пошли в парк. У высокого парапета, она слегка подвернула ногу. Я усадил её на парапет. Всё обошлось, она разработала ступню руками и приготовилась спрыгнуть. Я подхватил её, осторожно поставил на асфальт и в этот мормент тела наши соприкоснулись ненароком. Это не вызвало у неё внутреннего протеста.
Мы даже несколько мгновений простояли тесно прижавшись. Но я не почувствовал, что мой клинок превратился в кинжал. Потому смутился и выпустил её из рук. День, проведённый вместе, сблизил. Жалко было, что не будет больше ночи вдвоём. Может, думал я, и ей жалко. Ясно, что прицепят вагон и набьются пассажиры. И вот вагон прицепили, и поезд подали к платформе. Обгоняя нас, побежали к вагонам многочисленные пассажиры. Мы вошли, сели в своё купе. Ждали соседей. Но в вагоне – тишина. Даже удивительно! Мы с волнением следили за перроном. Я не понимал, в чём дело. Впрочем, радоваться было рано. До отправления оставалось десять минут, пять минут, но наш вагон все обходили стороной. И вот поезд тронулся и стал набирать скорость.
Мы стали готовиться ко сну. За окном уже стемнело. Поезд шёл в полном мраке. Южные ночи тёмные. Я сел к ней на полку. Мы занимали две нижние полки. Верхние так пока и остались свободными. Когда ходил умываться, заметил, что свободными оставались и соседние купе. – Устала? – участливо спросил я и уточнил: – Ноги, наверное, устали. Заводил я тебя по городу. – Есть немного, – проговорила она и словно в подтверждение своих слов, провела рукой по ноге. – Давай помассирую, – предложил я. Она не успела ответить. Я стал водить рукой сначала по ноге, той, что она слегка подвихнула. Лечил. Я помассировал ступню, затем рука скользнула чуть выше. Она лежала молча. Я ощущал её оцепенение, затем волнение. Но продолжал гладить ноги ниже колен. Она сначала крепко сжала их, потом несколько развела в стороны. Чуть выше, там, где расходились полы короткого дорожного халатика, блеснули трусики.
Мне так захотелось дотронуться до них. Точнее, до того, что под ними. Рука скользнула вверх. Я коснулся бёдер. Сначала одного, потому другого. Гладил их нежно. с каждым стежком поднимался выше и выше. Мне показалось, что трусики помокрели. Продвигался медленно, чтоб не спугнуть. Сантиметр за сантиметром. Гладил и разговаривал. Рассказывал о впечатлениях от гуляния по городу. Я словно бы усыплял её этим. Но нужно ли было усыплять? Наверное, и так всё понятно. Я уже коснулся трусиков, и почувствовало что-то пушистое и колкое. В следующий раз прижал к ним руку. Ирина не протестовала. Что-то говорила. Наконец, я решился и потащил трусики вниз. Сразу почувствовал их влажность.
Ирина вздрогнула, когда я провёл пальцами по мягким и нежным тканям. Её ноги сами разошлись и согнулись в коленях. Вот тогда я рванулся к ней, сбросив брюки. Ах! – воскликнула она, и сама испугалась голоса. Захватила моё хозяйство и приняла в себя. Всё получилось быстро и яростно. Прямо по-марксистски яростно! Если б слова найти, передать. Работницей-то святая святых – райкома – была. О, как ты там возмутились, если б узнали. Было, видно, мало рая в райкомах. Теперь органы управления получили точное название. Не рай, а ад – мини – страции. Очень мне стало смешно от таких мыслей. Я рвался вперёд, в глубины марксисточки. Было всё мало, мало, мало. – Ййиай! – вскрикивала она. Напор мой был сильным. Я ж тоже в санатории на диете был голодной. И вот такая развязка. Когда устали, поласкались, отдыхая. И вдруг она стремительно села на меня верхом. Упёрлась руками в грудь мою.
Стала подвигаться к вновь ожившему кинжалу. Мне показалось, что она хочет проутюжить меня как танк. Поезд мчался в ночи. Она же мчалась как всадник на ипподроме. С яростью, с марксистской яростью. Очень увлеклась, не соразмерила движения и ударилась головой о верхнюю полку. Только тогда рухнула рядом, обняв меня. Едва лишь перевела дух, и снова коснулась рукой моего хозяйства. И вновь обрела кинжал. Никогда прежде я не видел таких горячих наездниц. Вот уж душу отвёл, так отвёл. Только за полночь я перебрался на свою полку.
Искры звёзд смотрели в окно. Казалось искры её глаз наблюдают за мной. Да, это был цирковой номер! Я чувствовал такую лёгкость! Уже слегка задремал, когда резко стукнули дверь. Я поднялся, но дверь открылась сама. Раздался голос, такой грубоватый, казённый: – Аль спите? Проверка билетов. К нам в купе вошли проводница и мужчина в форменном мундире. – Прям партконтроль! – шепнул я Ирине. – Ваши билеты! – потребовал мужчина. «Вот было бы дело, если бы вошёл минут на десять раньше!» – подумал я. Когда контролёр и проводница вышли, мы ужаснулись задним числом. хо Хотя, чем всё это могло грозить? Успели бы разбежаться по полкам. Вернее, я бы успел улизнуть на свою. Хоть каждому вошедшему было бы ясно, что здесь происходило.
Мы были слишком разгорячёнными. На лицах всё написано. Но контролёр проверял билеты, подсвечивая на них фонариком. Свет в купе не включил. Я снова перешёл к ней. Казалось, она отдала все свои силы. Но я повторил массаж. Она ожила и потянулась ко мне для поцелуя. Она всё никак не могла насытиться близостью. Потом рассказала невесёлую историю её жизни. Призналась, что в санатории искала отдушину. Но нашла эту отдушину только сегодня. Да ещё в поезде, всегда битком забитом. Уже утром проводница пояснила. Вагон заказала тургруппа, но почему экскурсия отменилась. Даже билетов продать в этот вагон не успели. Нам с ней было понятно, что отношения наши перспектив не имеют. Поезд подошёл к перрону. Мы расстались. Не взяли даже адресов.
Горячая натурщица
Рассказы из жизни неугомонного Дачника
Озеро Шлино – необыкновенное чудо природы.
Представьте себе ровную гладь воды под ярким летним солнцем. У берегов вода зеленеет – это отражаются в зеркальном полотне ели и сосны, ну совсем как в старой советских времён песне – «Остроконечные ели ресницы над голубыми глазами озёр».
Вот в такой жаркий летний день я отправился в путешествие. На самый дальний островок отправился. Тихий островок такой. Едва видневшийся с берега, где посёлок наш дачный стоит.
Не один я отправился. В катере со мною сидела прекрасная молодая дама. Она приехала из Питера. Красива, это уже сказал. Общительная оказалась и явно не десятка робкого. А то как? Поехала с мужиков незнакомым.
А предыстория того, как поехали, таковская.
Вертался я однажды с утренней рыбалки. Солнце уже высоко было. Припекало здоровенько. И уже на пляж дачники пошли косяком. Летом много было приезжих, ох как много. То зимою скучно, так это да. А летом не соскучаешь. Аж до начала осени. кто и до первых снегов оставался тут у нас.
А на это лето гляжу, одна молодая дамочка, всё одна, да одна на пляжик шастает.
Ну я поначалу так поглядывал, без особо чего. Но вдруг мысль наметилась. Сказать так – крамольная.
«А что бы и нет?» – подумалось.
А об чём подумалось, догадайтесь ка сами.
Только подумал, не ранее как третьего дня, а оно и на тебе: раненько так на самом пляже её встретил. Одну, понятное дело.
Только лодку приторочил к причалу, только до дому собрался, а она, туточки.
– Что й-то у вас спрашивает? Ника мольберт?
Да, брал я мольберт. А что? Удочки закину, что б даром не сиживать, разложу и кисточкой этак потихоньку и малюю. Как-то не очень что б это дело письмом обозвать. А всё же что-то получается.
– Мольберт, мольберт, красавица. Верно, угадали, – ответствовал я ей.
– Вы художник? – вопросила она.
– Можно и так сказать, а может то и громко, называть-то так, – ответил ей.
А сам со всем вниманием её разглядывал. Не особо скрывая, что заинтересовала она меня.
– Ой, как мечтала! – воскликнула она. – Давно мечтала, чтоб вот так на фоне пейзажа нарисовал меня кто…
– Написал, – поправил я. – Картины пишут, портреты пишут.
– Так вы напишете? – оживившись, спросила она.
Видно, восприняла моё уточнение за то, что и не против я написать-то её. И так глянула мне в глаза! Игриво глянула, с улыбочкой, что сердце мой аж подпрыгнуло в груди-то. Как у юнца-сорванца. Ну как бывало на танцы завалишься и приметишь какую красотку.
Да, была она точно – и стройна, и красива. Глаз не сведёшь. Так вот и не сводил я глаз-то.
А она аж из купальника выпрыгивала:
– Так напишете? Напишете, напишете?
Я молчал, а сам изучал доподлинно, какова она, значит? откровенна просьба, откровенен и огляд, так сказать, натуры.
– Я оплачу. Я девушка не бедная, – игриво этак просвистела она.
А сама совсем ко мне близко подошла.
Личико свежее, гладкое. Вроде и без штукатурки, а смотрится. Глазки ясные, аж как небо над нами. Волосы светлые, ну как пшеница спелая. Брови тоненькие, ну брови-то могла и повыдергать. От них малость удивление на личике. Ресницы пышные. Что декорации выражение личика меняют.
Вот не получила ответа и удивление в обиду преображается.
– Платить не надо, – сказал-таки я, а то того гляди глаза мокрыми с обиды сделаются, но предупредил. – Не профессионал, то бишь, не волшебник. Я только учусь.
Тянул я с ответом. Ждал каково её слово. А ведь шельма! Мне всё больше нравилась.
– Так вы согласны? – снова спросила.
Напористая, гляжу дамочка, ой напористая.
– Ну что ж, можно...
– Да, да, вот бы здесь, на берегу, у воды, или в воде, у края, – затараторила она, и лицо снова приняло выражение не обиженное.
А у меня уже кое-какой план созрел.
– Здесь, хотите, на песочке или аж в воде? Не-ет, здесь нам не дадут, не дадут дело обделать. Здесь советами замучат, – проговорил я и этак изобразил раздумья серьёзные.
– А где же? Где? Говорите. Я согласная! – продолжала она.
А сама и вовсе близко подошла. И тут открытие выдала:
– Так вы человек молодой ещё… Я издали думала, что де… – должно хотела ляпнуть, мол, дед-годовик, но тот час поправилась: – Думала… дядя какой-то бородатый и угрюмый. А вы…
Борода, видать, малость, сбила её.
– Ну уж не молодец, ясное дело, – поправил я, – но есть ещё порох в пороховнице, есть… Ну, а где, где? – повторил её вопрос. – Да вот хотя бы там… На острове. Видите островок. До него от нас километра два. Пловцы туда не заплывают, ну а рыбаки, рыбаки разве по выходным там располагаются. Пустынный островок. Необитаемый. Вот там никто не помешает.
– А как туда доберёмся? На этой лодке? – спросила она и кивнула на мою посудину-плоскодонку.
А в ней-то водичка на дне, рыбная чешуя.
– Зачем же? У меня и получше кой-что имеется. Катерок, так сказать, парадно-выходной. На нём и двинем на остров. Добрый, добрый катерок. Ну не как в лучших домах, но ничего ещё, – успокоил я, заметив недоверие во взгляде.
– И когда? – спросила она.
– Да как скажете.
– И даже сегодня?
Я усмехнулся, снова осмотрел женщину и проговорил:
– Отчего нет? Можно и нынче. Только вот загляну домой, снасти брошу, да кисти нужные с красками прихвачу. Часок спустя и отправимся, коль не против.
Она улыбнулась, так жеманно, повела плечом, да запрыгала по детски, в ладошки, похлопывая, да проговаривая:
– Буду ждать, буду ждать… За купальником сгоняю. Другой одену, – прикинула видно, что не шуточное дело, – рисовать буду.
Воротившись домой, первым делом я покормил пса соседского. Зверобоем звать. Сосед-то, Назар Натонов, отъехал по делам
Зверобой я то он на коротком поводке держал, тот бедняга и лаял то, на кого указивка будет от хозяина. И на меня, ещё, сучёнок, по первости бросался, но потом всё ж прикормился на харчах моих, попривык.
Взлаял он было и сейчас, да я ему:
– Замолкай! Не гневи больно. А то в будку закрою.
Зверобой недовольно заурчал и успокился.
Бросил ему косточку сладкую из щей суточных. Накинулся, радостно урча, изголодался по сахарной косточке. Скушно стало ему в поселке нашем. Облаять-то некого толком.
Уходя, потрепал его, почесал за ухом:
– Ух, псина ты, псина – зверушка ты моя злобная… Охраняй, охраняй хозяйство. Грызи всех, кто наведаться решится на территорию.
Собрал я, что надо, да и отправился на озеро. Дамочка состояла уж в полной готовности. Пёрышки почистила, прихорошилась.
– Мы ж так и не познакомились, – сказала она.
Я назвал себя.
– Ирина, – жеманно пропела она, протянув ручку.
– А отчество?
– Ну не надо, не надо отчества… А вообще – Николаевна.
– Ну, Ирина Николаевна, вперёд, Ирина Николаевна, вперёд и с песней! – воскликнул я и подал руку, чтобы помочь сесть в катер.
Гладь ласковая озёрными далями, аллеями еловыми манила заросшими, возле елей расположились и костры зажгли люди отдыхавшие, берега наши искрились кострами.
Катер стремительно унёс нас от берега.
А остров – просто чудо остров. Ткнулся катерок мой в песочек. Укрылся под нависшим кустарником. Я в воду спрыгнул. Прицепил его к стволу, что покрепче. Подошёл к борту и уже без церемоний взял на руки свою натурщицу. Пушинка, да и только. Всё моё тело встрепенулось, весь я загорелся од предвкушения. Поначалу то думал, не всё сразу. Ходить вокруг, да около придётся.
А тут взял. А она всем телом своим подрагивает. Прокалило солнце, а может и не только солнце. Дамочка в соку самом. А тут этакий почти что богатырь касания к ней делает.
Шаг, второй. Вот уж и бережок. Да выпускать из рук неохота. Ну и будто спотыкнулся я. Упал в воду прям с нею. Ну бывает же, снеосторожничал чуток. А как подал, то губами-то прямо в губы её и вжался. А она-то она?! Будто и надо так. Охнула моя дамочка и как руками сожмёт, что силы в ней было.
Ну а я, чтоб прерыва в деле том не было, сразу за купальник её раскрасивый. Да и долой его, долой.
А грудки упругие, что девичьи! Аж в глазах темно, так исследовать вопрос этот пожелалось. А она ладошками своими на по спине мне. Как током ударила высоковольтным.
В катере то у меня все условия. Там и сиденья, как шестьдесят девятом газончики раскласть можно. И всё-такое разное – простынки там, полушечки – всё имеется. Да уж какой там катер!? Прямо на кромке берега и состоялось всё. Ухватил я штанишки её купальные. А она только ноги слегка согнула, что полегче мне было.
А ножки стройны, ну как на станке отточены. Упал я меж ними. Водой они уж малость охолонулись. Чудненько. Себе представьте только, как чудненько. Вода-то у бережка прохладна. Тенёк от кустов. Не прогрелась.
Сбросил и я свои доспехи. Рвалось из них кое что наружу. Ну и запустил это кое что, куда следует. Вот уж дело, так дело. Всем делам дело. Аж вода у бережка вспенилась. Мы перекатились поглубже. Потом на пляжик выбрались, ну и. Сами знаете, что потом. Натурщица-то класс наивысший. Рук не оторвать, не то что глаз.
Она дыхание уняла, в ритм ввела, чтоб говорить можно. А личико с удивлённого, в самое довольное обернулось.
Я целовал, да, было. Целовал то в губы, а то и, куда так хотелось. Не скоро о мольберте вспомнил.
Не стала она облачаться. Купальные снасти так и валялись на бережку. Так писал. А она на песке возлежала. Дразнила, окаянная, ох ка дразнила.
Ветерок освежающий тронул заигравшие волосы, едва распустила она море очарованья, нежное, а хохотнула как ласковое юное, будоражащее, яркое творение. Военные! Да, военные любят таких.
Были и потом вылазки на остров. На этюды. Ну и нацарапал кой-что. Ей глянулось. А нынче вот вспоминаю. Тоскую, тоскую, да что там. Уехала красавица в свой Питер. Воротится ли когда?
Когда открывается синяя, точно оттенённая чарующей краской, алеющая дальним ликующим ярким звенящим восходом едва расцвеченная, облаками белыми объятая й неба искрящимся кружевом, алеющая
панорама, очень грустно становится от воспоминания моего славного.
Но вот и снова лето. Мольберт то, он в готовности. Да и кисть всегда отточена. Жду!
Любовь и случайности
Есть у меня один товарищ. Работает в области технической журналистики . На хлеб насущный зарабатывает статьями по внедрению свободного ПО в народное хозяйство. Основная задача , его творчества , - отказ от MS WINDOWS и постепенный переход на операционную систему Linux .
Утро… Всё то же лёгкое волнение. Нет. Не нетерпение. Состояние некоторой отрешённости испытывал он, когда собирался, когда садился в машину, прогревал двигатель.
И по-прежнему, как в калейдоскопе картинки, картинки, картинки.
Он приехал за полчаса до срока, нашёл место, где остановиться, чтобы был хороший обзор. Нет, он не ждал, затаив дыхание. Он просто ждал, думая о всякой всячине и даже не о той, кого ждал.
Познакомились почти два месяца назад. Были только звонки… И вот первая встреча.
«Узнаю ли?»
Узнал. Приоткрыл дверь, чтобы она обратила внимание на машину. Обратила. Подошла, села. И вот они вдвоём. Путь недолог, движение не очень интенсивное. О чём-то говорили. И опять никакого волнения. Годы меняют отношение к таким встречам. Но как же давно не было ничего подобного?
«Грех ли это? Но кто из нас без греха? Не выполнять же совет одного фарисея в «спецодежде», не кощунствовать же, прося Отца Небесного, чтобы лишил возможности, мягко говоря, увлекаться прекрасным полом. Целитель сказал, что если «жить без греха» в данном вопросе, можно влететь в такую историю, которая отразится на здоровье – простатит и прочие беды.
Впрочем, хорошо уже то, что стали посещать такие мысли, что стал задумываться над сутью отношения к женщинам.
А дорога коротка. И, увы, не зимняя сказка, а слякоть, грязь на этой дороге. Стеклоочистители не выключишь.
И вот уже растворились ворота. И вот уже знакомая стоянка.
– Пойдём, прогуляемся? – спросил уже в номере.
– Я так устала. Можно немного подремать?
Подремала, не раздеваясь, перед телевизором. Потом пошли в бар. Бутылка вина и прочее. Сидели долго. Разговаривали. И снова он не волновался, не замирал от ожидания того, что должно состояться.
По пути в номер спросил:
– Зайдём на дискотеку?
Она отказалась. Она явно торопилась в номер.
О брудершафте напомнила сама. Он открыл Шампанское, наполнил бокалы. Они встали, выпили, скрестив руки. Последовал долгий поцелуй, и он почувствовал дрожь во всём её теле. Смело коснулся пышной, полной груди, нашёл верхнюю её точку. Рука скользнула под кофточку, освободила то, что уже томилось от ожидания. Прильнул губами к груди. Протеста не было, лишь усилился трепет во всём теле. Он нашёл пуговку на юбке, рука скользнула в запретные края… Всё длилось менее минуту с того момента, как они выпили, и он шепнул:
– Погасим свет?!
Разделись, словно по неведомо кем данной команде, причём, почти наперегонки. Ещё через несколько мгновений он ощутил всё её упругое, достаточно ещё молодое тело. Оно притягивало, и он не противился притяжению, как не противилась и она. Но волнений по-прежнему не было. Они сплелись в страсти, именно в страсти, ибо это конечно была только страсть, лишённая того высокого чувства, которое мы зовём любовью. Лёгкий стон вырывался из её полураскрытого рта, когда он выпускал её губы из своих губ, и касался груди, которую уже оценил особо – она была красивой, полной и удивительно упругой.
Не опишешь в двух словах, как поразило его её тело. Он не спешил, и в какой-то момент она спросила его:
– Мне уже бежать мыться?
Вопрос мог прозвучать несколько грубо, если бы его задала другая женщина и в другой ситуации.
– Нет, – возразил он.
Он не спешил, он весь утонул в ней, он наслаждался формами её тела, которого было не так чтоб много, но не мало – вымученных диетой «шкилетов» он не любил. То, что её тело не представляло собою некоего подобия обтянутого кожей скелета, только усиливало ощущение полноты обладания женщиной, именно женщиной, а не заморышем.
– Теперь беги, – шепнул он через некоторое время с той же прозрачной откровенностью, которая в данном случае не разрушала восторг, а была естественна, как естественно всё, что происходило между ними.
Потом был короткий отдых. Она приняла душ, слегка поднялась на подушках, и он увидел близко перед собою и упругий животик и аккуратный пушок, и показавшийся удивительно изящным манящий разрез.
И не сдержался…
Он гладил её ноги, ровные и полные, её колени, целовал бёдра, он замирал, отстраняясь от неё и любуясь всем тем, что открывалось взору…
Свет фонаря за окном освещал по касательной комнату, свет давал и не выключенный телевизор. А он любовался всем тем, что столь притягивало взор, и снова целовал то, что так хотелось целовать. И шептал:
– Я хочу запомнить эту ночь всю, до мелочей.
– Пора спать, – томно отвечала она.
– Нет. Едва заснёшь, и сразу будет утро. Я хочу, чтобы ночь тянулась как можно дольше.
– Я уже не могу. Я уже без сил, – говорила она.
Он чувствовал, что она даже не может объяснить своего состояния. А он снова и снова любовался ею и тем аккуратным и привлекательным, что скрывалось под мягким пушком.
Он же был потрясён. И мелькнуло… Вот о чём или о ком слова песни, до сих пор казавшейся нелепой: «ты затмила всех».
Впрочем, действительно у него не было ночей, подобных этой. Их не было уже, по крайней мере, лет пять или даже больше. И всё прошло как-то просто, ладно, гладко. И наступило утро, и они ходили завтракать и о чём-то говорили, совершенно незначащем.
А потом она всё же рассказала кое-что о себе: муж погиб в автомобильной катастрофе одиннадцать лет назад… Сама растила детей. Они погодки. О себе не думала.
Заключила серьёзно:
– Священник сказал, что замуж нельзя – муж ждёт там. И я не могла переступить этот рубеж. До сего дня не могла. А мама сказала, что вдовий век долог.
– Неужели ни разу и ни с кем?
– А ты этого не почувствовал? – спросила он, пристально посмотрев ему в глаза.
И тут он вспомнил её отказ от дискотеки, вспомнил, как спешила в номер, как сама напомнила про брудершафт – наиболее лёгкий повод к началу того, что она ждала, видно, с более сильным нетерпением, чем он. Ждала и чувствовала, что он почему-то медлит, видимо, несколько смущаясь.
– Я постараюсь скрасить твой вдовий век! – молвил он вместо ответа на её вопрос.
Трудно сказать, насколько верил в сказанное. Упоминание о том, что говорил ей священник, озадачило. Озадачило уже только одним: кому вред оттого, что произошло? Никому. А как без этого жить? Невозможно.
Он довёз её до дома. Прощаясь, спросил, когда удастся увидеться вновь.
– Звони, – ответила она неопределённо.
Он поехал медленно – внимание было рассеяно. Он думал о происшедшем и не знал, как поступить дальше.
«Да, это не любовь, это даже не влюблённость. Но тогда что же? Ведь было очень хорошо. Быть может, так хорошо было оттого, что всё спокойно, с добрым настроем… Быть может, оттого, что её молодое, пышущее здоровьем и пронзительной женской силой тело истосковалось по мужским ласкам?! – подумал он и даже улыбнулся, когда мелькнула мысль: – Ещё не известно, кто на кого набросился… Она набросилась на меня с жадностью, как изголодавшаяся тигрица».
Он стал вспоминать всё то, что произошло минувшей ночью, и почувствовал бурное волнение во всём своём существе. А ведь казалось, что он вчера отдал все силы. Но стоило представить её всю под пробивающимся сквозь занавески светом фонарей, как он словно бы ощущал то же, что было под этим светом, и всё существо взывало к повторению случившегося.
Она объяснила, что часто вырываться из дома не может, что дети требуют постоянного внимания, хотя уже и подросли, а родители, которые живут с ней, уже старенькие. И всё же она не отказывалась от новых встреч.
И вскоре он наметил очередную поездку, теперь уже в один из подмосковных санаториев. Тоже на сутки – на более длительный срок она не могла вырваться из дома. Ждал с нетерпением, ждал в предвкушении новых удовольствий. Именно удовольствий от прикосновения ко всем её прелестям, удовольствий от её страстного и неутолённого желания, которое она не скрывала, и которое не могло не быть ему приятным.
Но за три дня до поездки заболел её сынишка. Причём, не просто заболел – температура была высокой.
– Да, да, конечно перенесём поездку – сказал он. – Конечно, нельзя уезжать…
Когда сынишка выздоровел, они снова договорились о встрече. И снова неприятность. Теперь заболела дочь. И тоже болезнь проходила при нехарактерно высокой температуре.
Ну что ж, дети болеют часто. Он терпеливо ждал. И вот, лишь полтора месяца спустя показался свет в конце тоннеля. Он договорился о номере, он ждал, уже в весьма подогретом ожиданиями состоянии.
Встречу назначили на субботу, но накануне, в пятницу, машина сбила её отца, который попал в реанимацию…
Вот когда вспомнились слова священника.
Он не стал резко обрывать знакомства. Он довольно долго ещё звонил ей, и они даже планировали встречи, правда уже не конкретно, а так, в общих чертах: «надо бы» или «может, в следующем месяце», или «когда дети сдадут экзамены».
Они ни разу не говорили о странной цепи случайностей, не говорили о последовавших одна за другой болезнях сына и дочери, и в довершении – о несчастье с отцом, которого хоть и выписали, но не смогли вернуть к прежнему его состоянию.
Ждал, что она обратит внимание его внимание на эту цепь не случайных случайностей, но она даже намёком не упоминала о них, хотя, конечно, не могла не думать.
И всё же, почему так устроен мир? За что ей такие испытания серьёзные – ведь растить детей одной – дело нелёгкое. Работать приходилось, не жалея себя. Но и этого мало. Она была живой, здоровой женщиной – женщиной, лишённой тех качеств, которые доставляют столько приятного при общении с нею.
Неужели ей так и придётся коротать долгий вдовий век? Неужели не имеет права на мужскую ласку, на то необыкновенное, порой волшебное, что даёт соединение мужчины и женщины, пусть даже и не полюбивших ещё друг друга, но, безусловно, испытывающих взаимные симпатии? Никто не может предугадать, каким будет итог подобных взаимоотношений.
Он не знал ответов на эти вопросы, потому что по-прежнему исходил из того, что их личные отношения, если они не приносят никому вреда, но приносят радость вступающим в них людям, вовсе не могут быть порицаемы.
Он никак не мог принять душой то, что всё, что было у него с нею – грех. Слышал об этом много раз, слышал и от священнослужителей и просто от верующих своих знакомых. Слышал, но не принимал. Уж больно виртуальным был этот грех в его представлении.
Он часто думал о ней. Ему говорили, что женщина после рождения второго ребёнка с особой силой испытывает тягу к тем самым, именуемым грешными, отношениям с мужчиной. И вот она осталась одна именно после второго ребёнка. Но за что же ей такое наказание? Ведь с темпераментом у неё, что понял он даже за столь короткую встречу, всё нормально, даже более чем нормально.
Порою задумывался не только о ней – задумывался о многих, очень многих женщинах, которые оказывались в аналогичных положениях. Ведь сколько их, лишившихся мужей и коротавших свой вдовий век? Каково им? Да и вообще женщин значительно больше, нежели мужчин. И уходят мужчины раньше, а порой, по известным обстоятельствам, в раннем возрасте, особенно теперь в период разнузданной демократии – источника войн и конфликтов.
«Нет, нельзя, не моги!» Так говорят священнослужители. Почему? Кому же вред? Кому? Да, конечно: если жена изменяет мужу, вред мужу. Если муж изменяет жене, вред жене. Правда, относительный, скорее, виртуальный вред. Да и, как говорится, «ноне мало кто не изменяет». И всегда ведь можно определить причину, почему эту случается.
А если организм требует, если желание невыносимо, если оно пожирает огнём? Он снова и снова вспоминал ту встречу, которая, чем дальше уходила во времени, тем больше высвечивала моментов, оставшихся в памяти, но неоценённых сразу. Он вспоминал её поведение «до того», вспоминал некоторую нервозность, когда они только вошли в номер, а он посчитал неприличным сразу начать то, ради чего, собственно, они и приехали. Она отказалась идти гулять. Нехотя согласилась на буфет, и во время разговора в голосе появлялись какие-то нервозные нотки, словно электрический разряд нет-нет да пронзал всё её тело. Вспомнил, как отказалась от дискотеки… Да, она торопилась… Можно бороться с собой в обычной обстановке, но когда ясно, для чего приехали, и что ждёт впереди, вероятно, бороться уже невозможно. Оттого, вероятно, менее чем через минуту после того, как он открыл шампанское, они уже соединились в жарких объятиях, и объятия эти были с её стороны пронзительно-пламенными.
И какой же успокоенной, удовлетворённой и даже посвежевшей она была наутро!
Так какой же вред они принесли людям, стране, миру? Какой, наконец, вред принесли Вселенной? И, уже с осторожностью, подумал: в чём провинились перед Богом?
Да, во всём этом была какая-то тайна, которую он не мог разгадать. Он чувствовал, что священники намеренно или по незнанию скрывают что-то такое, что должно прояснить самое простое: для чего Бог создал человека именно таким, каким создал? Для чего Бог создал то волшебное великолепие, которое принято называть прекрасным полом? Если мужчина и женщина созданы лишь для продолжения рода, то к чему красота? Ведь связь для этих целей может иметь место два, три, реже четыре, ещё реже пять, шесть и более раз. А остальное блуд? Остальное похоть?
И он нашёл ответ… Да, он был не во всём прав и далеко не во всём безгрешен. Но он и не был грешен настолько, насколько пытались его убедить в том многие сторонники аскетического образа жизни человека.
Николай Шахмагонов. И осталась любовь. Рассказ.
Николай Шахмагонов
***РАССКАЗЫ О СОВЕТСКОЙ АРМИИ***
Рассказ
Мы покидали Пятигорск в начале декабря.
– Что с тобой, дружище? Или сердце осталось там? – спросил я, кивнув на иллюминатор, за которым уплывали под крыло, постепенно уменьшаясь в размерах, Машук, Бештау и Железная, а вдалеке всё отчётливее обозначались горы Большого Кавказского хребта и белоснежные клыки двуглавого красавца Эльбруса. Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом, словно не понял вопроса. Он думал о чём-то своём и, очевидно, не сразу переключился на то, о чём я спрашивал. Наконец, прищурившись, ответил: – Да, ты угадал. Там осталась моя любовь. Только случилось это не теперь. Много лет прошло, много воды утекло, а я не знаю, правильно ли поступил тогда? Сам ведь погубил свою любовь. И осталась печаль, светлая печаль… Загадочное начало разговора заинтриговало, но я решил не торопить, боясь сбить приятеля с того удивительного настроя на откровение, который неожиданно посетил его. Лишь спросил: – Ты ведь, насколько я понял, здесь и раньше отдыхал? – Не однажды… – И был у тебя, конечно, курортный роман? Он покачал головой и ответил убеждённо, даже с некоторым раздражением: – Нет, то, что случилось со мной, курортным романом не назовешь… Нет, – ещё раз подтвердил он уже более мягко и задумчиво, – то далеко не курортный роман. Мы помолчали. Я не приставал с расспросами. Бесполезно спрашивать в таких случаях. Захочет человек – сам расскажет, ну а коли не захочет, так и просить бесполезно. Он заговорил неторопливо, доверительно: – Там, в санатории, ты мне поведал историю своей любви… Признаюсь, она не оставила меня равнодушным. И не только потому, что драматична, а ещё и оттого, что напомнила мне и мою трагедию, которая в чём-то перекликается с твоей. Это, пусть даже косвенное, напоминание о пережитом мною сравнительно недавно, пережитом остро и больно, заставило сжаться моё сердце. А он продолжал: – Если хочешь, расскажу… Откровенность за откровенность… – Расскажи, – тихо попросил я. – Да, именно в этом аэропорту я оставил свою любовь, – повторил он уже сказанную ранее фразу. – Здесь простились мы, печальные, но полные надежд на скорую встречу, после которой не будет разлук… – И встреча состоялась? – поинтересовался я. – Состоялась, но не принесла нам счастья… А началось всё здесь... Здесь она буквально сразила меня неожиданным признанием: «Извини, я должна была сказать тебе раньше, но не решилась… Мы с Серёжкой обманули тебя в мой приезд… Никакой он мне не брат…» Я не сразу понял, что она имела в виду, а когда сообразил, замер в оцепенении и машинально переспросил: «Но кто же?» «Ай, неужели не понимаешь?! – воскликнула она и поспешно пояснила: – Теперь никто… Я тебя люблю, только тебя. Ну Серёжку… Нет, я поняла, что не люблю, – и после небольшой паузы прибавила: – Я ему обо всём написала…» Сказала и, выскользнув из моих объятий, отстранилась, с тревогой глядя мне в лицо. Вот так… Никакой не брат. А я ведь до того момента считал её сестрой солдата роты, которой командовал, сестрой тихого, скромного и застенчивого рядового Савельева. Если бы знал правду, разве дал волю чувствам? Нет, ни за что… …Я затаил дыхание, боясь сбить приятеля с не иссякшего пока настроя на откровение, который редко посещает таких, как он, беззаботных и весёлых людей. Впрочем, подумалось мне, так ли уж он беззаботен и прост, каким с первого взгляда кажется? Быть может, за внешней весёлостью он скрывает от постороннего глаза какую-то свою неизъяснимую печаль, какие-то свои сокровенные мысли? Если печаль остра и неизлечима, тяжёл её груз, в особенности, когда не с кем его разделить. И вот он нашёл плечо, на которое можно переложить хотя бы небольшую часть непосильной ноши. Ведь и я тоже недавно сделал это, ведь и мне тогда стало легче от его участия, от искреннего и неподдельного внимания, от горячего сочувствия и несомненного интереса к моему рассказу. Ну что ж, он совершенно прав – откровенность за откровенность, доверие за доверие. Мой приятель справился с волнением и снова заговорил: – Впервые я увидел её весной. В тот день, завершив проверку караулов, возвращался в роту. На контрольно-пропускном пункте ко мне подошёл дежурный, коренастый сержант в аккуратно отутюженном обмундировании и красной повязкой на рукаве и доложил: «Товарищ старший лейтенант, к рядовому Савельеву приехала…», – он намеренно сделал паузу и обернулся к девушке, что стояла у входа в комнату посетителей… «Сестра… Да, да сестра», – поспешно подсказала она своим звонким, мелодичным голосом. Я взглянул на неё и почувствовал: что-то неладное случилось с моим сердцем. Оно сжалось на миг, заколотилось отчаянно, забилось, словно дикая птица в клетке, стремясь вырваться на свободу. Мой взгляд мгновенно охватил и запечатлел навсегда и светло-русые волосы под капюшоном лёгкой модной куртки, и бездонные глаза, цвета весеннего неба, покрытые пушистыми, чуть загнутыми вверх ресницами, и джинсы в обтяжку, под которыми угадывались стройные ноги. – Значит, сестра? – переспросил я, не отрывая от неё восхищённого взгляда. – А как ваше имя? – Светлана… Удивительно подходило к этой яркой, словно светящейся на ясном весеннем солнце, девушке такое прекрасное имя. До сих пор не могу забыть тот миг, когда впервые увидел её, ту встречу, которая подарила мне невиданную и не испытанную прежде вспышку радости. Светлана погостила у нас в тихом и глухом, затерянном в лесах гарнизоне несколько дней. Сестра и сестра. Мало ли кто приезжает навестить солдат – и родители, и братья, и сёстры... Навещают и знакомые девушки. Правда, место в гостинице можно выделить только родственникам. Потому и назвалась Светлана сестрой, тем более, по удивительному совпадению они с Сергеем оказались однофамильцами. Впрочем, фамилия в сельской местности распространённая. Я сам провёл детство у бабушки, где Савельевых было чуть ни полдеревни. Приехала Светлана в пятницу, а в субботу в клубе был вечер отдыха… Одним словом, танцы… Как обычно, я присутствовал на вечере, но не отдыхал – работал, ведь там были мои подчинённые, около сотни горячих голов, около сотни утомлённых за неделю нелёгкой солдатской службы молодых, задорных парней. Сергей со Светланой пришли на вечер, но не танцевали. Сидели и разговаривали в сторонке. Совсем не умел танцевать этот скромный, застенчивый юноша. Я даже удивился, насколько несхожи они со Светланой по темпераменту. Дерзкий язычок и весёлый нрав, искромётный характер – всё это я сразу отметил у Светланы. Словом, они сидели и разговаривали о чём-то в противоположном конце зала. Иногда Светлану приглашали на танцы товарищи Сергея. Она охотно выходила, танцевала, а затем снова возвращалась на прежнее место и садилась рядом с Савельевым. Я украдкой наблюдал за ней и подмечал, что тоже нахожусь в поле её зрения – нет-нет, да обжигали меня быстрые, как молния, взгляды. Вечер продолжался. И вдруг… Помнишь… «Музыка вновь слышна, встал пианист и танец назвал…» Правда, не пианист, а наш инструментальный ансамбль заиграл «Белый танец»… Ох как я любил, да, наверное, ты заметил, люблю и теперь этот вальс. Он всегда будоражил и будоражит меня, куда-то зовёт, манит куда-то, и сердце готово улететь из груди вслед за этим кружащим и чарующим вихрем… Так вот, когда заиграли «Белый танец», я встрепенулся. Мог ли надеяться? Не знаю, почему посмотрел на Светлану. Она перехватили мой взгляд, встала и… Помнишь слова: «…и на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал…» Эти фразы летели из усилителей, а она шла, действительно шла ко мне необыкновенной, лёгкой, парящей походкой… Она шла и смотрела на меня… да как смотрела! Я встал, шагнул навстречу, и мы закружились в вальсе… У меня и сейчас перед глазами зал клуба и она, её глаза… И словно слышу: «…вихрем закружит белый танец, ох и услужит белый танец, если подружит белый танец нас…» Да… если бы ты знал, как хорошо было танцевать с нею, как хорошо! Я не мог оторваться от её лица, от её глаз. Мне казалось, что вот сейчас же, немедленно утону в них, и не будет мне спасения… А она тихонько подпевала: «может быть, этот вальс, нам предстоит запомнить навек…» Фраза получилось пророческой – запомнил, на всю жизнь запомнил я тот первый с нею вальс.., – голос его дрогнул: – А ведь и она запомнила тоже… В понедельник Светлана уехала, и я загрустил. Я ругал себя за то, что так и не подошёл после того вальса, не заговорил с нею, не спросил её адреса… Адрес, конечно, можно было попросить у рядового Савельева, но мне казалось, что это неловко как-то, ну и всё откладывал, да откладывал. А потом уж, когда время прошло, нелепо стало обращаться с подобной просьбой. Не думал и не гадал, что смогу когда-то её увидеть вновь, а ведь увидел – не прошло и полгода. И где, думаешь, увидел? Здесь, точнее, теперь уже не здесь, а там, – указал он жестом на иллюминатор., – в Пятигорске. Какая же это была удивительная встреча! Я приехал в санаторий жарким июльским днём. На термометре у входа в в корпус, в который меня поселили, было тридцать девять… Ветер и тот дышал зноем. Перед обедом я отправился пить воду под руководством своего соседа по комнате. Мы прошли по мягкому плавящемуся на солнце асфальту, свернули на тенистую аллейку, которая ведёт к выходу из санатория, поднялись по тротуару бювету. Там-то я и столкнулся лицом к лицу со Светланой. Бывают же такие встречи! Мы замерли как вкопанные, не обращая внимания на удивлённые взгляды отдыхающих, которым мы загораживали проход к источнику… Но я ничего не видел перед собой, кроме прекрасного милого, неотразимого источника моего счастья… Да… в те минуты понял, что она – моё счастье! «Неужели это вы? Как я рада!» – воскликнула она и смущенно замолчала, глядя на меня. И я признался с чувством, искреннее: «Как счастлив, что вижу вас!» Значит, было всё-таки минувшей весной там, в моём лесном гарнизоне, что-то такое, что зажгло наши сердца. Какие это были счастливые дни! Мы обошли и объехали всё, что только можно обойти и объехать на Кавказских Минеральных водах. Каждый вечер гуляли по знаменитому Пятигорскому парку со странным названием «Цветник». Нас встречали разноцветные фонарики вдоль аллеи, скамеечки в тенистых шатрах высокого кустарника, веселая и беззаботная публика. Подолгу стояли у поющего фонтана или поднимались наверх, к подножию Машука, мимо Лермонтовской галереи и грота Лермонтова туда, где навевала тихую и светлую грусть Эолова арфа… У нас было бесчисленное количество планов… Всё оборвала телеграмма. Я вылетел немедленно. Не стану описывать мой путь. Он, конечно, был невесел. В голове ералаш от фразы её последней и от сообщения о том, что она отправила Савельеву письмо, в котором рассказала о наших с ней отношениях. Что она рассказала? Вероятно, то, что не любит его, а любит меня? Каково такое читать солдату?! А мне каково знать всё это? Как я теперь, вернувшись в роту, посмотрю в глаза своему подчинённому. Вот какие мысли волновали меня… Самолёт – не поезд. Добрался я быстро. Уже вечером, не дождавшись следующего дня, отправился в роту. Вошёл в канцелярию и поразился тому, что все в сборе, несмотря на поздний час. Мой заместитель по политической части лейтенант Головлев поднялся навстречу, командиры взводов и старшина тоже встали. Головлев дрожащим от волнения голосом доложил: «Товарищ старший лейтенант, в роте происшествие. Пропал рядовой Савельев!» Несколько мгновений я стоял молча. Если бы ты знал, что пережил! Пропажа любого солдата – событие более чем трагическое, но Савельев… Я, конечно, сразу подумал о письме, которое отправила ему Светлана. Но не её винил в том, а себя… Справившись с собой, сухо спросил: «Как, при каких обстоятельствах это случилось?» Головлёв ответил: «Позавчера вечером случилось! Вчера рано утром я отправил вам телеграмму» Мы были с замполитом на «ты», но при подчинённых отношения оставались официальными. Я потребовал: «Доложите о принятых мерах по розыску!» Мой тон был таковым, словно в канцелярии роты все были виновниками происшествия. А ведь считал таковым виновником только себя. Лейтенант Головлёв докладывал о поисках, которые велись всю минувшую ночь и весь день, вплоть до отбоя. Я выслушал молча, собираясь с мыслями перед принятием решения. Затем коротко распорядился: «Ещё раз прочесать лес в районе первого и второго постов. Затем внимательно осмотреть мелколесье за ручьём… Это первое. И второе, выясните, не получал ли Савельев каких-то писем из дому или от девушки, которые могли бы взволновать его? И ещё, расспросите товарищей по взводу, каким было его настроение в тот день, как вёл себя, что говорил… Если кто-то что-то знает, немедленно ко мне…. В любое время суток – сюда ли, в гостиницу ли…» Тяжёлой была для меня следующая ночь… Лишь под утро забылся я тревожным сном. Что это был за сон!.. Я вдруг ощутил плавное движение легкового автомобиля, даже его центробежную силу, которая толкнула меня на повороте к Светлане. Она была в подвенечном платье, особенно прекрасная и счастливая. Я проснулся. Да, это был всего лишь сон, необыкновенный по остроте и силе ощущений. Сердце колотилось так, словно я стремительно, на оном дыхании, преодолел крутой подъём. За окном бежали рваные серые и угрюмые облака, застилавшие всё небо, за окном занимался день, в который надо было вступать… Я вышел на улицу. Моросил по-осеннему надоедливый и холодный дождь. Лето в нашей полосе кончается рано, и уже в августе, подчас, ощущаешь настойчивое и сильное дыхание осени. Я кутался в плащ-накидку, и тревожные мысли о предстоящих поисках рядового Савельева не выходили из головы. Несмотря на ненастье, я вывел роту на прочёсывание леса, указал каждому взводу квадрат поиска. Спустя полчаса ко мне подбежал связной командира первого взвода и доложил, что неподалёку от лесного озера найдены пилотка и ремень рядового Савельева… Я поспешил туда. На лесной поляне солдаты раскапывали малыми сапёрными лопатками наскоро засыпанную яму. В нос ударил сладковатый запах гниения. Можешь представить себе, каково мне было в те минуты… Из оцепенения вывел голос командира взвода: «Кто-то закопал лося… Молодой лось, лосёнок», – уточнил он, указывая на яму. У меня отлегло от сердца. Неподалёку от ямы нашли стрелянную ружейную гильзу и финский нож со следами крови на лезвии. Я приказ всё это отправить в канцелярию роты. Надо было передать в милицию для экспертизы. Поиски солдата были продолжены, но не принесли никаких результатов. Лишь на заброшенной, частично заросшей лесой дороге нашли следы автомобиля и место его стоянки. Я выставил посты охраны до прибытия милиции. Нужны были следователи-криминалисты, чтобы определить, насколько всё это может быть связано с исчезновением солдата. В роту вернулись к обеду. И тут меня ждала новость. Почтальон протянул письмо, адресованное Савельеву. Посмотрел на конверт – письмо было от Светланы. – Неужели то самое? – спросил я, прервав приятеля. Он кивнул и продолжил рассказ: – Возможно… Даже наверняка это было именно то письмо, судя по времени его доставки. Успокоило ли оно меня? Отчасти. По крайней мере, можно было надеяться, что Савельев так и не успел прочесть признания Светланы. Но разве от этого могло быть легче? Его-то самого мы пока так и не нашли. И ничего не было известно о его судьбе вот уже несколько суток. На обед не пошёл. Есть не хотелось. Сидел в канцелярии роты и, представь, в те минуты ни о чём не думал, не мог думать – устал от постоянных мыслей и переживаний. И вдруг телефонный звонок. Я взял трубку и услышал: «Мне нужно поговорить с командиром роты». Ответил, что я у телефона. «Вас беспокоит главный врач сельской больницы, – он назвал населённый пункт, расположенный километрах в двадцати от нашего гарнизона, да к тому же в другом районе. – У нас находится ваш солдат, рядовой Савельев. Он только что пришёл в сознание и сразу сообщил, кто он и откуда. Ну и попросил срочно позвонить вам». Я немедленно выехал в больницу. Савельев лежал в просторной палате, в которой всё сияло чистотой и белизной. Грудь была забинтована, бинты виднелись из-под одеяла. Рядом с койкой стояла капельница, на тумбочке лежали какие-то медикаменты. Он встретил меня тёплой, приветливой улыбкой. Тихо спросил: «Товарищ старший лейтенант, вы же в отпуске?!. Это я всех переполошил? Извините меня, пожалуйста. Я не виноват». И тут он, не спеша, осторожно, – говорить ещё было трудно, – рассказал, что с ним произошло. Как-то, возвращаясь в роту после выставления на блок-пост караульной собаки, он нашёл в лесу лосёнка, совсем ещё слабого. Лосёнок был без матери, которую, видимо, подстрелили браконьеры. Савельев стал подкармливать выхаживать своего четвероногого питомца, но в тот вечер он его не встретил, а увидев следы браконьеров, сразу понял, что лосёнок спасался от погони. Поспешил по следу, забыв об осторожности, и оказался довольно далеко от охраняемого объекта. А вот осторожность надо было соблюдать, ведь браконьеры – не люди или во всяком случае – недочеловеки. Неожиданно впереди услышал выстрел. Он туда. На поляне увидел браконьеров. Один из них склонился над лежавшим на земле лосёнком, примеряясь, чтобы добить его финкой. Савельев решительно бросился на браконьера. Тот повалился на землю, но тут же вскочил, и последнее, что запомнилось Савельеву, – это взмах руки и стальной блеск лезвия. И темнота... Рана оказалась опасной. Рассказ Савельева взволновал меня. Одно оставалось непонятным, как он попал в больницу. Уже потом главный врач рассказал, что солдата фактически «подкинули». Неизвестные, закутанные в плащи люди в головных уборах, низко надвинутых почти на глаза, вызвали на крылечко больницы дежурную медсестру и указали на истекающего кровью солдата, которого заранее положили на лавку, а сами тут же скрылись в темноте непроглядной дождливой ночи. Вскоре медсестра услышала звук отъезжающей машины. Забегая вперёд, замечу: впоследствии преступников этих задержали и судили. В палате Савельева я пробыл недолго. Ему ещё предстояла беседа со следователем районной прокуратуры. Когда собирался уходить, он, задержав меня, проговорил: «Товарищ старший лейтенант, вот лежу и думаю… Я ведь однажды обманул вас… Помните, сказал, что ко мне приезжала сестра? А она ведь не сестра, а невеста. Я её очень люблю. Мы поженимся, как только отслужу срочную». Меня обожгли эти слова, хотя я всё уже знал. Что сказать в ответ, я не знал. Савельев же продолжал: «Я попросил врача сообщить её телеграммой, что лежу здесь… Если приедет, помогите, пожалуйста, добраться сюда… Если не трудно? – он просительно посмотрел на меня и прибавил к сказанному: – Боюсь, сама не найдёт…» Конечно же, пообещал солдату доставить её в больницу, что, собственно, наверное, необходимо было сделать, в связи с известными уже тебе обстоятельствами. – И она приехала? – снова не выдержав, спросил я, когда мой приятель сделал довольно продолжительную паузу. – Через пару дней встретил её на вокзале. Тяжёлой для меня была та встреча. Однако, как и обещал Савельеву, проводил к нему в больницу Светлану. По дороге рассказал обо всём, что произошло. Больше не говорил ни о чём, ведь за рулём был солдат-шофёр. Можешь себе представить моё состояние. Чувствовал себя совершенно опустошённым и подавленным. Она что-то хотела сказать, порывисто дотронулась до моего плеча, но я указал глазами на водителя. Она откинулась на спинку заднего сиденья. Мне словно бы передавалось её возбуждённо состояние, граничащее с отчаянием. Было совершенно ясно, что, выйдя из палаты Савельева, она будет далека от меня. Не могла же она после всего того, что произошло, думать и чувствовать так, как думала и чувствовала там, на Северном Кавказе, в дни беззаботного отдыха. Я протянул ей письмо, сказав: «Он не успел его прочитать, оно пришло, когда уже был в больнице. Не надо касаться этой темы…» «Так он не прочитал? Он ничего не знает! – воскликнула она. – Хорошо, а то я волновалась, думая, что из-за моего письма что-то с собой сделал… Ну что ж, тогда совсем другое дело…» Она не договорила, но, представь, у меня затеплилась надежда. На что надежда? На что я мог надеяться? Наконец, машина остановилась у приземистого одноэтажного здания больницы. Когда мы поднялись на то самое крылечко, на которое бандиты подбросили Савельева, я сказал Светлане: «Знаешь что, иди одна. Я не могу появиться у него в палате рядом с тобой». Сколько ждал, не помню. Мне казалось, прошла вечность, но солдат-шофёр воскликнул: «Уже идёт. Так быстро?!» Светлана кинулась ко мне, приникла к моему плечу, заговорила, едва сдерживая слёзы: «Как мне тяжело, боже, как мне тяжело.., – и вдруг решительно и твёрдо заявила: – Нет… Я люблю только тебя, только тебя одного!.. С того самого момента, как увидела тебя, с того самого вальса, который нам суждено запомнить навек люблю только тебя. Я… не люблю Сергея!..» Я в растерянности молчал, а она продолжала: – Там, в Пятигорске, ты говорил, что хочешь забрать меня к себе, в свой лес… Так забирай. Я готова. Я больше не могу без тебя!» Мне хотелось обнять её, прижать к себе и нести, нести… к счастью… Но перед глазами, когда думал так, тут же возникал Савельев, и я словно бы слышал его слова: «Она моя невеста, я очень её люблю!..» «Что ты молчишь? – говорила Светлана. – Ты слышишь меня… Я не могу так больше, – и совсем тихо. – Я же не люблю его, понимаешь, не люблю, ну что же, что я могу с собой поделать, – и она разрыдалась на моём плече, шепча сквозь рыдания: – Ну, скажи? Ты заберёшь меня?» «Нет, это невозможно, – сухо и отчуждённо ответил ей. – Ведь я командир, а командир солдату… ну, как отец. Разве отец может так поступить!?» После паузы приятель повернулся ко мне и спросил: – Ну, разве ж я мог поступить иначе? Нет, не мог. Ведь рядовой Савельев доверил мне самое сокровенное – свои чувства. Он попросил встретить девушку, которую искренне считал своей невестой… Что оставалось делать? Открыв дверцу машины, сказал: «Садись. Отвезём тебя на вокзал!» Всю дорогу мы молчали. Кому из нас было тяжелее? Наверное, всё-таки мне. Ведь у неё выбора не было, не в её силах она была что-то изменить и решить. Оставалось лишь покориться обстоятельствам. А мне? Стоило мне только повернуться и сказать, что я не прав, что она никуда не поедет и навсегда останется со мной, и она бы осталась. Но я не сказал. Я не мог сказать этого… Мы успели к ближайшему проходящему поезду. Я купил билет, проводил её до вагона. Взгляд её был уже жёстким и суровым. Ни слова не сказала она мне на прощанье. …Мой приятель замолчал, завершив рассказ, когда аэробус заложил вираж, нацеливаясь на посадочную полосу столичного аэропорта. – Скажи, – спросил я, – она осталась с Савельевым? – В том-то и дело, что не осталась, – резко ответил он. – Но для меня главным было, что не я стал причиной их разрыва, – и прибавил: – Во всяком случае, в его глазах… Мы ещё помолчали, а когда самолёт коснулся бетонки, он вдруг с болью в голосе спросил: – Скажи, прав ли я был тогда? Я ответил: – Не знаю! Рассказ написан в начале восьмидесятых… Первая публикация была в газете Московского военного округа «Красный воин», причём, с приключениями, по итогам которых я написал рассказ «Татьяна», затем рассказ вышел в сборнике «Поиск – 86» (Воениздат, 1986 г.), а в 1987 году в «Библиотечке журнала «Советский воин».
Коль любишь - время не излечит
Рассказ
«Всё, кружась, исчезает во мгле.
Неподвижно лишь солнце любви»
Владимир Соловьёв
Средь юных, невоздержных лет
Мы любим блеск и пыл огня;
Но полурадость, полусвет
Теперь отрадней для меня!
Я не вынашивал никаких амурных планов, потому что приехал дописывать роман, в котором любовь занимала основное место, а о любви писать лучше в тихом уединении. Тем не менее, в столовой я внимательно огляделся, но не заметил, на кого можно было бы, как говорят, глаз положить. Народ всё больше пожилой. Или пары – муж с женой. Вот и весь контингент. Впрочем, я, конечно, долго не засиживался, а потому не мог видеть всех – наверняка, кто-то уже пообедал, кто-то задерживался.
Прежде чем сесть за письменный стол, я решил прогуляться. Собственно, это было правилом на протяжении всего отдыха и прежде. На знаменитой берёзовой аллее уже поблекли последние золотые лепестки листьев, но зато яркой и сочной была трава газонов. Я шёл по дорожке, мокрой от дождя, когда услышал шаги позади себя. Кто-то догонял меня. Я обернулся и увидел миловидную женщину, спешившую куда-то и державшую под мышкой пальто, которое, как видно, не было время надеть. Она слегка запыхалась и, остановившись возле меня, чуточку прерывистым голосом пояснила:
– Увидела вас в окно… Вы только приехали? – и, не дожидаясь ответа, спросила: – Вы удивлены? Вы меня помните?
Лицо её показалось мне знакомым.
– Помню, – на всякий случай сказал я, полагая, что это одна из слушательниц моих бесед с читателями, которые я неизменно проводил, приезжая сюда на отдых.
– Я была на вашей встрече в прошлом году, была ещё и летом. Но вы отдыхали не один, а потому не могла подойти. А вы мне сразу понравились. Ваши пронзительные стихи сводят с ума. Они раскрыли вашу душу. Я почувствовала, что ваша душа родственная моей. Я тоже пишу стихи. Можно мне вам их показать?
Она говорила без умолку, а я украдкой разглядывал её. Была она молода, во всяком случае, много моложе меня, стройна, русоволоса. Глаза – вот что сразу приковывало внимание. Выразительные и внимательные, они не просто смотрели – они словно бы играли.
– Я с удовольствием почитаю ваши стихи. И, если не будете возражать, даже скажу своё мнение, как профессиональный редактор.
– Лучше как поэт. Редакторы – сухари. Сами ничего не умеют, а потому не понимают. Значит, прочитаете? О, как я буду благодарна! Так я зайду к вам? Можно сразу после дискотеки? Забегу в номер чтоб привести себя в порядок. И сразу к вам.
– Конечно! Буду ждать, – сказал я, чувствуя, что она мне всё больше нравится.
А сам подумал:
«Чем чёрт не шутит, может, заведу знакомство, даже роман со временем».
– А вы на дискотеку пойдёте?
– Не думал об этом.
– Пойдёмте. А то и потанцевать не с кем. А я видела, как вы хорошо танцуете, – сказала она.
– Ну что ж… Только если вы будете танцевать со мной, – поставил я условие.
– Только с вами. Обещаю.
Мы действительно протанцевали весь вечер, причём во время медленных танцев, она тесно прижималась ко мне, мешая водить её по залу, выписывая различные пируэты – я был мастером импровизаций. Я ощущал в эти моменты её упругое, гибкое тело, весьма волновавшее всё моё существо.
Когда отыграл последний вальс, она шепнула:
– Ну, я побегу. Будете ждать? Вы же не рано ложитесь?
– Я долго работаю. Так что не беспокойтесь.
В моём двухкомнатном номере в спальне стоял очень удобный письменный стол. Шампанское, конфеты и фрукты я решил, сам не знаю почему, поставить именно на него, а не на столик в гостиной.
Она всё больше занимала меня. Я знал, что женщины, пишущие стихи, непредсказуемы и необычны.
Она пришла минут через сорок. Осторожно постучала, и я открыл дверь.
– Пожалуйста, сюда, – сказал я. – Раз речь пойдёт о творчестве, присаживайтесь к рабочему верстаку.
Она остановилась перед столом и сказала:
– О, да вы подготовились не совсем к работе… Так встречаете свою почитательницу? – кивком головы указала она на шампанское и бокалы. – Тронута, весьма тронута.
Она присела на краешек кровати, я опустился рядом на стул.
– Позволите снять туфли? Устала от каблуков, – спросила она и, не дожидаясь ответа, забралась на кровать с ногами, поджав их под себя.
– Стихи принесли?
– Да, вот они. Но это потом. – И она положила тетрадку на стол, отодвинув её подальше, за вазу с фруктами. – Да вы садитесь ближе. Или боитесь меня? – прибавила игриво. – Право, вы такой скромный. А по вашим стихам и, особенно по роману, этого не скажешь.
Я пересел на кровать, подвинулся к ней, взял бутылку.
– Не спешите. Я хочу попросить вас что-то прочесть. Прочтите такое, чтоб я почувствовала – это мне, это для меня. Пусть на самом деле не так, но я представлю себе…
– Прочитать? – переспросил я. – Вы застали меня врасплох. Вам? Прочитать вам что-то написанное другим? Да вам надо посвящать стихи. Вы этого достойны. Ну, вот хоть так:
Посредь угрюмого осеннего пейзажа,
Где солнца не видать сквозь ширму тёмных туч,
Где холодна река, где сиротливы пляжи,
Явился ваших глаз животворящий луч.
И я уж не хочу уединенья,
Покоя, право, больше не хочу,
Во мне растёт мятежное стремленье.
К чему стремлюсь, пока я умолчу!
– Браво! – воскликнула она. – Это экспромт?
– Конечно! – подтвердил я.
– Значит, мне?! Тогда наливайте. За это можно выпить.
– Причём на брудершафт. Возражений нет?
– Нет.
Её губы были мягкими, тёплыми и нежными. Поцелуй наш затянулся и я, чувствуя, что она не делает попыток прервать его, осторожно коснулся верхней пуговки её кофточки.
Она не препятствовала, более того, когда я прильнул губами к прикрытому ещё ажурной тканью холмику, ощутив его почти девическую упругость, сама расстегнула остальные пуговки, чтобы освободить мне дорогу. И вдруг сказала, поднимаясь и становясь на кровати на коленки:
– Раздень меня сам!
Я снял кофточку и прильнул к обнажённому животику, затем поднялся вверх к завораживающим холмикам. А руки мои завершали своё дело. Её короткая юбочка уже оказалась на стуле, следом туда же отправились остальные части туалета.
Она вытянулась на кровати, не только не стесняясь, но, напротив, дразня совершенством своей фигуры. Я потянулся к ней и утонул в её объятиях, а губы наши снова слились в долгом поцелуе.
Её жаркий шепот будоражил сознание, её импровизации сводили сума. Она оказалась необыкновенно изобретательной и дерзкой во всех своих изобретениях. Столь дерзкой, что у меня не хватает сил описать всё, что мы проделывали с нею той поистине волшебной ночью. И лишь под утро она спохватилась. Светало-то поздно, и незаметно подкралось время, когда начинал постепенно пробуждаться и оживать дом отдыха.
– Мне пора! Помоги одеться…
Я начал помогать, но, прервав эту помощь, снова обнял её, сливаясь с нею в клубок страсти.
– Всё, всё… Мне пора, – повторила она. – Потерпи до вечера…
– Ты сегодня придёшь?
– Конечно, конечно, милый…
Я закрыл за нею дверь, полный невероятных впечатлений и ещё более радужных ожиданий. Я вытянулся на постели, ещё хранящей её запахи, в сладкой истоме и не заметил, как заснул крепким сном.
Проснулся уже около полудня. До обеда оставалось часа полтора. Но мне нестерпимо хотелось видеть её, а потому вышел прогуляться, в надежде, что она снова увидит меня, как накануне, и мы погуляем вместе.
День выдался солнечным, таким, какие очень редко бывают в дни поздней осени. Ещё кое-где на берёзках желтели последние листочки, невидимые накануне в хмурую дождливую непогодь, а теперь посылающие своё последнее прости. Я вышел на берег. Ослабевшие лучи солнца уже не пробивали, как это бывало летом, толщу воды, помутневшую и потемневшую, какую-то с виду густую и тяжёлую. Правда, небольшие рыбёшки ещё иногда сверкали своей серебристой чешуей, попадая у самой поверхности в отсветы, словно бы удаляющегося от нас на зимний покой светила. Оно смогло лишь слегка подсушить асфальт, но трава на газонах была покрыта густой и тягучей росой.
Я долго гулял перед окнами, но она не вышла, и тогда поспешил на обед, чтобы быть в столовой в числе первых. Я даже не знал, за каким столом она сидела, мало того, оказывается, что впопыхах не спросил её имени.
В столовой просидел дольше обычного. Наконец, обратился к знакомой официантке с просьбой узнать, где столик миловидной женщины? И описал её.
– Это высокая такая блондинка?
– Да, да, да…
– Сейчас схожу, узнаю, – пообещала официантка.
Вскоре я уже знал, что путёвка моей волшебной поэтессы окончилась ещё накануне, и она уехала утренним автобусом.
Я вышел из столовой в подавленном состоянии. Почему, почему она ничего не сказала? Кто она? Откуда?
И тут я вспомнил про её тетрадь и почти побежал в номер.
Тетрадь продолжала лежать на столе за вазой с фруктами.
Я открыл первую страницу и увидел короткую записку: «Во время беседы Вы не раз с восторгом упомянули рассказ Бунина «Солнечный удар», упомянули с какой-то лёгкой завистью к герою. Я решила подарить Вам такой вот солнечный удар, настолько, насколько могла, потому что безнадёжно и бессмысленно люблю Вас. Быть может даже не именно Вас, а Вас в герое Вашего романа. Но прошу, очень прошу: меня не ищите!».
Я сел за стол, придвинул к себе её тетрадь и, как бы разговаривая с нею, стал быстро, почти без правок и уточнений писать:
Вы просите меня про всё забыть
И не искать уж больше с вами встречи,
Что любите, но время вас излечит,
Что с прошлым рвёте тоненькую нить.
Но как забыть сиянье в час ночной,
Очей прекрасных, поцелуев чудо?
Нет, никогда такое не забуду –
Жить обречён я памятью одной.
Вы просите меня про всё забыть,
И не искать уж с вами новой встречи?!
Но если любите, то время не излечит –
Меж нами лишь прочнее станет нить.
Вы не словами правду, а глазами
Скажите мне, чтобы поверил я.
Зачем же нам ошибки повторять
Ведь очень часто счастье губим сами.
Вы просите меня о всём забыть?
А я искать намерен с вами встречи,
И верю, что в один прекрасный вечер
Судьба должна нас вновь соединить.
В тот день я вновь проводил встречу с отдыхающими. Что-то рассказывал, а думал о ней, даже пытался вспомнить, где сидела она, когда слушала меня здесь в прошлом году. Но разве это вспомнишь? Я почему-то ни в первый, ни во второй раз не заметил её. А ведь она наверняка подходила, и наверняка я подписывал ей свои книги. Недаром же она упомянула в записке о моём герое. Всё шло по плану, лишь один отдыхающий, какой-то бесцветный, серый и насупленный – такими бывают ворчуны, которые всем недовольны, но на всё имеют своё мнение – что-то бубнил с явным неудовольствием, конечно, тем самым мешая вести рассказ. Выступал я без каких-либо записок, всё говорил на память, да и сюжет выступления не давал отвлекаться на всякие нелепые вопросы во время беседы – все вопросы потом. Но тут я всё сделал замечание и попросил не мешать. Причём сначала это сделал мягко, а затем строже, напомнив, что у меня на встречах порядок такой – свободный вход, но и свободный выход, и если комментарии с места не прекратятся, буду вынужден вспомнить свою командирскую молодость и перейти на язык командирский, который, как шутят обычно, суть одно и тоже с… Уточнять не стал – военные поняли, невоенные, которые всё чаще после развала стали прорываться в дом отдыха, сразу выдали себя, недоумённо перешёптываясь. Неуёмный же слушатель процедил: – Ну и пожалуйста… Историю вы не знаете… И ваши выдумки разлагают молодёжь… Особенно рассказики о любви – тошнит от них. Какая любовь вне семьи? Преступление!!! А вы настраиваете на романтику и из-за вас потом жёны рога добропорядочным мужьям наставляют… Женщина, сидевшая на первом ряду, бросила: – Добропорядочным не наставляют. Так, мужчинка, бывает… – Что, да вы… с этим сладострастником… вы… – он захлёбывался от злости и никак не мог подобрать слов. В гостиной наступила тишина, многие недоумённо переглядывались и ждали, что отвечу я. Я, чтобы разрядить обстановку, попросил: – Будьте любезны, назовитесь. Кто я, вы знаете, было бы справедливо, что бы я знал, кто ко мне обращается. Но ответить я не успел, потому что бесцветный тип бросил: – Вы в женщинах не разбираетесь, у вас, у вас недо… неудовлетворённость. Вы хоть женщину то познали хоть раз… Это была неудачная попытка оскорбить, как-то побольнее поддеть, что вызвало снег – многие отдыхающие прекрасно меня знали, знали и о периодически случавшихся романах. Разве такое утаишь? Я ответил, разведя руками: – Увы, увы… Трудно найти женщину, которая бы, как вы изволили выразиться, подарила полную удовлетворённость… Но давайте перейдём к истории, не надо трогать темы щекотливые. Разговор начинал забавлять, но не тягаться же в рассказах о любовных приключениях, а то ведь чего доброго начнёт хвастать, а хвастают как раз те, кто ничего не познал, кроме скучных физических упражнений. И тут он меня поставил в затруднительное положение: – Давайте об истории. Вы хоть историка Карамазова читали? Признаться, я на минуту задумался – вот тебе и раз… Поддел… Что же это за историк такой. И тут всё понял. Ответил с улыбкой: – Нет, не читал. А вот братьев Карамзиных читать приходилось. Неуёмный отдыхающий покинул гостиную под общий хохот – практическим все догадались, что он перепутал фамилию… Вместо Карамзина назвал Карамазова. После окончания встречи ко мне подошла одна молодая женщина и сказала: – Вы не обращайте внимания. Он – тип, что не давал вам говорить – просто тут перед нами старается, чтобы внимание на себя обратить. И в столовой придирается к официанткам, да и везде… А мы на него ноль внимания – скучные, склочный человечек. Ну, как бы вам сказать – недомужчинка что ли? – А как же в наш дом отдыха попал? – Сами знаете, кто теперь только не попадает… Даже шутка появилась… Мол вот… в пальмах окурки, в лифте – лужи. Фирма приехала… Да, действительно, чтобы выжить в трудные времена руководство вынуждено сдавать дом отдыха на выходные всяким фирмам, где культура, конечно, никак не дотягивает до высокой культуры прежде Генштабовского дома отдыха. – Как хоть его имя? – поинтересовался я. – Или скрывает? – Нет, почему же, когда пытался ухаживать, представился – имя Александр, фамилия какая-то странная, видно укро-, точнее теперь урко-инская – Зверобойник. С одной стороны, такой прямо нравственник, но с другой – обычный приставала. – Когда приставалы получают от ворот поворот, сразу нравственниками становятся. Помните, был такой писатель Борис Васильев. Так он написал: «Когда стареет плоть, возрастает нравственность». Мы расстались. В другое бы время я непременно постарался завести знакомство с этой очень милой и умненькой барышней, но… сердце моё было занято другой… Но разве это вспомнишь? Я почему-то ни в первый, ни во второй раз не заметил её. А ведь она наверняка подходила, и наверняка я подписывал ей свои книги, ведь недаром же она упомянула в записке о моём герое.
Вернувшись в номер, я долго не мог решиться лечь на постель, ещё хранившую о ней память. Мне казалось, что я не перенесу одиночества. Вышел на балкон. Моросил дождь, поблескивали лужицы в свете фонарей на берёзовой аллее. Я отыскал то место, где накануне она догнала меня и обрушила свои неожиданные предложения, суть которых я в первые минуты не разгадал.
Спать хочу, но мне не спится,
Выхожу я на балкон,
Вдаль душа моя стремится,
В сердце трепетный огонь.
Лунный свет блуждает в парке,
Отражается в воде.
Глаз её сияньем жарким
Озарён вчера был здесь.
А сегодня одиноко,
Мне сегодня не до сна,
Мир задёрнув поволокой,
Осень разлучила нас.
На балконе была зябко, но я долго стоял, пытаясь продолжить стихотворение. Ничего не получалось. Нужно было осмыслить происшедшее. Проще бы, конечно, всё забыть, сделать над собою усилие, сесть за стол и продолжить работу над романом, который уже ждали издатели. Но возможно ли? Встреч, подобной только что поразившей меня, я не ведал, и теперь хорошо представил себе состояние Бунинского героя после перенесённого им «солнечного удара». Моя чудная незнакомка, делая мне ночной подарок, видимо, не учла всего этого. Может быть, просто не внимательно читала рассказ.
Где она теперь? Дома, в Москве, с мужем? Или, может быть, трясётся в поезде, если она не москвичка. Отдыхала-то по путёвке дома отдыха, а не пансионата, предназначенного только для москвичей. Почему она не хотела допустить продолжения отношений? Да, у неё семья. И у меня тоже некоторое подобие этой общественной организации, так сказать, ячейки общества. Но мы живём в мире, в котором семьи не помеха для отношений, порою, самых необыкновенных.
Я открыл её тетрадь. Адреса не было. Только стихи, одни стихи. Я принялся читать. От их пронзительности захватывало сердце. (Здесь и далее в уста героини повести Татьяны автор вставляет стихи, посвящённые ему женщиной, не лишённой поэтического дара, имя которой упоминать некорректно).
Знаю я, что любовь безответна.
Знаю я, ты не будешь со мной,
Но томима мечтою заветной,
Хоть бы раз быть твоей и с тобой,
Хоть бы раз, может быть, только на ночь
Я тебя украду у людей,
Пусть откроются старые раны,
Путь мне будет намного больней
Расставаться с тобою навеки,
Знать, что ты далеко и не мой,
И пускай будут влажными веки
От тоски безысходной немой.
У меня озноб пробежал по телу. Боже мой!. Неужели это написано мне, неужели мне посвящено? Мне редко посвящали стихи, причём, обычно это были довольно спокойные, выдержанные в размерах, четверостишия. Они не затрагивали самых тонких струн души, хотя получать их было приятно. Впрочем, я писал и посвящал неизмеримо больше.
Вот и отпуск уж мой на исходе,
Я брожу по дорожкам одна.
Не к тебе прижимаюсь – к природе,
Обнимает меня лишь она.
Чудеса сотворяем мы сами –
Говорят так у нас иногда.
Вас прошу, Небеса, вы громами
Позовите его мне сюда.
Пусть не мне обратит свои речи,
Пусть он ласки не мне обратит,
Но я буду мечтать – только вечность,
С ним когда-то нас соединит.
Я понял, что это она писала уже здесь, прогуливаясь по дорожкам, в тайной надежде, что увидит меня, что приеду сюда отдыхать. Но, очевидно, она даже не предполагала, что могу приехать один.
Странно, откуда у неё взялась эта любовь, откуда эти чувства? Может быть, она меня просто придумала? Бывает же такое. Дома семейные неурядицы, дома грубость, а здесь, здесь что-то светлое… Да, да, да. Она была как-то на вечере поэзии, который я проводил.
Я б к нему подошла на мгновенье,
И пока он на книге писал
Что-то обще, обыкновенно,
Взгляд мой нежный его бы ласкал.
Помню славную я минуту,
Когда он прикоснулся ко мне.
Нет, не обнял, а взял мою руку,
Это было как в сказочном сне.
Мне хотелось сказать ему: «Милый!»,
Мне хотелось признаться во всём,
Только сердце стрелою пронзило,
А язык отрубило мечом.
Да и что же промолвить могла я?
Нет, сказать ничего не могла.
И рыдая, я рифмы слагала,
И в душе расступалася мгла.
Больше я читать не мог. Меня потрясло то, что рядом со мною прошла такая любовь, которой, быть может, не видал я за всю свою жизнь. Всего несколько часов назад в моих объятиях была женщина, столь горячо любившая, что пустившаяся на отчаянный шаг – вот так, довольно дерзко прийти в гости и сделать то, что прежде всего хотела сделать сама, не вопреки, конечно, моим желаниям, но заставив меня повиноваться ей во всем её необузданном и неповторимом волшебном деянии.
Что же было делать? Идти к администратору и просить её адрес, телефон? А если сходить к соседке по номеру. Наверняка же они обменялись адресами. Мне вспомнилась эта соседка – миловидная молодая женщина, судя по обрывкам фраз, приехавшая откуда-то издалека, кажется из Старой Руссы.
Номер я знал, потому что видел брелок с ключами, когда она уходила с дискотеки, и машинально запомнил. И я отправился к соседке. Спустился на первый этаж, пересёк вестибюль с попугайчиками, аквариумом и фонтаном. В вестибюле и в холле, который был за ним, было пусто. Я поднялся на лифте на четвёртый этаж и, отыскав нужный номер, осторожно постучал.
– Кто там? – ответил приятный женский голос.
Я назвался.
– О, Боже… Минуточку, подождите минуточку. Я сейчас открою.
И тут же на пороге появилась соседка моей загадочной незнакомки.
– Проходите, проходите, пожалуйста, – приглашала она, называя меня на «вы» и по имени и отчеству.
– Вас, кажется, зовут Людмилой?
– Да, да. Откуда вам известно?
– Вчера на дискотеке вас называла так ваша подруга, а вот как её имя, для меня осталось тайной.
– Пусть тайной и останется, – сказала Людмила.
– Почему же?
– Вам же, как понимаю, обо всём написали.
– Это верно. И вы согласны с таким решением? – спросил я.
– А иного и быть не может. Я её здесь две недели убеждала выбросить вас без головы. Такая любовь, при полной её безответности, добром не может кончиться. Вы же сами должны понимать. Она сказала мне, что только раз побудет с вами, только раз и всё. Запретит себе думать о вас и выкинет из головы. Хотя, конечно, в это слабо верится.
– Но почему же любовь безответная?
– Вы несколько раз отдыхали здесь одновременно с ней, но всегда были с семьей. Мы с ней давно дружны и стараемся вместе ездить отдыхать, если получается. Вот и теперь путёвки почти совпали.
– Откуда она? Из какого города? Ведь не москвичка?
– К её, да и к вашему счастью, – сказала Людмила.
– Послушайте, отчего вы говорите таким томном, будто я в чём-то виноват? – спросил я с лёгким раздражением. – Да, я отдыхал с нею в одно и тоже время, но я даже не ухаживал за ней, не знал её, ни в чём не обманывал.
– Вы правы, вины вашей нет. Но мне всё равно за Татьяну обидно…
– Ну вот, хотя бы прояснилось, что зовут её Татьяной.
– Имя вам ничего не даст. Да и зачем вам всё это? Зачем? Поймите же, что лёгкий флирт с ней невозможен. Она очень порядочный и достойный человек. Я не знаю, какое у вас о ней сложилось впечатление минувшей ночью, поскольку мы едва обмолвились словом – она опаздывала на автобус. Но я хочу сказать: по тому, что было, не судите. Женщина иногда может себе позволить такое, что никто от неё и даже сама от себя не ожидает.
– Почему вы говорите о лёгком флирте?
– Да потому что с нею может быть либо всё, либо ничего. А всего у вас с ней быть не может. Я о вас наслышана. Знаю, что и здесь у вас бывали романы. Но всем известно..
– Кому это всем?
– Ну, скажем так, тем, кто интересуется вашей персоной, прекрасно известно, что семью вы никогда не бросите, а потому героини ваших романов должны быть готовы к весьма недолгим, хотя порой и ярким отношениям.
– Знаете что, душно как-то здесь… Пойдёмте прогуляемся, если у вас есть время. И поговорим. Тем более, кажется, дождик кончился.
– Тогда выйдете, пожалуйста, чтоб могла одеться. А то я в одном халате… Вы меня застали врасплох, почти нагишом.
Зачем она это уточнила, мне было не совсем ясно, а точнее, я просто оставил без всякого внимания эту фразу.
– Я подожду вас у входа в корпус…
Я стоял на мокром асфальте и думал, думал о Татьяне. Мне живо представлялось всё, что было минувшей ночью, и от этого сладкая истома разливалась по всему телу. Но эта истома требовала повторения… Я стоял и не знал, что вообще мне нужно. Повторения волшебной ночи? Множества таких ночей? Но это же не любовь, это просто увлечение. Имею ли я право разыскивать женщину, чтобы принести ей боль?
Вышла Людмила и тут же предложила пройтись до залива.
– Можно и до залива, – согласился я. – Так продолжим нашу дискуссию. Вы сказали, что брак мой незыблем. Да, безусловно, ещё сравнительно недавно так и было. А теперь дети выросли. У сына семья, две детей, дочь заканчивает институт. Замуж собирается. А жена?! Жена имела и имеет полное право сетовать на меня – были грехи, были. Так вот она прощать не умеет и живёт со мною разве что из привычки и нежелания заводить карусель развода, поскольку он никому не нужен. Но любви у неё давно уже нет.
– А у вас? – спросила Людмила.
– Вот эту тему прошу не трогать.
– Почему?
– Ответа на ваш вопрос у меня нет. У жены – застарелая обида на моё поведение,
– А Татьяна замужем?
– Да, да, конечно замужем, – как-то уж очень поспешно ответила Людмила.
– И дети есть…
– Есть, есть… Мальчик и девочка.
Я внимательно посмотрел на Людмилу, которая тут же отвернулась и стала разглядывать что-то в воде, посмотрел и не поверил. В эти минуты я пожалел, что разоткровенничался с нею. Ответ, на вопрос, который собирался задать и задал, я уже знал заранее:
– Так вы её адрес и телефон мне не дадите?
– Нет.
– А сами напишете то, что я попрошу от меня написать?
Она некоторое время молчала, и мне пришлось повторить просьбу.
– Хорошо, напишу, но это вам ничего не даст. У неё хорошая семья, она не пойдёт на разрыв, даже если вы этого захотите. И потом… Ещё вчера вы её знать не знали, а сейчас влюблены без памяти.
– Значит, есть на то причина, – сказал я.
– Неужели ради неё готовы развестись?
– Не знаю… Но она потрясла меня…
– Даже так…
– Потрясла не тем, о чём вы подумали. Потрясла своими стихами. Ведь они, как я понял, мне посвящены?
– Не знаю, не читала, – ответила Людмила и вдруг поинтересовалась: – Так что ж живёте с женой, если всё так ужасно?
– Одно название, что живём. Мы ведь в разных квартирах… Так, встречаемся иногда.
– Для секса?
– Какой там секс!? Она давно уже заявила, что всё в ней убил, а недавно с гордостью напомнила, что мы с нею уже несколько лет в губы не целовались. Словом, как вернулся я из госпиталя, так и не целовались.
– Прямо по законам проституток, – усмехнулась Людмила. – Это у них допускается только то, что оплачено, а оплачено известно что. И как же вы?
– Просто как-то так существуем.
– А помните, мы с Татьяной однажды хотели вас вытащить в сауну и подослали одного вашего знакомого отдыхающего?
– Так это были вы? Помню. Удивил он меня. Пришёл и стал звать в сауну, пояснив, что там компания. Жена, кстати, советовала идти.
– И он не сказал, что за компания?
– Шепнул, что его послала женщина, которой я очень нравлюсь… Но я не хотел в сауну, да и не мог по здоровью.
– Сауна была прикрытием. Мы бы вас с Татьяной отправили в номер, ну а сами уж пошли бы туда.
– Если б знал, может, и согласился бы. Только всё же не слишком это удобно. Вот если бы один отдыхал.
– Да вы, по-моему, впервые один здесь.
– Но как же мне всё-таки найти Татьяну? – спросил я, переводя разговор на другую тему.
– Пойдёмте лучше в корпус. Смотрите, какой ветер поднялся.
Ветер действительно усилился, и стало заметно холоднее. Мы вернулись в корпус, не окончив разговора, но до ужина оставалось не более получаса, и я откланялся.
В номере было зябко. Я не плотно закрыл балконную дверь, она распахнулась, и ветер играл занавесками, швыряя их в разные стороны и поднимая тюль едва ли не до потолка. Прежде чем закрыть дверь, я всё же вышел на балкон. В лицо ударил леденящий порыв – сыпалась снежная крупа. Сыпалась, пока ещё скупо покрывая землю и не задерживаясь на дорожках, откуда её сдувал ветер.
Я вернулся в комнату, прикрыл дверь и, сев за стол, стал писать:
Уж вечер. Ветер дико воет:
То свист в нём слышится, то смех,
И скупо, мелкою крупою
Ложится наземь первый снег.
Он робко прячется в низинах,
С дорог гонимый и с холмов,
След от него пока не зимний
И ветхий на полях покров.
И всё ж земля уж поменяла
Угрюмый и печальный вид,
И грозное зимы начало
За первою крупой стоит.
Морозит, и река дымится,
Пожар закатный догорел,
Но у берез светлеют лица,
А вот кустарник поседел.
Стою один я у окошка.
Сегодня ты совсем ушла.
И грустно, грустно мне немножко:
Вот так и осень умерла.
Всё в нашем мире быстротечно,
Но чувства, коль они сильны,
Должны вести путём извечным,
Коли не растрачены они.
Зачем ушла ты спозаранку?
Зачем оставила мне грусть?
Я помню чудную осанку,
И помню я девичью грудь.
Что так прелестна и упруга,
Я помню поцелуев жар.
Сотворены мы друг для друга –
Ты для меня как Божий дар…
Божий дар… На этой фразе я задержал своё внимание. Уместно ли так писать? Правильно ли? Но, вспоминая отношение ко мне моей жены, я всё чаще начинал думать, что поддержание их становится всё более и более безнравственным. Мне захотелось продолжить разговор с Людмилой, излить душу такой женщине, которая умеет слушать, умеет воспринимать и, несомненно, искренне заинтересована в моей судьбе. А главное, она издалека – уедет и увезёт с собою все мои откровения.
Сама по себе, как женщина, она меня не интересовала, а может, я просто не думал об этом. Татьяна, исчезнувшая столь внезапно и, как видно, навсегда, казалась мне по сравнению с нею земной Богиней. И я, несмотря на то, что уже было время ужина, вновь взялся за перо, ведь стихи такая штука – если не записать их сразу, улетучатся тут же.
И я снова стал писать, торопясь и едва поспевая за мыслями. Минувшей ночью я себя почувствовал с нею помолодевшим лет на двадцать – пожалуй, примерно такая разница и была у нас. А сейчас это чувство усиливалось.
Я прочитал её стих, интуитивно почувствовал, что она перенесла какую-то трагедию, какое-то горе. Был намёк на это:
Как мне с такой любовью жить,
Ведь ты о ней не знаешь даже,
О, если б крошку мне родить,
О Боже, что на это скажешь?
Имею ль право я на счастье,
Имею ль право на любовь?
Я столько вынесла несчастья,
Что в жилах леденеет кровь…
Любовь и кровь, рифмы, конечно, много раз высмеянные, но здесь они были на месте.
Ты обо мне не помнишь, милый,
Но всю себя тебе отдам,
Но где найти такую силу,
Чтоб счастье подарила нам?!
И словно отвечая ей, я стал быстро писать:
Когда погаснет день осенний,
Завоет ветер за окном,
Когда внезапно во Вселенной
Вдруг станет мрачно и темно,
Я упаду пред образами,
Взирая на их строгий лик…
Да, к Богу мы приходим сами,
Коль настаёт заветный миг,
Когда мы верим, что в молитве
Одно спасение для нас.
Мы на земле в жестокой битве
И каждый день, и каждый час.
Но нынче, пусть кому-то странно,
Не за себя я попрошу.
Я обращаюсь непрестанно
С тем, что в душе своей ношу.
Молюсь за ту, которой имя
Не престаю я повторять,
За ту, что я Земной Богиней
Дерзнул в восторге называть.
Она Богиня, но за что же
Злой рок дал горе испытать,
Лишив всего, что нет дороже.
Как счастье ей теперь познать?
И как поверить в это счастье?
Поверить в то, что есть оно?
Нельзя же в миг унять ненастье,
Что грозно воет за окном!
И осенив себя знаменьем,
У Богородицы прошу,
Дай силы мне и разуменье,
И боль её я погашу.
А в мыслях бьётся непрерывно,
Мечта и мысль о ней одной!
О Боже, с ней хочу я сына…
И чтоб она была женой!
Я перечитал заключительное четверостишие и подумал, что как-то само собою вылились на бумагу мысли о ней как о жене, и мысли о сыне. Но случайностей не бывает… Отчего же я подумал об этом, если даже не знаю, как её найти и возможно ли с ней завершить задуманное.
Стихи вновь растревожили душу. Я с трудом заставил себя оторваться от них и пойти на ужин. В столовой уже было пусто, но Людмила ещё не ушла, и я понял, что она специально дожидалась меня. Быстро расправившись с ужином, пошёл с нею в бар, чтобы продолжить разговор. Там играла музыка, правда быстрая и кто-то уже подскакивал под её раздражающие аккорды. Но вот поставили плавную, спокойную мелодию, и Людмила попросила пригласить её на танец.
– Вот уеду через несколько дней, и всё: прощай танцы на целый год, а может и больше – не каждый же раз удаётся вырваться.
Она, вероятно, ждала вопросов о себе, о её жизни, но я снова заговорил о Татьяне. Мне не давало покоя её стихотворение, и потому я спросил о её муже, о семье вообще.
– Да я же всё сказала, что знала.
Просидели мы в баре долго, несколько раз танцевали, но больше ничего путного мне выведать не удалось.
Мы расстались в холле, и я, поблагодарив её за приятно проведённое время, поспешил в номер, рассчитывая всё-таки, наконец, начать работу над очередной книгой романа. Но снова взялся за её стихотворения. Она раскрывались через них, и раскрывалась так, что у меня дух захватывало. Во многих содержался намёк, на трагедию, которую она перенесла, на боль, не отпускавшую её до сих пор. Но ни единого, конкретного слова. Да и понятно, если раны не зарубцевались, лучше их не бередить.
Я почувствовал желание писать, но не роман. У меня опять рождались стихи – это в который же раз за день. Прежде такого со мною не бывало. Мне хотелось написать что-то такое, что стало бы заочным разговором с нею, далёкой и близкой.
Вновь писал стихотворение:
Вот и листья в парке поблёкли.
Золотой огонь догорел,
И мне стало так одиноко,
И никто меня не согрел.
Я не знаю все ли экзамены
Перед Богом душа сдала,
Путь, объятый мятежным пламенем,
Не сгорел и теперь дотла.
Мне к истокам вернуться хочется,
Но давно позади стена.
И томит теперь одиночество:
Дни в раздумьях, ночи без сна.
Где ж вы милые, где любимые?
Иль былое всё – суета.
Пролетело, промчалось мимо,
На душе теперь пустота.
Может, шёл я не той дорогой,
И пора уже сверить путь?
Может быть, только в воле Бога
Нас на верный курс повернуть?
На следующий день я подошёл к дежурному администратору и спросил, можно ли узнать адрес отдыхавшей до позавчерашнего дня женщины по имени Татьяна.
– Не положено, – был ответ. – Но для вас, Дмитрий Николаевич, мы бы, конечно, исключение сделали, если бы смогли. Просто документы уже сданы в архив, и теперь разрешение на то, чтобы их посмотреть, нужно получить у начальника дома отдыха. Сходите. Он же к вам хорошо относится…
– Хорошо, я так и сделаю.
Но так я не сделал. Посчитал не слишком удобным, а потом Людмила усиленно старалась убедить меня, что не все стихи адресованы мне, а некоторые, скорее всего, просто где-то списаны.
Вскоре отдых её подошёл к концу, и она в канун отъезда, вечером, точно также как и Татьяна, после дискотеки, нанесла мне визит. Но принял я её в гостиной, хотя и с таким же джентльменским набором.

Она вошла в пальтишке, пояснив, что, якобы, в холлах нынче очень холодно. Но когда сняла пальто, оказалось, что на ней только красивые чёрные сапоги, белые чулки, шорты и какое-то странное подобие платья, более напоминающего широкий шарф и прикрывавшего слегка животик и груди, явственно проглядывавшие сквозь него.
Я был чрезвычайно озадачен таким явлением, но ничего не сказал, пока она сама не потребовала, чтобы дал оценку её наряду.
– О, да. Подобного мне встречать не доводилось, – только и смог вымолвить я.
– И я вам совсем не нравлюсь? – вдруг спросила она. – Что вы всё о Татьяне, да о Татьяне. Говорю же, у неё хорошая прочная семья. А стихи, стихи это, как бы вам сказать. Просто она вас себе придумала. Бывает же так. Дома всё хорошо, даже слишком, а романтики нет. А романтики хочется… Не такой, чтобы, простите, переспать здесь накоротке с кем-то из коллекционеров побеждённых женщин, а именно с человеком необыкновенным, коим являетесь вы.
– По её мнению, – усмехнулся я.
– И по моему тоже, – ответила Людмила. – Так наливайте шампанское, коли уж приготовили. Я даже знаю, что сделаете дальше. Предложите выпить на брудершафт.
– А если нет?
– Тогда предложу я… Могу же я подарить вам хотя бы страстные поцелуи, которых вы лишены много лет…
Я не знал, что делать. С одной стороны, у меня в номере была весьма миловидная и привлекательная женщина, готовая на всё, с другой, мне мешали чувства к чему-то эфемерному, несбыточному.
И я отдался вскипевшему во мне желанию. Не буду сравнивать – это было бы не корректно. Они, конечно, были разными – эти две подруги, которые, наверное, всё-таки подругами только звались.
Людмила уезжала утром, но не на первом автобусе, а потому задержалась у меня до самого завтрака. Правда, ей пришлось забежать к себе в номер, чтобы одеться для похода в столовую соответствующим образом.
В столовой она подошла ко мне и попросила проводить её до посёлка, откуда уходили автобусы и маршрутки до метро. Она была растеряна, печальна и чем-то удручена.
– Что с тобой? – спросил я.
– Уезжать не хочется. Очень не хочется уезжать…
За эти несколько дней я привязался к ней, и мне тоже было жалко расставаться, потому что она оставалась какой-то незримой нитью, связывающей меня с Татьяной, хотя я и понимал, что никогда она, особенно теперь, не даст мне ни телефона, ни адреса.
Прощаясь, она напомнила:
– Татьяна написала тебе, чтобы её не искал. Так не ищи. Она завещала тебя мне, потому что ей нужно или всё или ничего. Ну а я согласна и на редкие встречи. Если позовёшь, приеду. Позовёшь?
Хотелось сказать «не позову», но я не привык обижать женщин, тем более таких, что были мне близки.
– Время покажет. Наверняка ведь здесь ещё не раз встретимся. А позвать? Для этого нужны соответствующие обстоятельства.
– Понимаю. Жена всё ещё держит…
Я не ответил и, поцеловав её в щёку, помог сесть в маршрутку.

Если бы я знал тогда, что относительно Татьяны и её семьи она всё лгала от первого до последнего слова. Если бы я знал, что Татьяна, которая столь взволновала меня и странным своим посещением и пронзительными стихами, перенесла большое горе – потеряв в один год и мужа и сына. Если бы я знал, что она была нрава более чем строгого, а потому, решившись завести ребёнка, сделала это столь стремительно и тайно, не желая никого, даже Людмилу, посвящать в эту свою тайну. Она не хотела никого связывать этим своим деянием, тем более того, кого полюбила, но кого полагала недосягаемым в виду известных обстоятельств. Если бы я тогда всё это знал! Ведь на самом деле, меня, пожалуй, уже ничто не держало. Я был одинок. Правда, верным моим другом после того, как сын отошёл от меня, поскольку ничем я ему уже в жизни помочь был не в состоянии, стала дочь, со всю страстью окунувшаяся в мир литературы. Но дети – это одно. А любимая женщина, которая должна сопровождать мужчину на протяжении всей его жизни – и только тогда он будет по-настоящему счастлив – совсем другое.
Подходил возраст, когда уже пора было заниматься внуками… Помните, как в песне: «Будут внуки потом – всё опять повториться с начала». Но этого я был лишён. Сын затаил обиды, на некоторые вещи, о которых и говорить смешно, а жена в нём всё это подогревала. Одна из обид была на то, что я когда-то поздней ночью, в гололёд не дал ему машину, чтобы отвести в Обираловку загулявшую с ним профурсетку. Просто интуитивно почувствовал опасность такой поездки, и не дал. Равно как однажды, когда он был совсем маленьким, не пустил с приятелем смотреть щенков за неширокую ещё тогда кольцевую автодорогу. Товарищ после этого перехода через дорогу долгое время пролежал с переломами – сбила машина. Думаю, что не дав автомобиль, я ещё раз уберёг сына от беды. Тем не менее, сын все больше отдалялся от меня и, однажды, даже сочувственно заявил своей маме: как же ей не повезло, что она вышла за меня замуж.
Впрочем, я весьма равнодушно относился к этим мелочным пересудам, понимая, что многое, очень многое пока мешает понять сыну «зло от юности его». Я воспитывал его правильно, он прошёл суворовское и высшее общевойсковое училище, а значит, за плечами была не шкурно-либеральная подленькая бурса, а настоящая военная школа. Настоящая же военная школа выпускала настоящих мужчин, а не женоподобных волосатиков. И основы воспитания должны были рано или поздно проявиться, поставив всё на место.
Я постепенно возвращался к активной литературной деятельности. Много ездил по гарнизонам и ближайшим к столице городам. И, конечно же, нередко бывал в своём родном Тверском суворовском военном училище.
Ещё с госпиталя была у меня мечта: вот стану окончательно на ноги и приеду на берег Волги, к памятнику Афанасию Никитину, чтобы просто постоять там.
Настал такой час. Приехал и, попросив друзей, которые были со мной, не сопровождать меня, прошёл к памятнику, в каменную его ладью.
Справа красовался старинный Екатерининский цельнометаллический мост, слева, чуть дальше, каменный мост, скрывавший Речной вокзал, только шпиль которого был виден из ладьи Афанасия. Напротив – знаменитый горсад, воспетый Михаилом кругом и кинотеатр, когда-то, в бытность мою суворовцем, считавшийся центральным в городе.
Я вспомнил, как однажды в госпитале, где я держался твёрдо, стараясь подавать пример другим, хотя, порой кошки потихонечку скребли, мне поставили диск Михаила Круга, и я впервые тогда услышал песню «Милый мой город…». Глаза защипало сразу, а когда прозвучали строки «И Афанасий спускает ладью», слёзы полились сами по себе, но это были тёплые слёзы, если и не умиления, то чего-то наподобие этого.
А потом они высохли сразу, потому что я заметил внимание к себе и сказал:
– Я одолею болезнь… Я вернусь в строй. И обязательно приду к Афанасию со своей любимой, истинно и горячо любимой женщиной. Хотя и не знаю, кто она будет…
Вспомнились эти слова, и я усмехнулся. Сбылось, да не всё. Так я и не встретил пока той женщины, о которой мечтал.
Я прошёлся по каменной ладье, остановился на самом носу, и вдруг словно бы почувствовал на себе чей-то пристальный, обжигающий взгляд. Я обернулся. На меня смотрела женщина, державшая за руку мальчугана лет трех-четырёх. Я оцепенел, потому что узнал её сразу. Это была Татьяна.
Немая сцена продолжалась до тех пор, пока мальчуган не спросил:
– Мама, а кто этот дядя. Почему он на тебя так смотрит?
Та с грустной усмешкой и с нескрываемой обидой в голосе сказала:
– Это твой папа, сынок… Посмотри на него. Ведь он сейчас уедет, – она помялась, подыскивая слова и, наконец, придумала, что сказать: – Уедет на очень важное задание, и мы его с тобой больше не увидим.
Состояние у меня было в те минуты примерно такое же, как при слушании песни Михаила Круга в госпитале. Я с трудом справился с собой и, подойдя совсем близко к этим двум дорогим мне существам, тихо, с расстановкой, чтобы не дрогнул голос, сказал:
– Мама на этот раз ошибается, сынок. Я вернулся с важного задания, и теперь мы уедем в Москву все вместе.
И подняв сына на руки, освободил одну руку, чтобы крепко прижать к себе поражённую и оцепеневшую от неожиданности Татьяну.
Я ПРОЩАТЬ НЕ УМЕЮ...
Рассказ
Кассовый зал железнодорожного вокзала, ещё недавно шумный и многолюдный, с длинными хвостами очередей между мраморными колоннами, в тот сентябрьский день встретил непривычной тишиной.
– А ты боялся, что за билетом не достоишься, – воскликнул мой товарищ. – Только взгляни: по одному человеку, да и то не у каждой кассы. Это тебе не лето…
Он хотел ещё что-то сказать, но, словно наткнувшись на невидимую преграду, побледнел, отпрянул назад и спрятался за ближайшую колонну. Я успел проследить за его быстрым взглядом, заметил отражённые на лице растерянность и удивление. Нет, точнее даже не так. Вначале было что-то иное – какое-то мгновенное озарение, какая-то яркая вспышка радости. Но это лишь на мгновение, а затем – полное смятение. И всё это от одного только взгляда на женщину в чёрной кожаной куртке и таких чёрных брюках, миниатюрную, хрупкую на вид и элегантную. Тонкие, запоминающиеся черты её лица, яркого и неотразимого, не могли не броситься в глаза любому случайному прохожему, но я ощутил, что не мимолётное очарование красотой взволновало моего товарища, что он видит её не впервые, что наверняка знаком с нею, а, скорее всего, – более чем знаком. Он схватил меня за плечо, увлёк за колонну, заговорил срывающимся полушёпотом, взволнованно, даже с оттенками мольбы в голосе – редко я видел его, умеющего держать себя в руках и скрывать, коли надо, свои чувства, в таком странном и неестественном для него состоянии. – Это она… Понимаешь, она! Прошу тебя, скорее, – заговорил он. – Возьми билет на тот же поезд, попроси место в тот же вагон, в то же купе, куда возьмёт она. Я потом тебе всё объясню. Иди один. Она не долдна меня вилеть. Я медлил, осмысливая его слова, а он торопил: – Ну, скорее же, скорее. Упустишь момент и окажешься в другом купе… Ну, объясню же тебе, объясню, и ты поймешь меня. Пришлось поспешить к кассе. Просьба заинтриговала меня, но я торопился, понимая, что нужный мне билет могут продать другому пассажиру в любой из соседних касс. Когда подошёл к окошечку, за которым стучал билетный автомат, кассирша уже протягивала билет, сдачу и поясняла таинственной незнакомке: – Поезд двадцать третий, вагон одиннадцатый, место двадцать седьмое… Я, конечно, досадовал, что придётся трястись дневным малоудобным поездом в вагоне с «сидячими» местами-креслами, что дорога будет очень долгой, но не мог отказать товарищу, чувствуя, сколь ему всё это важно. Едва таинственная незнакомка взяла билет из рук кассирши, я почти прокричал: – Будьте любезны мне один билет на двадцать третий поезд в одиннадцатый вагон и, если можно, на двадцать восьмое место… Незнакомка не успела ещё отойти от окошечка, проверяя билет и сдачу. Она услышала мою просьбу, смерила меня удивлённым взглядом, скривила губы в пренебрежительной усмешке, словно говорящей «тоже мне, ухажёр нашёлся». Не удивительно. Женщин, наделённых яркой, неотразимой красотой обычно раздражают постоянные ухаживания. Наверняка она приняла меня за очередного ухажера, решившего воспользоваться столь удобным способом – проехать рядом в поезде. Поймав на себе этот её полупрезрительный взгляд, я отвернулся, стараясь продемонстрировать полное равнодушие. Наконец, получил и я свой билет. Когда повернулся, чтобы отойти от кассы, незнакомки в зале уже не было. Товарищ мой вышел из-за колонны и теперь смотрел в окно, ожидая, видимо, когда эта взволновавшая его женщина, появится на улице. Я почувствовал, что ему хочется увидеть её, обязательно увидеть, хотя бы ещё раз. Лишь проводив её взглядом, он вспомнил обо мне и тихо проговорил: – Да, она также неотразимо прекрасна. Годы не меняют её. Впрочем, прошло не так уж и много – он хотел сказать ещё что-то для меня малопонятное, но я, не дав договорить, перебил вопросом: – Так что же всё-таки за дела? Что означает твоя странная просьба? Ты обещал пояснить. Он ответил не сразу. Он ещё некоторое время смотрел в окно, хотя незнакомка давно уже скрылась из глаз. Наконец, повернувшись ко мне, посмотрел каким-то отсутствующим взглядом – он всё ещё думал о чём-то своём, впрочем, не о чём-то, а о ком-то – думал о ней. – Так ты объяснишь, что случилось? И что это за женщина? Кто она? – Да, да, конечно. Я всё тебе объясню. И знаешь, если, конечно, не будешь возражать, кое-что попрошу сделать. – Уж не попытаться ли соблазнить её? – со смехом спросил я. – Хотя, думаю, это будет весьма сложно. – Да ты что? – перебил он. – Впрочем, это, действительно, не так просто сделать. – Но это как сказать, – продолжал я шутливым тоном, рассчитывая вывести приятеля из непонятного мне оцепенения. – Да, неожиданная встреча, – проговорил он. – Даже не предполагал, что когда-то снова увижу её. Впрочем, пойдём в город. До отправления ещё много времени. – Ты хотел о чём-то меня попросить, – напомнил я. – Да, да, конечно. Скажи мне, смог бы ты заговорить с ней? Попытаться вызвать на откровенность? Нет-нет. Только без всякого флирта. Просто заговорить? – Попытаюсь. Но для чего? – Попытайся. Ты умеешь. Я знаю, что у тебя получится, – сказал он. Мы вышли на улицу, раскрыли зонтики. Всё также моросил дождику, всё так же спешили куда-то прохожие, обходя лужи на асфальте тротуара. По серому Ленинградскому небу бежали мутные облака. Обогнув привокзальную площадь, мы оказались на многолюдном даже в дождь Невском проспекте. – Так в котором часу отправление? – спросил он. Я ответил. – Времени ещё вагон, – и, вспомнив о своём билете, прибавил: – Кстати, о вагоне. Только ради тебя еду в этакой трясучке. – Спасибо за такую жертву, – с усмешкой молвил он. – Сейчас, только устроимся где-нибудь, и я тебе всё расскажу: ты поймёшь, как для меня это важно. – Ну, так не тяни… – Не здесь же, на улице. Это ведь длинная история. Давай-ка зайдём в ресторан, посидим в тишине. За обедом и поговорим. И потом мне что-то захотелось выпить. Я знал, что выпивать он не любитель, но не удивился, видя его состояние. Мы зашли в старинный ресторан на Невском с огромным залом, увенчанным различными украшениями, с фонтаном в центре и уютными кабинетами, устроенными на втором этаже в виде балконов. Выбрали такой кабинет, и удобно устроившись в креслах, попросили меню. Подошёл чопорный, несколько слащавый паренёк и согнулся, учтиво спросив: – Чего изволите? – Водки, – сказал мой приятель. – А что на закуску, он скажет, – и кивнул в мою сторону. – Ну, так пообедаем. Что там у вас? Я сделал заказ, а он повторил: – Только, пожалуйста, водку и закуску побыстрее. – Мигом, – пообещал официант. Мы были в командировке в городе на Неве. Касалась она издательских дел. Мне пришлось уезжать раньше – позвали срочные дела. Он же обещал сам всё завершить и через несколько дней выехать следом. Тот труд, над которым мы работали, не очень его занимал. Вечерами в гостинице он работал над новым своим романом, в котором особенно хорошо удавались жизненные, особенно любовные сцены. Работать с ним было непросто. Он мог часами ничего не делать, хандрить, переживать по каким-то пустякам, выбивавшим его из равновесия, затем вновь садиться за компьютер и уже накрепко. В любую минуту дня и ночи он мог ворваться ко мне в номер, разбудить и заставить слушать новые главы, будто нельзя это отложить до утра. Впрочем, слушал я с удовольствием. Я знал, что он очень часто отрывался от нашей совместной работы, что его более привлекало его новое произведение. Что-то очень сокровенное, личное, видимо, было в нём. Что поделать? Человека не изменишь. Не заставишь писать то, что в данный момент не пишется. Это можно по необходимости сменить пилку дров на их рубку. А любовный роман вот так вдруг, без вдохновения, не напишешь – это не исторический трактат, заранее продуманный и спланированный. В любой роман, в любую повесть и даже рассказ человек вкладывает что-то личное, пережитое и, садясь за стол, вновь, и подчас, с большей силой переживает всё сызнова. Вот и теперь он был занят своими мыслями, и кто знает, что рождалось в его голове. Нам подали запотевший графинчик, поставили хрустальные рюмочки и фужеры, раскинули веером по столу заманчивого вида закуску. Официант наполнил рюмки водкой и фужеры минеральной водой, откланялся и, молча, удалился. – Первый тост за тобой, – сказал я. – Не до тостов, – отмахнулся он. – Так выпьем! – Ну, тогда давай хоть за ту красавицу, с которой мне теперь предстоит ехать до Москвы, – предложил я. Он молча опрокинул рюмку. Я последовал его примеру и вопросительно посмотрел на него. Он всё почему-то тянул с началом рассказа. Я не торопил, понимая его состояние. Наконец, он сказал: – Ты знаешь, кто эта женщина? – Откуда же мне знать? – удивлённо переспросил я. – Она была мне очень дорогим и близким человеком, – задумчиво проговорил он. – Именно она вернула меня в литературу. Я бы сейчас ничего не писал, если бы не она. А ты знаешь!? – вдруг оживился мой приятель. – Я не стану рассказывать. Я просто прочту тебе несколько страничек из новой своей книги. Не могу пока точно сказать, что из неё выйдет – повесть или роман. Может быть, просто перечитаю, окончив её, да порву и выброшу в корзину. Но вот сегодня, сейчас, не могу не писать, потому что накопилось вот так, – и он провёл ладонью по горлу, – потому что само льётся из души, и не могу остановить этот бурный поток. – Читай, – попросил я. Литераторы не любят слушать друг друга, не любят читать друг друга, но здесь было исключение – уж если мой товарищ решался что-то прочесть, всегда было интересно послушать. К тому же он умел читать столь эмоционально, что это по-настоящему трогало, и, признаться, доставляло удовольствие. Он взял свой портфель, положил на колени, открыл и некоторое время рылся в бумагах, перекладывая тоненькие папочки. Затем извлёк одну и положил на стол перед собою. Всё делал неторопливо, словно оттягивал момент начала чтения. Поставив портфель на пол, он потянулся к графинчику. Я опередил его, наполнив рюмки. Он же сказал: – За литературу! За русскую литературу. За литературу Тургеневскую, Бунинскую… Одним словом, настоящую! – Ты хочешь сказать: за возрождение Русского языка в нынешней литературе, с большой натяжкой именуемой русской? Согласен. Выпью с удовольствием! Он же только пригубил рюмку, поморщился, проговорил: – И водка теперь не водка, а гадость какая-то… Впрочем, писателю некогда заниматься этакой дрянью. Ты знаешь, что после выпивки в течение полутора месяцев пишешь только то, что годится лишь в корзину. Это точно! Проверено не только мной. Конечно, нынешним шелкопёрам безразлично, когда писать. Но, не будем судить других! Слушай и суди своего друга, – и прибавил с улыбкой. – Только не очень строго. Мы дружно рассмеялись. – Так вот начинаю я не совсем обычно, начинаю с маленькой прелюдии. …Отложи мой рассказ, стыдливый читатель – он не для тебя! Впрочем, ещё недавно и я не дерзнул бы писать так, как пишу сегодня, отбросив фарисейский притворный стыд и стремясь воспеть волшебную, непревзойдённую близость с пронзительно-прекрасной женщиной, предметом моей восторженной страсти, моего обожания. Прочти мой рассказ, читатель, если доступно твоему пониманию самое высокое, яркое, сильное из всех земных чувств – Чувство Любви! Я пишу для тебя, не стыдясь откровений, я пишу для себя, воспламеняя память свою, испепеляя себя в огне переживаний, я пишу для любимой, надеясь, что и она когда-то прикоснётся к этим страницам. Я пишу, оживляя в сердце своём её незабываемый образ, пробуждая в памяти минуты чудные, минуты яркие и прекрасные, драгоценные для нас обоих. Я берусь за перо, не ведя ещё, сумею ли вести рассказ свой с откровением исповеди, смогу ли передать всю силу страсти своей, всю силу любви, смогу ли искрами фраз своих заставить вспыхнуть огонь, столь яростно пылавший в наших сердцах ещё недавно. Смогу ли поведать, как можно любить, как нужно любить, как нельзя не любить! Благословен тот чудный миг, когда вспыхнуло моё сердце, когда огонь любви охватил душу, и когда встрепенулась, наконец, долго дремавшая моя муза. Средь лёгких облаков, в лазурном зените сверкнуло в восторженных глазах моей любимой отражение синеоких озёр, и распахнулись под крылом гидросамолёта тёмно-зелёные ковры лесов с синеющей вязью проток, словно, говоря словами песни, облака упали в зеркальную гладь озёрную. Валдайская гряда – врата Земного Рая Загар твой золотой на золоте песка, И тишина, покой от края и до края, И рядом Ты одна – как никогда близка! Он сделал короткую паузу, переводя дух, и я, воспользовавшись ею, спросил: – Это твои стихи? – Ну а чьи же? – ответил он вопросом на вопрос. – Впрочем, я наверное, утомил тебя чтением… А сам немного успокоился…. Теперь слушай, могу спокойно рассказывать… – Ты заметил, что она моложе меня? Десять лет в молодом возрасте – немалая разница. Это почти что иное поколение. Да-да, не возражай… Я тоже не сразу понял это. Она училась тогда в институте. Мы всё решили твёрдо и, казалось, прочно. Одно беспокоило меня. Институт, а точнее студенческая среда, наложили свой отпечаток на характер Алёны, на её поведение – слишком вольна она была, как мне казалось, в общении с мужчинами. И я переживал, потому что просто не мог не думать о том, сколь далеко могли заходить прежде её отношения… В конце концов, я попросил её, даже предупредил твёрдо, чтобы выкинула из головы всех старых знакомых, а особенно, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах не появился на моём пути кто-то из её прежних… ну, скажем, друзей. Она возражала, пытаясь убедить, что друзья – есть друзья, но я упорствовал… – Но из-за чего же всё-таки произошёл разрыв? – Однажды, незадолго до свадьбы, она пришла ко мне в гости со свой подругой, которую мне доводилось видеть и прежде. Но вот подруга эта притащила за собой своего знакомого молодого человека примерно моих лет. Подруга эта Алёнина была такой, знаешь ли, разбитной девицей. Мы посидели за столом, поговорили о всякой всячине, и вдруг Алёна захотела танцевать. Я включил музыку, повернулся к ней, но она уже танцевала с тем молодым человеком. Я легонько потянул её к себе, полушутя-полусерьёзно напоминая, что ревнив. И вдруг до слуха моего донеслась хлёсткая, как выстрел, хорошо, наверное, продуманная фраза: – О, как я понимаю вас… Было время, грешил тем же. Да и нельзя не ревновать её, с её-то характером… Он, не спеша, как бы нехотя, выпустил её из своих танцевальных объятий. – Да что же он такого сказал? – не понял я. – Нужно видеть взгляд, нужно слышать голос, чтобы понять смысл сказанного!.. Короче, я вспылил, резко повернулся и вышел на кухню, хлопнув дверью. Её подруга с тем молодым человеком тут же ушли, Алёна же набросилась на меня с упрёками. Она впервые сделалась такой гневной, несдержанной, не выбирала выражений, а мне оставалось только поражаться, открывая в ней прежде незнакомые отталкивающие черты. Впрочем, мне хватало выдержки не отвечать тем же, но когда она обронила тёплую фразу о том парне, я не удержался от вопроса: – Вы с ним давно знакомы? – Давно… – Вас связывала только дружба или?.. – Ты хочешь всё знать? – вскричала она. В таком состоянии женщина может выложить о себе многое, даже и крайне невыгодное. – Да, хочу! – Так знай! Было всё! Сказала и тут же зажала рот рукой в неподдельном испуге. Не укрылось от её глаз моё оцепенение, бледность, покрывшая моё лицо. Но слово – не воробей!.. Мой товарищ долго молчал. Я ждал и никак не мог отделаться от мысли, что какие-то мотивы этой истории мне уж знакомы. Где-то и от кого-то слышал я нечто похожее. Его глухой голос донёсся до меня, словно издалека: – Она подбежала ко мне, попыталась обнять. Я слегка отстранился и подошёл к книжному шкафу, где за стеклом лежали приглашения на нашу свадьбу и во Дворец бракосочетания. Вытащил их и, порвав на мелкие кусочки, швырнул в её сторону. Он снова долго молчал, словно сызнова переживая случившееся, потом тихо сказал: – Жестоко? Наверное… Но я тогда считал, что она поступила ещё более жестоко и не просто жестоко, но и мерзко. Мне показалось, что она весь вечер, глядя на нас, посмеивалась, как однажды, в общежитии, когда усадила рядом двух своих ухажёров, не подозревавших о такой глупой хитрости. Она как-то похвасталась этим… – Жестоко… – повторил я. – Тогда считал, что жестоко? А сейчас? Он не ответил, будто и не слышал моего вопроса, и я понял, что он так до конца и не решил для себя эту проблему. – Ну, братец, ты хватил, – сказал я ему. – Сравнил. Она ж за тебя замуж собралась, замуж… – Не знаю, – проговорил он. – И сейчас не знаю. Так было больно, так обидно. Ревность к прошлому – тоже ведь ревность. – И что же дальше? – Всю ночь я просидел за рабочим столом. Мне нудно было выписаться, все было необходимо излить на бумагу всё то, что так взорвало меня. Она проревела на кухне до рассвета. Потом подошла ко мне, попыталась обнять. Я отстранился. И тогда она, ни слова не говоря, стала читать написанное мною – бумаги были разбросаны по столу. Дочитав до развязки, швырнула листки на стол и молча вышла из комнаты. Через пару минут хлопнула входная дверь. Я даже не стал провожать её. – Что же было в рассказе? – Я описал наши отношения и сделал печальное окончание. Больше я её никогда не видел… Не видел до сегодняшнего дня… – Знаешь, сегодня на вокзале ты так смотрел на неё, что я понял: эта женщина оставила заметный след в твоём сердце, в твоей судьбе. Мне кажется, что ты и теперь её любишь. Так почему де не подошёл к ней? Вместо ответа он сказал мне: – Ну что ж, тебе пора. Провожаю только до вокзала. На перрон не пойду. – Да, но что я должен узнать у неё? – Спроси, любит ли она того человека, с которым столь внезапно развела судьба? Спроси, сможет ли вернуться к нему? Или ей дороже тот, кто стал причиной разрыва? – Ну, братец, столько вопросов. Да ведь не каждая женщина ответит на такие, даже хорошему знакомому, а тут случайный попутчик. – Как раз попутчику легче рассказать что-то сокровенное, – не согласился он. – Особенно такому, как ты, умеющему вызвать на откровение… Излила душу и.., поминай, как звали. – На один из вопросов я, пожалуй, тебе отвечу за неё. – На какой же? – с интересом спросил он. – Да относительно того человека, который, по словам твоим, стал причиной вашего разрыва. – И что же ты ответишь? – насмешливо спросил он, пристально посмотрев на меня. – Как же он может быть ей дороже? Какая глупость могли прийти тебе в голову? Дописался ты, братец, до того, что сам запутался, где литература, с её замысловатыми сюжетами, завязками и развязками, а где жизнь. Вот и получается, что в твоих произведениях всё иной раз запутаннее, чем в жизни. Вспылил ты тогда напрасно. Живёшь в каком-то другом мире. Ты ведь уж знал, что она за человек, знал, что прошлое для неё, как весёлая прогулка, но прогулка несерьёзная, лёгкая. Но она мечтала, с тобой вместе искренне мечтала о том, что ждёт впереди. И потом, суди сам… Ведь не он, тот молодой человек, был рядом с ней, не за него, а за тебя она собиралась замуж, за тебя, характер которого тоже не сладок. И, главное, не ты был побеждённым, а он, и не тебе надо было, сгорая от ревности, придумывать замысловатые фразы и вкладывать в них затаённый смыл, чтобы как-то уколоть и зацепить, а ему. И фразой той он растоптал не тебя и не вашу любовь, а себя, расписавшись в собственном бессилии. Мы расплатились и вышли из ресторана. Он молчал, слегка морща лоб. Он, несомненно, думал над моими словами, а я продолжал говорить, внушая ему, как мне казалось, истину. – Считаю, что ты поступил как ревнивый мальчишка. Попалась на твоём пути не такая, как все, встретилась гордая, несгибаемая, привыкшая повелевать всеми, кто ей окружал прежде. Что несгибаема она, я понял из твоего рассказа. И скажу тебе с уверенностью: рядом с тобой её бы и никто и никогда не согнул. Я бил его фразами, бил жестоко и безжалостно. Что ж, друзей надо учить и тогда, когда учеба эта приносит им боль. Но у меня теперь уже не оставалось сомнений в том, что обязательно разговорю эту женщину, ещё недавно таинственную и загадочную для меня, разговорю уже потому что иначе поступить не могу. У меня появилась цель, которая воодушевляла и призывала к немедленному действию! – Да, как её отчество? Имя ты назвал, но я же не могу обратиться к ней по имени? – Николаевна! – сказал он и повторил: – Елена Николаевна! Дождь всё ещё хлестал по асфальту, и мы снова раскрыли зонтики. Невский всё также был многолюден, несмотря на ненастную погоду. Я смотрел на проспект, и мне казалось, что не два-три часа прошло с того момента, как мы пошли в ресторан, а, может даже недели, месяцы или годы. Мой товарищ говорил столь взволнованно, что его рассказ не мог не увлечь. Да… меня увлёк рассказ, увлекла судьба, и я не мог не позавидовать светлой и дорой завистью тем его чувства, которые пережил он, будучи рядом с той милой, с той удивительной женщиной, которую довелось мне увидеть в кассовом зале вокзала. Мы молча дошли до площади Восстания, остановились под старинными сводами центрального входа на Московский вокзал. До отправления поезда оставалось не более получаса. – Что ж будем прощаться, – сказал я. – Не волнуйся, я постараюсь выполнить твое просьбу. Если конечно встречу её в вагоне. …Я постоял ещё немного, провожая его взглядом, потом посмотрел на часы и решил, что поезд, вероятно. Уже подали к платформе. Не спеша, прошёл по центральному залу, взглянул на табло, чтобы узнать номер пути и выбрался под широкий навес перрона. «Как начать разговор? – думал я. – С чего начать? Ведь можно всё испортить неосторожной фразой. Вон ведь как взглянула на меня , когда брал билет. Ещё, чего доброго, поменяется с кем-то местами, чтобы избавится от навязчивого попутчика». Я уже не думал о долгом и нудном пути, о неудобном вагоне. У меня появилась цель, и цель эта поглотила все мои мыли. Вот и одиннадцатый вагон. Я протянул билет проводнице, прошёл внутрь и сразу увидел её. Она сидела у окна лицом к выходу. Остановился на миг, потом пошёл уверенно, приняв, наконец, наиболее целесообразный план. Она встретила насмешливым взглядом. Видимо, решила, что сразу начну приставать с разговорами. Но не тут-то было. Вежливо поздоровавшись, я забросил чемодан на полку, сел, устроился поудобнее в кресле и положил на колени книгу, выбранную совсем не случайно. То был сборник моего друга с его фамилией, ярко начертанной на обложке. Краем глаза я внимательно следил за своей попутчицей. Она смотрела в окно, демонстративно отвернувшись от меня. Но я умел ждать и дождался. Когда поезд, слегка качнувшись, тронулся с места, она бросила случайны взгляд на меня и заметила книгу. В глазах отразилось удивление, сменившееся любопытством. Она даже отвернулась от окна, ожидая, что я заговорю с ней. Но я продолжал сидеть прямо, не обращая на ней никакого внимания. Книга лежала всё так же, как я ей положил. Я знал состав этого сборника. Там были повести и рассказы о любви. Многие из них я прочитал и теперь вдруг понял, кто главная героиня многих произведений. Как бы он ни крутил, ни вертел, как ни прятал, чтобы не придумывал, как бы ни называл свои персонажи, – в любом главном женском образе можно было найти черты моей попутчицы, ожившей, наконец, в своём кресле у окна. А я молчал, коварно молчал. Потом нехотя взял книгу, раскрыл её и стал читать, делая вид, что чрезвычайно увлечен этим занятием. Она стала немного нервничать. Надежды на то, что я заговорю с ней, что обращу на ней внимание, провалились. Но ей было очень неловко начинать разговор самой. Наконец, я сжалился. – Неплохо пишет, – сказал, как можно более равнодушно и, не закрывая книги, положил её переплётом вверх на полочку перед собой. – Кого? Я сделал такие удивлённые глаза, что она поняла по-своему, решив, видно, что автор мне неизвестен. Есть хорошее правило – не хочешь солгать, скажи что-то непонятное. Сказать, что не знаю автора, я не мог – не входило в планы. Раскрывать же, что он мой друг, было преждевременно. – Извините, – сказала она. – А можно посмотреть книгу? – Конечно, – сказал я, тщательно скрывая радость оттого, что осуществление моего плана началось. Она осторожно взяла книгу, раскрыла. Полистала, и стала читать какой-то рассказ. Потом вдруг опомнилась и спросила: – Вы, наверное, удивлены? Вот нахалка какая, попросила посмотреть, а сама читать вздумала. – Нет-нет, пожалуйста, – ответил я. – Читайте, если нравится. Она пристально посмотрела на меня, видимо, размышляя, говорит или нет. И всё-таки призналась: – Дело в том, что автор был.., – она смутилась. – В общем, мы поссорились незадолго до нашей с ним свадьбы. – Да? – я сделал удивлённое лицо. – Интересно… Говорят, прежде чем судить о взаимоотношениях двух людей, надо выслушать обе стороны. В подобных случаях рассказы совпадают редко. Но ту т я услышал историю, один к одному повторяющую ту, что поведал мне мой друг всего лишь несколько часов назад. Значит, оба были искренни. Одно не совпадало – она считала себя обиженной, хотя и признавала, что была неправа. Закончив рассказ, она сказала: – Понимаете, ведь не подумала, просто не подумала, что может произойти… Как я себя ругала! А ведь это всё подруга моя подстроила. Она с тем молодым человеком встречалась тогда, вот и пожелала взять его с собой в гости. Я значения не придала, не сопоставила, хотя помнила о предупреждении. Но здесь-то… Он же, тот человек, давно не со мной, а с подругой моей был. Она помолчала, а потом призналась: – Я была взбалмошной девчонкой. Я привыкла порхать по жизни. Мне всё давалось легко и просто. Единственная дочка у родителей, дочка балованная и, конечно, любимая. Мне позволяли всё, что можно было позволить. И с институтом помогли, и училась я не без поддержки. Хотя среднюю школу окончила с золотой медалью без чьей-либо помощи. А вот в институте могла и занятия пропустить. Замуж я не торопилась. Родители требовали, чтобы я сначала окончила институт. Да и не было достойных претендентов, не было молодых людей, которые могли бы по-настоящему тронуть сердце. И вдруг… На меня словно снежная лавина обрушилась, словно смерч налетел… А началось-то всё с пустяшного знакомства… Но вскоре этот человек ворвался в мою жизнь, открывая новый мир. Он мне писал: «Мир предо мною обновлённый…» Я не стал дослушивать стихотворение и прочитал заключительную строчку: – Ты будешь в мире том, Алёна, блистать на острие пера!.. Она опешила, внимательно посмотрела на меня и спросила: – Так вы всё-таки знаете его? – Представьте, знаю. И очень хорошо знаю. Он самый добрый мой друг. – А я ведь, как книгу видела, подумала, что вы с ним знакомы. А давно знаете? – Как вам сказать? Учились вместе, потом пути разошлись на какое-то время…А вот теперь вместе работаем. – Удивительно, – проговорила она. – Бывает же такое?! Очевидно, это относилось к встрече, которую она всё ещё могла считать чисто случайной. Я же решил, что настал момент действовать, пользуясь тем, что она немного ошеломлена: – Скажите, а вы хотели бы вернуть отношения с автором этой книги, которая, как я уже понял, вся о вас? Она удивилась, но, подумав, сказала: – Он не простит… Да и забыл уж давно, наверное. – Нет, не забыл, и вы сами в том убедились, листая книгу. Разве не так? Он любит вас, и свою любовь вложил во многие произведения. И новая повесть, которую сейчас завершает, тоже о вас. И тут я вспомнил, откуда мне знакома эта история. Ну да, конечно, некоторые ей мотивы положены в основу конфликта новой повести моего приятеля. Именно над её развязкой он работал теперь, именно в ней что-то не складывалось, не позволяя завершить работу. – Вы знаете, над чем он сейчас работает? – спросила она. – А давно ли с ним виделись? – Часа два полтора-два назад. Он провожал меня на вокзал, а ещё раньше, когда мы пришли за билетом, он, увидев вас, разволновался и попросил меня взять билет по возможности рядом с вами. Он почему-то не решился подойти к вам. Но если бы вы видели, как он смотрел на вас! Всю оставшуюся дорогу она читала книгу моего товарища, и то улыбка озаряла ей лицо, то капельки слезинок стекали по щёчкам. Наконец, за окном поплыл перрон Ленинградского вокзала. Мы вышли из поезда. Москва встретила сухой, холодной погодой. – Нужно позвонить ему немедленно сейчас же, – сказал я. – Знаете, давайте позвоним вместе? Он ждёт нашего звонка… – «Нашего»? – переспросила она, и лицо её озарилось. У междугородного автомата была небольшая очередь. Я думал, что всё разрешается хорошо и просто. Мне не терпелось услышать его голос, не терпелось, потому что я нёс ему радость, а радость принести всегда хочется быстрее. Он сразу взял трубку – она поняла это и подалась вперёд. – Ты слышишь? Я ехал с ней, – почти кричал я в трубку, – наши места были рядом… – С кем? С Алёной? – взволнованно спросил он. – Она любит тебя, слышишь, любит, как прежде, просит простить и ждёт. И выложил свой план, зародившийся ещё в вагоне. – Ты сообщаешь о своём приезде, и мы вместе встречаем тебя на вокзале. – Подожди об этом, – попросил он уже спокойнее. – Ты уверен в том, что сказал? Любит? Готова всё вернуть? – Да! Да! Да! Я был уверен, что через день или два возьму их руки и соединю здесь, на перроне и соединю навсегда… Нет, эти люди положительно должны быть вместе. – Ты доволен тем, что услышал? Ты простишь её, ты выезжаешь в Москву? – Ну-у, – протянул он снисходительно, – засыпал вопросами. Доволен ли я? Конечно. Прошу ли я? Нет – я прощать не умею. Но тебе огромное спасибо. Теперь я вижу развязку новой повести. Ещё раз спасибо и извини, я сажусь работать! *_*_*_* Написан рассказ в сентябре 1983 года, точно так же написан, как указано в рассказе – ночью, на одном порыве. Опубликован в газете «Красный воин» в октябре 1983 г., В журнале «Пограничник» в 1987 году. В последующем переработан уже в 1994 году, значительно увеличен и издан книжечкой. А подтолкнуло к этому следующее… Я отдыхал в Центральном военном доме отдыха «Подмосковье». Кто-то из знакомых принёс книжку, кажется, Тополя, и стал читать некоторые отрывки, в которых вовсю отражалась «свобода слова», касающаяся, правда, известных отношений, которые демократия ошибочно назвала любовью… Это было время, когда иные читатели, обнаружив в книгах те слова, которые раньше «публиковались» на заборах или в кабинах лифтов, сходили с ума от восторга: «Нет, да ты только посмотри!!!» «Да почитай!» «Не хочешь читать, послушай!»… И… один такой отдыхающий стал с вожделением читать: «Я беру свой (далее известная буква и отточие), направляю в (другая известная буква и снова отточие) и так далее – даже цитировать невозможно, хотя было это на странице официально изданной книги. Я сказал, что рассказы о любви не должны состоять из «помеси» медицинских терминов с матом и блатным жаргоном. А мне в ответ: «Попробуй, напиши лучше!» А я взял да засел за рассказ, но поскольку никакой сюжет не шёл в голову, решил всё завязать на рассказе «Развязка». Признаться, никогда так долго не работал над одним рассказом. Изощрялся в описании сцен, не скрою… Но, обязательно давал кому-то прочитать с просьбой вычеркнуть то, что режет слух, разумеется тем давал почитать, кто не млел пред матом и блатным жаргоном на страницах книг. Так и получился рассказ. Причём, увеличился раза в четыре, и я издал его брошюрой, в которой было 32 страницы. Сначала немного стеснялся его дарить, но потом заметил, что рассказ принят. Мотивы рассказа впоследствии тоже использовал в романе, который начал писать в 2004 году и назвал «Офицеры России. Путь к Истине». Примерно с 1989 года и по 2004 год занимался только историей. Исключение – переработка «Развязки». Убедился в одном – можно, вполне можно так выписать всё об известных отношениях, что не будет выглядеть отталкивающе для культурного слоя читателей. Но это нелегко, нелегко подобрать так слова, чтобы всё было понятно, но в то же время не упоминать предметы туалета, части тела… Ведь Русский Язык настолько богат и выразителен, что всегда можно найти синонимы, которые не режут, а ласкают слух… ЖЕНИСЬ САМ, ЕСЛИ НРАВИТСЯ Рассказ Я взял билет на скоростной поезд перед самым отправлением, и потому не удалось устроиться у окошка. Место там уже занял мужчина приятной наружности, с открытым лицом, на котором выделялись внимательные голубые глаза. Я поздоровался. Он ответил приветливо и поинтересовался: – До Москвы? – Конечно, – ответил я. – Этот поезд делает остановку только в Бологое, но туда на нём мало кто ездит. Было заметно, что сосед мой с некоторым волнением поглядывает на часы, ожидая отправления, словно торопит его. И хотя подобные желания присущи всем пассажирам, мне показалось, что он уж через чур волнуется. – Отправимся минута в минуту, – сказал я. – Не успеем оглянуться, как будем в столице. – Собственно, я и не знаю, следует ли мне спешить или ещё некоторое время побыть в состоянии ожидания и надежды, – неожиданно сказал он. Я посмотрел на него вопросительно, не совсем понимая, что он имеет в виду. Но в этот момент поезд плавно качнулся, стал сначала медленно, затем всё быстрее набирать скорость, и скоро нас буквально вдавило в сиденья от уже стремительного этого набора. – Ну вот и всё… Как говорится, я на финишной прямой и через считанные часы узнаю свою судьбу, – сказал он. – Загадками говорите. С гадалкой, что ли встреча назначена? – в шутку спросил я. – Нет, дело гораздо серьёзнее. Вся судьба моя зависит от того, встретит или не встретит на вокзале одна женщина. – Любимая женщина? – вставил я. – Вы знаете… Интересный вопрос. Уезжая в своё путешествие, я ещё не мог назвать её так, но вот теперь, пожалуй, такое определение вполне к ней применимо. Он на некоторое время замолчал, глядя, как за окном стремительно проносятся городские кварталы Санкт-Петербурга, мелькают платформы пригородных поездов. Затем продолжил: – Такая вот история со мной произошла… До сих пор не могу поверить – словно всё во сне, а скорее, в романе, то есть словно читаю остросюжетный любовный роман, в котором являюсь одним из двух главных героев. – Вы писатель? – поинтересовался я. – Угадали. – И книга, которая лежит на столике перед вами, ваша? – Моя. – Тогда я вас отлично знаю, точнее не вас, а ваше творчество. Ваши романы интересны и увлекательны. Но что же в жизни? Что вас так беспокоит? Он снова некоторое время помолчал и сказал: – Разве художественное произведение может сравниться с тем, что даёт нам жизнь? Вот сейчас у меня как раз такой случай. Такой пример. – А вы знаете. Я тоже весьма близок к литературе и хочу дать отличный совет. Включите диктофон, да и расскажите мне всю свою историю от начала и до конца. Ведь потом долго или вообще никогда не сможете написать то, что сейчас выльется из вас само собою бурным потоком. Я же вижу ваше состояние. – Интересный совет, – сказал мой попутчик. – Ну, конечно, если в вашей истории нет ничего сугубо интимного, такого, что… – Нет, нет. Ничего этого нет, – перебил он и снова повторил: – Интересный. Очень интересный совет. Если развязка будет счастливой, отложу эту запись до срока, когда она сможет стать линией какой-то повести, а если, увы, несчастной для меня, нынешней же ночью сяду за стол и не выйду из-за него, пока не пропишу всё и не поставлю точку. Не до сна ведь будет… Поезд уже мчался стрелой, приближая момент развязки так ещё и не начатого моим собеседником рассказа. И всё-таки он начал его, начал внезапно, начал по писательски, то есть хорошо отработанным слогом и довольно ярким языком. В тот день, а было это во второй половине ноября, в Москве выпал первый снег. Ещё накануне по мостовой рассыпалась колючая белая крупа. Ветер гонял её, заставляя прятаться в ложбины и канавки, в зелёную ещё кое-где траву газонов. А наутро снег повалил валом, засыпая нехоженые участки дворов, а дороги превращая в грязное месиво. Наступил, как говорят, день жестянщика, ибо привыкшие к сухому асфальту водители, царапали, били и корёжили свои автомобили, коих скопилось в Москве столь много, что улицы просто не в состоянии выдержать сплошные потоки. Мне нужно было заглянуть на старую свою квартиру, чтобы взять кое-какие книги, и я продирался из центра, стремясь объехать центральные улицы, на которых машины стояли без движения. Скорость была невелика, не больше чем у пешеходов, и я с удивлением наблюдал за теми, кто пытался остановить машину, чтобы куда-то доехать сквозь все эти заторы. И вдруг моё внимание привлекла знакомая девушка. Я не видел её давно, наверное, года два или даже больше. Это была Анечка, несостоявшаяся невеста моего сына Сергея. Он был женат уж как минимум два года, а она? Она, я слышал, так и осталась одна, потому что, как, якобы, сама признавалась, не в состоянии ещё раз вынести такого предательства, которое с трудом перенесла два года назад. Я остановил машину и приоткрыл правую дверцу. Анечка подбежала и спросила: – До Чертанова подвезёте? Я понял, что она не узнала меня, и сказал, чуть изменённым голосом: – Садитесь. – А сколько, – начала она, собираясь оговорить цену, и осеклась, узнав меня: – Вы? – Как видишь... – Так вам же не по пути. Она, очевидно, уже знала, что мы разъехались с женой и что живу я в той самой квартире, которую получил несколько лет назад, и в которой сразу поселились они с Сергеем. Вот так, взяли и поселились, даже не оговорив своё будущее. – Вам же в Южное Бутово. – Как раз сегодня мне необходимо побывать на старой квартире. Кое-что из книг понадобилось. Так что подвезу тебя с удовольствием. Мы двинулись по направлению к Чертанову, продираясь сквозь кучи грязи, лужи и объезжая машины, застывшие в ожидании разборок с сотрудниками ГАИ и страховыми агентами. – Как живешь, Анечка? – спросил я, наверное, для того, чтобы хоть что-то спросить. – Спасибо, всё нормально… Это была хорошая скромная девушка, худенькая, роста чуть ниже среднего, с миленьким добрым личиком. Я знал её давно. Мой сын ходил в одну с ней группу в детском саду, затем учился в одном классе вплоть до своего поступления в суворовское военное училище. С их классом я в своё время много занимался, придумывая разные пьесы, ну и, конечно, готовя к школьным парадам, посвящённым 23 февраля. Но это было в другой жизни – жизни светлой и доброй, а не бандитской, жестокой и злой, что выродило из себя чудовище демократии. – Замуж не собираешься? – Пока нет. Что было ещё спросить? Повиниться за сына, который не просто встречался – жил с ней полтора или два года, а потом быстро женился, чем нанёс жестокий удар её сердечку. И вдруг она сказала сама: – Мне жаль даже не то, что произошло с Серёжей, мне жаль тех отношений, что были у нас с Зоей Васильевной и с вами. Вы ведь так хорошо ко мне относились… – Мы и сейчас относимся к тебе хорошо, – поспешил сказать я. – Особенно Зоя Васильевна за тебя переживает. – Спасибо, – тихо сказала она и машинально спросила: – А как у Серёжи дела? – и тут же, спохватившись, почти выкрикнула: – Нет, не надо, не отвечайте. – Хорошо. Не буду. Но о чём ещё было говорить? Что-то вспоминать? Но любое воспоминание могло причинить ей боль. – Над чем сейчас работаете? – спросила, чтобы как-то отодвинуть подальше тему неприятного для неё разговора. – Что-то неожиданно отвлёкся от документалистики, да и в романе застрял на одной из сложных глав. Да что там говорить – могут ли быть лёгкими главы, если жизнь сама по себе сложна? Ты, должно быть, слышала, что с женой мы практически расстались… Оформляем развод. – Ой, как жаль… Зоя Васильевна такая хорошая. Я её искренне полюбила, – сказала Анечка. – Разве я сказал, что она плохая? Нет, дело не в том совсем. – И неужели нельзя ничего поправить? У вас такие были хорошие отношения? – Милая Анечка, всё это являлось ширмой, не более того. Так что я в поиске. – Ну, дай вам Бог, – сказала она. – А мы, кажется, приехали? Дом, постройки семидесятых лет, стоял в самом начале Чертановской улицы. Я въехал во двор, остановил машину. Анечка поблагодарила, и я заметил, что расстаётся она со мной не без некоторого сожаления. Удивительно, но ведь прежде мы практически с ней не разговаривали, потому что они, приезжая к нам в гости с Сергеем, всегда в то время старались чем-то помочь. Анечка часто настраивала и отлаживала мой компьютер, с которым я только начинал знакомство. Она попрощалась и медленно пошла к подъезду. Я не стал её догонять и специально открыл багажник, якобы что-то перебирая. Она же, остановилась возле подъезда и, прежде чем открыть дверь, ещё раз поблагодарила меня за то, что подвёз через все эти заторы и пробки, и только после этого открыла входную дверь. Я же, забежав на несколько минут домой, поехал на новую квартиру. Теперь уж всё смешалось и точнее сказать: «я забежал на старую квартиру, а потом поехал домой». Мы развелись, потому что вместе уже стало тесно от взаимных претензий и обид. Впрочем, и тут точнее сказать – от её претензий и обид, которых накопилось с три короба за годы прожитые и которые исправлять было поздно, да и нельзя исправить то, что неисправимо. Разводиться долгое время нужды не было, а жить вместе не имело смысла. К чему изводить друг друга понапрасну? Итак, я приехал домой, в свою квартиру и приехал в несколько расстроенных чувствах. Там всё было устроено заботливыми руками Анечки. Именно там она стала замечать вихляния Сергея. Он всё время пытался сбежать, вырваться на свободу и оказаться в некоей Обираловке, после революции названной городом Железнодорожным, сохранив при этом свою сущность, по крайней мере, по отношению к Сергею со стороны одной из молодых представительниц сего населённого пункта. И я, и жена, и мать жены – бабушка Сергея – и другие родственники были против его женитьбы на Карине Дудульман из этой самой Обираловки. Но он упрямился, продолжал встречаться, терзая тем самым Анечку. Но случилось так, что он неожиданно встретил любовь детства, девушку прекрасную. Они познакомились, когда ему было шестнадцать, а ей четырнадцать лет. Было разное в их отношениях, но теперь всё вспыхнуло с новой силой, и он женился при полном нашем одобрении. Может быть, ещё поэтому я, случайно повидав Анечку, в тот день был как бы не в своей тарелке. Ведь я приветствовал женитьбу сына, а о ней – о ней почему-то не подумал. Теперь же представил, какую боль всё это причинило ни в чём неповинной Анечке. В этой квартире о ней напоминало многое. Она старалась создать уют, нередко с грустью признаваясь моей жене, что понимает – делает и оборудует всё не для себя. Она считала, что рано или поздно Сергей приведёт сюда ту самую Карину. Ещё в ту пору, когда он метался между Анечкой и Кариной, я сказал ему: – Ну что тебе ещё нужно? Анечка просто прелесть. И красива, и умна, и стройна, хоть ты и говоришь, что есть и стройнее, имея в виду тощую худобу из Обираловки. Не в худобе красота женской фигуры. Когда критиковали Карину, он всегда ершился и дерзил. Вот и в тот раз на моё замечание о том, что Анечка замечательная девушка, заявил дерзко: – Нравится? Вот и женись на ней сам. – Не говори глупости. Хотя, впрочем, я бы с удовольствием, если бы такое возможно было. Конечно, это явилось шуткой, да и кто знал, как всё повернётся в дальнейшем? Но в тот день, когда подвозил Анечку, я внезапно вспомнил об этой его шутке. Я долго не ложился спать. Ходил возле книжных шкафов, открывая то одну, то другую книгу. Я искал ответа у поэтов. Да, моё состояние можно было выразить словами Генриха Гейне: «Не знаю, о чём я тоскую, покоя душе моей нет…». Часто мы равнодушно воспринимаем чужое горе, чужую беду, чужую печаль, когда они где-то вдалеке, когда мы слышим о них по рассказам. Но соприкосновение с горем не многих оставляет равнодушными. Жена часто говорила: «Мне Анечку жалко. Ей так тяжело. Она так переживает, наверное. Ведь два раза обманута в лучших надеждах… Но Сергей говорит, что никогда бы на ней не женился, что, если бы ему позволили, женился бы на Карине». Впрочем, так он говорил до встречи с нынешней своей женой. Я прилёг на кровать, выключил свет – даже обои со звёздным небом были её изобретением, и здесь до сих пор словно присутствовал её дух. Мне казалось, я ощущаю его. А ночью мне приснился сон. Она вошла в квартиру в белом воздушном платье. Она обошла все комнаты, что-то поправляя и подправляя в каждой. Я хотел идти следом, но не мог сдвинуться с места, я хотел протянуть к ней руки, но руки были, словно каменными. Я звал её, но не слышал своих слов. Но лёжа в спальне, я видел, как она что-то сделала на кухне, потом прибралась в гостиной. И, наконец, вошла ко мне, обворожительная, стройная, милая, хрупкая. Взгляд был ясным, радостным, счастливым. Она позвала: «Серёжа!». И в глазах было столько любви, столько мольбы, а потом столько печали неизъяснимой. Ведь никто не ответил. И глаза сразу потускнели, и она сразу поникла, а ещё через мгновение исчезла совсем. Я приподнялся на кровати и долго смотрел на зашторенное окно. За окном, пробивая занавеску мерцающим светом, покачивался на ветру уличный фонарь. А может, это был и не фонарь вовсе, а луна взошла на очистившимся от туч небе. И действительно, утром брызнуло своими лучами солнце, и сменился пейзаж. Нет, он не стал прежним, осенним, но, по крайней мере, засветились заиндевевшие деревья, а от этого уже стало как-то немного веселее, стало спокойнее. Я снова обошёл квартиру и, взяв мобильный телефон, послал Анечке короткое сообщение: С добром утром, Ангел Милый! Пусть сверкнёт твоя краса В солнечных лучах игривых. И печали полоса В твоей жизни пусть растает, Как вчерашний, мокрый снег, А сердечко путь оттает Для грядущих сладких нег. Я знал номер её телефона, и отправил сообщение, радуясь, что останусь неузнанным. Мне как-то неловко было ей писать такие послания. Пусть думает, что есть кто-то, кто хочет сказать ей ласковые добрые слова. Ну не я же, в самом деле, должен быть таковым добрым молодцем. Мне вспомнился сон. И снова захотелось написать что-то такое сильное, доброе, вечное. Но ничего не писалось. Я продолжил работу над рукописью будущей книги, постоянно прерываясь, потому что думал о ней, об этой хрупкой девчушки, на плечи которой легло столько обид и печалей. Осуждал ли я сына? Наверное, такого права не имел. Сам-то каков был?! И вспомнилась мне первая моя любовь, любовь ещё курсантская. Как я легко забыл её, когда встретилась светловолосая голубоглазая красавица, необыкновенно яркая и впечатляющая. А потом я был тут же забыт этой красавицей. Вспомнилась другая девушка, милая, нежная, и вдруг подумалось мне, что она чем-то очень походила в то время на нынешнюю Анечку – только возраст у них разный. Татьяна – так звали её – была на год или два моложе меня, Анечка же на 21 год… А с другой стороны, что жалеть о столь давно ушедшем. Ведь неизвестно, как бы всё сложилось у нас с той самой Татьяной. Только вот подумалось мне, что принося кому-то боль, мы вполне можем ожидать, что такая же боль постигнет и нас самих. Просто в юности мы не думали об этом. Я помню, как мы встречались с Танечкой, какие добрые и тёплые были у нас отношения. А потом я вдруг встретил ту свою красавицу писанную, растаял и перестал встречаться с Танечкой. И вот однажды она мне позвонила и задала вопрос таким тихим голосом, так проникновенно, так пронзительно: – Скажи честно, ты любишь меня или нет? Я опешил и пытался подобрать слова. Не подобрал и ответил: – Нет… Тут же хотел что-то и как-то пояснить, но она сказала: – Извини, – и повесила трубку. Даже тогда, будучи ещё молодым лейтенантом, я смог понять, что сделал что-то не так, что поступил как-то неправильно. Ну а с красавицей той, ради которой я расстался с Танечкой, у меня ничего не вышло. До сих пор помню, как мы возвращались на электричке с дачи, и Татьяна заснула у меня на плече, а когда мы на вокзале стали выходить, я увидел у неё на щеке две отпечатавшихся моих звёздочки. Теперь, когда вспоминаю, даже сердце замирает… Не знаю почему. Сосед мой прервал рассказ и посмотрел в окно. Поезд отстоял положенное время в Бологое, и снова сначала плавно, затем резко стал набирать скорость, вдавливая нас в кресла. – Вы любили жену? Ведь всё-таки женились же почему-то? – спросил я у своего собеседника, поскольку молчание затянулось. – Теперь это уже не важно. Не знаю. Казалось, что любил. Право, не знаю теперь ничего. А вы? – вдруг спросил он у меня неожиданно. – Вы знаете, – ответил я ему, – почему столь внимательно и с замиранием сердца слушаю вас? – Почему же? – У нас очень похожи ситуации. Я тоже расстался с женой и тоже встретил другую женщину и страстно полюбил её. Я тоже сделал предложение и пока ещё не получил твёрдого ответа. Я старше вас, да и любимая моя старше вашей Анечки. Есть проблемы… Когда вы сказали мне, что у вас всё решится сегодня на вокзале в Москве, признаюсь, загадал: если у вас будет всё в порядке, значит и меня ждёт ответ, который сделает меня счастливым. Впрочем, я с нетерпением жду продолжения. Мой собеседник некоторое время сидел без движения. Потом сказал. – И так, я послал первое сообщение по мобильнику. Ответ был полным удивления и вопросов. Анечку, конечно, заинтересовало, кто автор тех строк. Я ответил, что не могу открыться, и тут же послал ещё одно стихотворение: Я не хочу признаваться в любви, Пусть о ней скажут глаза мои, Пусть о ней скажут мои стихи – Огненной лавой льются они. Я обращусь за подмогой к ветрам, Жар призову своего пера, Чтобы грозу от тебя отведя, Божьего каплей согрели дождя. Если бы ветром волнующим стал, Кудри б с любовью твои заплетал, Если бы облачком летним я стал, Дождиком тёплым тебя умывал. Если бы солнечным лучиком стал, С трепетом нежным тебя согревал, Зависть ношу я к волнам морским – Дерзость какая дозволена им! Если бы стать той морскою волной! Если бы стать мне зверушкой земной! Ёжиком добрым свернуться у ног. Если бы мог! Если б только я мог! Но я не смею признаться в любви, Пусть о ней скажут стихи мои. На сей раз она ответила коротко: «Спасибо!». Я сам не знал для чего, но продолжал писать, а между тем вскоре получил ещё одно подтверждение, что Анечка действительно не только ни с кем не встречается, а просто сторонится мужчин. И вы знаете, у меня постепенно стали проявляться к ней всё более и более сильные чувства. Если всё началось с сочувствия и сострадания, то вскоре я стал всё чаще и чаще вспоминать шутку своего сына. «Женись!». Легко сказать, но как сделать? Я постоянно думал о ней, и постепенно сердце моё наполнялось любовью, хотя не видел её и не встречался с ней. Быть может, переписка по мобильной связи в какой-то степени этому способствовала, быть может, я чувствовал, что мой долг каким-то образом загладить то, что сделал сын. Нет, не то… Ради этого не женятся. А я ведь думал именно о женитьбе. Но когда родилось следующее стихотворение, я уже мог признаться себе в том, что в душе моей родились настоящие чувства, и я решился на встречу. Послал сообщение как бы от этого самого незнакомца-поэта, предложив встретиться и сходить в кино. Кинотеатр же выбрал близ Дворца бракосочетаний. Открываться мне до времени не хотелось, но план у меня был вполне конкретный и дерзкий план. Она согласилась. Я подъехал загодя, остановил машину так, чтобы хорошо просматривалось место встречи, и чтобы мне было удобно внезапно выйти и предстать пред Анечкою с великолепным букетом цветов. Я купил двадцать девять роз – столько сколько ей было лет. Признаться, очень волновался. Наверное, почти также как волнуюсь сейчас, тем более мы уже промчались мимо Вышнего Волочка, и скоро будет Тверь, а там уж рукой подать при такой-то скорости. Анечка появилась и робко огляделась. Пришла минуту в минуту, и потому у меня не было ни секунду на размышления. Я рванулся из машины, но тут же чуть замешкался, осторожно вынимая букет цветов. Она услышала звук открываемой двери, увидела меня и остановилась, с удивлением наблюдая за моими действиями. Думаю, что она не сопоставляла назначенное ей свидание с моим появлением и с моим букетом. Я пошёл к Анечке, но было такое впечатление, что она ещё не осознаёт, что причина моего здесь появления заключается именно в ней. Она хотела что-то сказать, но я опередил: – Анечка, милая, – начал я. – Стихи посвящал тебе я. А это... Здесь двадцать девять роз. Пусть они сотрут всё то печальное, грустное, всё то плохое, что случалось с тобою за твои двадцать девять лет, осветив своим ярким светом грядущее. – Спасибо… Неужели это всё мне? И столько красивых слов и цветов. Но у меня же не сегодня день рождения. – Пусть сегодня будет день рождения твоей новой, светлой жизни. – Это вы назначили встречу? – Анечка, – снова сказал я. – Очень тебя прошу, ничего не говори и, главное, меня не осуждай. Дурного не задумал, но прошу тебя пройти со мной в одно место… Это здесь, метрах в пятидесяти. Ты можешь выполнить такую просьбу? Она промолчала, а я, взяв её под руку, повёл по хорошо расчищенному асфальту в сторону того заветного заведения, которое уже посетил заранее и в котором обо всём договорился, чтобы не стоять в очереди. Она шла покорно, как под гипнозом. Когда же мы приблизились к широким стеклянным дверям, за которыми сияло море света, она прочла, что это за заведение, и, отшатнувшись, попятилась. Я осторожно, но в тоже время с твёрдостью взял её под локоть и сказал: – Это только предварительный шаг. Он тебя ни к чему не обязывает. Ещё будет время подумать, но его нужно сделать сегодня, потому что я срочно уезжая в командировку. В командировку на Кавказ… Она продолжала стоять на месте как вкопанная. Я повторил: – Очень тебя прошу! Очень. – Так неожиданно, – сказала она, но, повинуясь, вошла в помещение через дверь, которую я распахнул перед нею. Заявление мы подали. Мне казалось, что она делает всё как бы под гипнозом, да ведь и я не до конца осознавал, на какой шаг толкаю её и иду сам. Через несколько минут всё было окончено, мы вышли на улицу и направились к моей машине. Я открыл дверцу и усадил её, затем, обойдя машину, сел за руль. – И куда теперь? – спросила она, пытливо взглянув мне прямо в глаза. – Я заказал столик в одном милом ресторанчике. Нужно всё-таки отметить. Она не возражала. Нас усадили одних, в удобном месте, и едва нашли вазу для такого количества цветов. Она молчала, не зная, видимо, что сказать, а потому заговорил я, излагая своё видение вопроса. Я сказал, что уезжаю немедленно, сегодня же ночным поездом в длительную поездку, связанную с новой книгой, посвящённой армейским будням, что вернусь за несколько дней до свадьбы, что сразу после Дворца бракосочетаний, мы будем обвенчаны в Храме – там уже тоже всё оговорено. – А теперь шампанское! И ещё раз прошу принять всё так, как ты до сих пор приняла. – Вы же за рулём?! – Через несколько минут сюда подъедет мой товарищ. Он сядет за руль, мы завезём тебя в Чертаново, а затем заберём вещи, и он доставит меня на вокзал. И вот ещё что… Держи ключи. Держи, держи – это ведь твои ключи. – Были моими… – В твоей воле, чтобы они не были, а стали снова твоими и навсегда. Если хочешь, живи там. Я же знаю, что тебе очень нравится та квартирка, где всё сделано твоими руками. Когда буду возвращаться в Москву, дам телеграмму, сообщу номер поезда, вагона… Если ты примешь решение, которое сделает меня счастливым, то встретишь меня на вокзале… Если нет… Ну что ж. В этом случае я выйду на пустой перрон. И никогда уже не появлюсь на твоём пути. Она хотела что-то сказать, но я снова попросил помолчать: – В конце концов, дай мне пожить надеждой на всё самое лучшее. Эта надежда позволит мне горы свернуть. Я приеду с рукописью такой книги, которых ещё не писал. Так что помолчим… Она кивнула и улыбнулась. А через два часа я уже был в поезде. Перед самым окончанием командировки я получил ранение, и оказался в Питере, в клинике Военно-медицинской академии. Слава Богу, всё обошлось, и я, возвращаясь в Москву, даже не опаздываю ко дню бракосочетания, которое, конечно, может и не состояться. Произнеся эти слова, мой попутчик вздохнул и заключил: – Вот такая история… Развязка её наступит через несколько минут. И действительно, поезд резко сбавил ход, а за окошком показаля перрон Ленинградского вокзала. Мы направились к выходу. Попутчик мой заметно волновался, однако, держался молодцом. Вот и тамбур. Он вышел первым, и тут же замер в шаге от выхода. Я проследил за его взглядом. На перроне, чуть в стороне от людского потока стояла стройная молодая женщина в тёмном пальто и кокетливой шапочке. Мой попутчик пошёл к ней, и она сделала несколько шагов к нему навстречу. Они остановились в полушаге друг от друга и долго стояли так, глядя глаза в глаза. Я посчитал неловкими дальнейшие наблюдения и радостный зашагал прочь, думая только об одном: «Значит и у меня тоже будет всё нормально». *-*-* Центральный военный дом отдыха «Подмосковье». Осень 2008 года. Издан в сборнике «О тебе сказал мне Бог мой Русский» в 2008 году и сборнике «Вторая Подсказка Создателя» в 2011 году.