Николай Шахмагонов. Любовь - есть нравственное творчество
Исповедь Михаила Пришвина
Николай Шахмагонов
ЛЮБОВЬ – ЕСТЬ НРАВСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
(Исповедь Михаила Михайловича Пришвина)
«Любовь похожа на море…»
Михаил Михайлович Пришвин, признанный певец русской природы, автор романов, повестей, детских рассказов, встретил своё счастье лишь в шестьдесят семь лет.
Шестьдесят семь! Для кого-то старость и всё лучшее уже прошлом, а кто-то и вовсе ушёл раньше… Пришвин же только в шестьдесят семь сделал первый шаг на Олимп Счастья, Семейного Счастья…
Я написал Счастья, а не Любви, потому что в Любовь озаряла сердце писателя и раньше – были увлечения, были влюблённости, но Любовь, именно Любовь, истинная Любовь озарила его сердце лишь однажды. И он пронёс её через долгие годы, он нёс её вплоть до 16 января 1940 года!
И вот в шестьдесят семь лет всё перевернулось, всё пошло кувырком, но, в самом добром, самом хорошем и самом радостном для Михаила Пришвина смысле. Он снова испытал то, что лишь отдалённо испытал в юности.
Итак, всё произошло 16 января 1940 года. А впереди ещё было 14 лет – четырнадцать лет счастья, настоящего, всепобеждающего, счастья, без сучка без задоринки.
Что-то мистическое было в этом счастье – Пришвин ушёл из жизни именно 14 января 1954 года. Именно 14 января, прожив долгую жизнь – не каждому судьба выделяет такой срок на нашей грешной Земле.
Впрочем, не будем сразу раскрываться карты, не будем сразу рассказывать о том, что же послужило причиной счастья, а точнее, кто, поскольку, что бы там, и кто не говорил, истинное счастье может прийти только вместе со светлейшим и прекраснейшим из всех чувств – чувством Любви. Пришвин написал в своём дневнике, когда встретил своё счастье:
«Любовь похожа на море, сверкающее цветами небесными. Счастлив, кто приходит на берег и, очарованный, согласует душу свою с величием всего моря. Тогда границы души бедного человека расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и смерти нет... Не видно «того» берега вморе, и вовсе нет берегов у любви.
Но другой приходит к морю не с душой, а с кувшином и, зачерпнув,приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает соленая инегодная.
– Любовь – это обман, – говорит такой человек и больше невозвращается к морю…».
Возможно, были времена, когда и он сам считал любовь обманов, поскольку было много, очень много в жизни горестей и печалей, сомнений и разочарований. Были и самые первые, робкие чувства, были и первые мятежные желания, были соблазны, которые не распалили желаний, а напротив, погасили их, напугав Пришвина.
В дневнике он откровенно рассказывает о первых опытах общения с прекрасным полом:
«Это было в детстве. Я – мальчик и она – прекрасная молодая девушка, моя тётка, приехавшая из сказочной страны Италии. Она пробудила во мне впервые чувство всеохватывающее, чистейшее, я не понимал ещё тогда, что это – любовь. Потом она уехала в свою Италию. Шли годы. Давно это было, не могу я теперь найти начала и причин раздвоенности моего чувства – этот стыд от женщины, с которой сошёлся на час, и страх перед большой любовью».
Первая любовь! Она не забывается. Михаил Юрьевич Лермонтов посвятил ей всего две строки в стихотворении «Кавказ». Но какие это были строки!
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..
И пояснил:
«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду?
Иван Сергеевич Тургенев посвятил этому чувству прекрасную повесть, так и назвав её: «Первая любовь», Тютчев даже в исполненном печали и трагизма стихотворении на смерть Пушкина, воскликнул:
«Тебя, как ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ,
России сердце не забудет…»
Впрочем, и писатели, и поэты, да что там, и каждый читатель тоже по своему испытал в своё время первую любовь, по своему пережил её и Пришвин.
Он не раз ещё мысленно возвращался в юные годы, он думал о ней и тогда, когда встретил много лет спустя предмет этой своей любви, но к тому времени многое перевернулось и переломилось в его душе, и первый опыт восприятия чувств к прекрасному полу заставил сделать свои, выстраданные выводы.
Он был уже не ребёнком, но ещё и не юношей – он был в отроческом возрасте. Он жил в имении своих родителей, приобретённым дедом – Елецкий район, в то время Орловской губернии… То есть, он родился в губернии, давшей России великолепную плеяду знаменитых писателей и поэтов. В имении была горничная – Дуняша. Девушка красивая, немножечко дерзкая, немножечко ироничная и довольно раскованная. Она была старше Михаила, старше, может, и не на много, с точки зрения зрелых лет… Но в том возрасте и год, и два, а тем более больше, имеют значение.
Да… Чем дальше нас уносят в зрелость годы, тем меньше разница в летах видна. Это очевидно каждому, и это я обрёл в поэтическую форме, завершая стихотворение:
Ручьи и реки катят в море воды,
Соединяет в море их волна.
Чем дальше нас уносят в зрелость годы,
Тем меньше разница в летах видна!
Михаил Пришвин, несмотря на то, что был отроком, очень нравился Дуняше, нравился настолько, что она не раз намекала, что готова с ним «на всё»… И он сдался, он рванулся в неизведанное… Но, как вспоминал впоследствии, в самую решительную минуту, словно услышал внутренний голос – или, как пояснил – голос невидимого «покровителя»: «Нет, остановись, нельзя!»
Много лет спустя, оценивая свою жизнь, написал:
«Если бы это произошло, я был бы другим человеком. Это проявившееся во мне качество души, как «отрицание соблазна», сделало меня писателем. Вся моя особенность, все истоки моего характера берутся из моего физического романтизма».
Это было время, когда возникали различные философские и литературные течения по своему, истолковывающие тему любви, тему взаимоотношений с прекрасным полом, и особенно тему близости.
Владимир Соловьёв, Александр Блок, Андрей Белый… Какие только мысли не высказывали они! Блок, к примеру, после свадьбы объявил своей жене, что отношения у них будут только платоническими…
Что подтолкнуло Пришвина к такому направлению? Желание следовать знаменитым поэтам? Или какие-то жизненные коллизии?
Он выбирал: «Любовный голод или ядовитая пища любви?»
«Мне достался любовный голод».
Да, именно так отметил в своём дневнике Пришвин. В молодости сердца открыто любви. В двадцать девять лет – в 1902 году – он отправился в путешествие по Европе. Позади была учёба в Лейпцигском университете, казалось, открыты все дороги в жизнь… И вот в Париже он встретил студентку из России, Вареньку Измалкову, которая училась в Сорбонне, в Парижском университете.
И он влюбился, и любовь его не стала безответной. Три волшебных недели они провели вместе. Но… Не Блоковские ли стихи о «Прекрасной даме» встали между ними – Пришвин не мог отделаться от чувства, не мог переступить грань, говоря Бунинскими словами «последней близости». Он боготворил Вареньку, но не смел к ней прикоснуться, хотя она испытывала к нему вполне земные чувства, в которых соединялись и духовные, и плотские начала.
Вполне возможно, она ждала объяснений и предложения руки и сердца, но Пришвин словно дразнил её и через годы написал в дневнике:
«В этом и состоял роковой роман моей юности на всю жизнь: она сразу согласилась, а мне стало стыдно, и она это заметила и отказала. Я настаивал, и после борьбы она согласилась за меня выйти. И опять мне стало скучно быть женихом. Наконец, она догадалась и отказала мне в этот раз навсегда и так сделалась Недоступной».
А потом с горечью признал:
«К той, которую я когда-то любил, я предъявлял требования, которые она не могла выполнить. Я не мог унизить её животным чувством – в этом было моё безумие. А ей хотелось обыкновенного замужества. Узел завязался надо мной на всю жизнь».
Любовь к Вареньке Измалковой была знаковой для судьбы будущего писателя, поскольку именно разрыв с предметом этой любви и заставил Пришвина потянуться к чистому листу бумаги , чтобы излить всю боль от случившегося разрыва. Много лет спустя Пришвин вспоминал:
«Моя первая запись жизни была в 1902 году в Марте (или Апреле?) в поезде из Парижа в Берлин. На клочке бумажки, обливая её слезами, я записывал этапы моей первой любви к девушке, с которой почему-то решил навсегда расстаться. Этот клочок бумажки приблизительно такого содержания:
1) Встреча и розы.
2) Розы в холод не пахнут.
3) Розы в комнате запахли и т. д. – этот клочок и был моим первым произведением. И самое замечательное в этом романе, это что я сам по собственному желанию сделал её недоступной для себя, как будто эта недоступность необходимо нужна мне была для того, чтобы сделаться настоящим писателем, о чём, конечно, в то время я вовсе не знал.
Стремление выйти (зачёркнуто: из себя путём) из мучительного состояния путём записи было совсем бессознательным, совсем «ни для чего».
Материалист не тот человек, кто утоляет свой голод, поедая хлеб, а тот, кто голодный, не имея куска хлеба, понимает (зачёркнуто: солнечную природу) солнечную материю хлеба».
Любые попытки борьбы с Природой бесперспективны. Пришвин понял это не скоро. А в те годы он страдал и мучился, мучился и страдал.
У него было несколько контактов, уже иных, совсем не платонических, он не однажды испытал страсть, но страсть без любви.
О них он писал в 1913 году:
«Чем примитивней душа, чем ближе к природе, тем напряжённей переживания любви...
Первоначальное чувство: овладеть женщиной и порадоваться, вильнув хвостом: я победил! (потом вызывает) и боль, боль вызывает злобу, потом наполненное злобой существо становится само себе противно, и вот он кается, уничтожает, сбрасывает с себя всё, чтобы новым быть, и опять к той же женщине: я не такой теперь, я идеально люблю; и снова крушение идеалов, и опять злоба, сначала мелкие колебания, потом больше и больше, сначала она двойная, потом волны больше, и она, наконец, становится Мадонной, а потом Марухой.
А она желает обыкновенного [мужа], ей это ничего не нужно, и чем тоньше он становится, тем дальше от неё чувство: секрет найден, как избежать уколов жизни: нужно не соприкасаться с раздражением, хорошо! – но это найденное спокойствие всегда сопровождается чувством, что настанет когда-нибудь время расплаты – это всё больше и больше обостряется, и вот, наконец наступает расплата: любовь».
Судьба устроила ему встречу с той, которая впервые заставила трепетать его сердце, с его тёткой… И он рассказал ей всё, выложил все свои сомнения, пожаловался на раздвоение в мыслях и чувствах. А она ответила:
«А ты соедини. Но в этом же и есть вся трудность жизни, чтобы вернуть себе детство, когда это всё было одно».
А ведь жизнь на Земле идёт по однажды и навсегда установленным Законам, высшим Законам Природы… Да, каждый на Земле выполняет свою роль, свою задачу, которую получил при рождении. Но для выполнения этой задачи, каждому даётся выбор своей второй половинки, с которой предстоит шествовать по жизни. Недаром говорят, что браки свершаются на Небесах. Но почему так говорят? Да потому что каждому из нас раз в жизни даётся Подсказка Создателя при выборе это второй половинки. Ну а что касается идеальной пары, то она возможна только при полной гармонии духовных отношений и тех отношений, которые Пришвин называл плотскими и которых сторонился. Но как не сторонись, нарушая Закон, невозможно испытать счастья. И в отношениях «одно от другого» невозможно. Не может быть платонической любви – она не предусмотрена Законами Природы.
Годы шли, а он снова и снова мысленно возвращался в юность. Он вспоминал свою любовь к Вареньке, любовь далеко не безответную, любовь, которую он потерял по собственной вине. Он не мог не думать о том, а что было бы, если б он сделал предложение… Ответ себе мог дать только один:
«…песнь моя осталась бы неспетой».
Но при этом тут же находил и объяснение случившемуся:
«…чем больше я вглядываюсь в свою жизнь, тем мне становится яснее, что Она мне была необходима только в своей недоступности, необходима для раскрытия и движения моего духа».
И ещё одно признание:
«Мне было очень неладно – борьба такая между животным и духовным, хотелось брака с женщиной единственной».
Вдруг мелькнул луч надежды – нашлась Варя Измалкова. Она жила в Париже, и, узнав, адрес, Пришвин отправил её письмо, полное любви...
Позже он записал в дневнике:
«Мы писали, но потом перестали. Через три года в Петербурге я получил от неё письмо, она назначила мне свидание. Я по ошибке пришёл на другой день после назначенного, опоздал, и она уехала в Париж. Мне сказали, что она была невестой берлинского профессора, любила его, но перед свадьбой отказала. Вот в это время я и получил от неё письмо. Её близкие знакомые хотят уверить меня, что она меня не стоит, что она не может любить, её не хвалят, называют сухой, кокеткой...»
Пришвин остро переживал окончательный разрыв. Чтобы успокоиться, он отправился в путешествие по России, снова много писал о природе. Его книги получили известность. Но душевная рана не заживала:
«Потребность писать есть потребность уйти от одиночества, разделить с людьми свое горе и радость… Но горе я оставил при себе и делился с читателем только своей радостью».
И он снова и снова, оставаясь наедине с дневником, изливал его страницам свою душеную боль. 17 Сентября 1906 года написал:
«…Четыре года тому назад в начале апреля 1902 года в Париже (у А.И. Каль) меня познакомили с молодой девушкой В.П.И. Она очень ласково со мной заговорила о чём-то, но нас сейчас же позвали обедать вниз. Мы побежали быстро с ней по лестнице и, весёлые, смеясь, сели рядом. За столом было много пансионеров, и мы могли, не стесняясь, тихо болтать по-русски. Среди французов, сухих и, кажется, очень буржуазных, так было интимно приятно чувствовать себя русским. На столе, кажется, стояли какие-то красные цветы. Я потихоньку оторвал большой красный лепесток и положил ей его на колени. Ей, кажется, это понравилось, она мило улыбнулась. Несколько дней спустя я был в театре с нею в одной ложе. В антрактах мы с ней о чём-то говорили. Между прочим, она сказала, что не могла бы жить в России в деревне. Я удивился: а наша литература, а наши мужики, неужели это не может примирить с деревней? Кажется, я сказал тепло, хорошо, она ласково на меня посмотрела и молчанием сказала, что согласна. Я её провожал на Rue d'Assise (северо-восточная часть Парижа). Она меня просила показать ей Jardin des Plantes (Ботанический сад, Ирисовый сад) завтра. Мы условились встретиться в Люксембургском саду у статуи. В парке всё зеленело, апрельское солнце грело, дама кормила птиц крошками хлеба. Я внимательно смотрел на даму и птиц. В.П. подошла ко мне, розовая, с розовым бантом, маленькая. Мы пошли. В саду я философствовал, что-то говорил о Канте и объяснял естественно-исторические коллекции. Было приятно вместе. Мы встречались ещё несколько раз».
И снова в 1907 году рассказ о Вареньке:
«Однажды, я помню, мы ехали на конке. Пришёл громадный рабочий в синих широких штанах. Он был усталый, потный. Дамы вынули платки и, зажав носы, вышли на площадку. В.П. тоже вышла. Когда ушёл рабочий, В.П. вернулась. Я сказал ей, что она поступила нехорошо, что я так не сделал бы, но я демократ и не пример, но если бы я был аристократом, то ещё более не смог бы себе позволить так оскорблять рабочего. Она на меня внимательно посмотрела. Потом сильно покраснела и, смущенная, удивленная, сказала: «Я не думала, что вы такой глубокий». В этот момент она мной увлеклась, а я её безумно полюбил. Я её так полюбил, навсегда, что потом, не видя её, не имея писем о ней, четыре года болел ею и моментами был безумным совершенно, и удивляюсь, как не попал в сумасшедший дом. Я помню, что раз даже приходил к психиатру и говорил ему, что я за себя не ручаюсь.
Через несколько встреч после случая в конке у нас вышло какое-то недоразумение. Кажется, она нашла что-то обидное в моей записке к ней. В результате оказалось необходимым для меня и для неё объясниться. Мы встретились в день отъезда А. И. К. в Лейпциг. Кто-то принёс А. И. громадный букет роз на прощанье, и я увидел её с этими розами, с удивительно милым ласковым лицом. Мы молчали, дожидаясь отъезда А.И. Но без слов так много говорилось, ожидалось. Я чувствовал, что скажу всё, что я должен сказать, что здесь, в Париже, на свободе и нужно быть свободным. И настоятельность, и значение признания росли с каждой минутой. Поезд тронулся, мы остались одни. На площадке омнибуса мы молча стояли и не решались говорить. Между нами был большой букет роз, но они не пахли. «Не пахнут розы»... «Ну, говорите же», – сказала она...
И я ей всё сказал, бессвязный бред о любви, просил её руки. Она была в нерешимости. Мы сошли с конки, был сильный дождь. Я всё время без перерыва ей говорил, клялся, что люблю. Она молчала. Когда пришли к воротам, она меня расцеловала неожиданно, быстро. «До завтра, – сказала она. – У статуи. При всякой погоде».
Утром она пришла ко мне на квартиру и дала письмо; там было написано: я вас не люблю... Но её лицо говорило другое, она чуть не плакала. Мы пошли в ботанический сад, были в Notre Dame de Paris. Простились в Люксембургском саду, я плакал, она меня целовала. Я в тот же день уехал в Лейпциг и поселился на старой квартире. Через день А.И. приносит письмо из Парижа, которое оканчивалось: судите меня... Я с экспрессом в Париж. Мы снова у статуи, молчим или говорим пустяки, ходим в Люксембургском музее под руку в толпе, среди прекрасных мраморных фигур. Пароход на Сене. Большой зелёный луг, парк, кажется, Булонский лес. Мы высаживаемся на луг, идём под руку, она говорит: и так вот будем всю жизнь идти вместе... Дальше пока ещё тяжело писать. Я пропускаю... Мы расстались почему-то на кладбище: сидя в густой зелени, на могильной плите, мы без конца целовались. Я помню, нас немного смутили две старые набожные женщины в чёрном».
«Павловна» явилась мне… как часть природы»
Наконец, Пришвин всё-таки женился. Что заставило его пойти на этот шаг? Быть может, красивые и грустные глаза овдовевшей крестьянкиЕфросиньи Павловны Смогалёвой, оставшейся с ребёнком, так взывали к сочувствия, что он не выдержал? Он женился без любви, а из сочувствия, сострадания.
Даже рассказывая об этой женитьбе, он отталкивается от той своей, незабываемой любви к Вареньке:
«Через год после нашей встречи в Париже я сошёлся с крестьянкой, она убежала от мужа с годовым ребёнком Яшей. Мы сошлись сначала просто. Потом мне начала нравиться простота её души, её привязанность. Мне казалось, что ребёнок облагораживал наш союз, что союз можно превратить в семью, и подчас пронизывало счастливое режущее чувство чего-то святого в личном совершенствовании с такой женой. Я научил её читать, немного писать, устроил в профессиональной школе, так как не ручался за себя. Она выучилась, но продолжала жить со мной. У нас был ребёнок и умер. Теперь скоро будет другой. Яша вырос, стал хорошим мальчуганом, я его люблю. Я привык к этой женщине. Она стала моей женой. Но, кажется, я никогда не отделаюсь от двойственного чувства к ней: мне кажется, что всё это не то, и одной частью своей души не признаю её тем, что мне нужно, но другой стороной люблю…»
Но впоследствии написал:
«Фрося превратилась в злейшую Ксантиппу».
Он имел в виду жену греческого философа Сократа Ксантиппу, имя которой, благодаря отвратительному характеру, стало нарицательным для сварливых и злых жён.
В судьбе Пришвина все последующие события вытекали из его поступков, соответственных опыту его первой любви, любви, неудачной по его же собственной воле, а отчасти, если иметь в виду назначенную встречу, так и не состоявшуюся, по воле Случая. И он постепенно утверждался во мнении:
«Вспоминал, как в молодости Она исчезла, и на место её, в открытую рану, как лекарство, стали входить звуки русской речи и природа. Она была моей мечтой, на действительную же девушку я не обращал никакого внимания. И после понял, что потому-то она исчезла, что эту плоть моей мечты я оставлял без внимания. И вот за то я стал глядеть вокруг себя с родственным вниманием, стал собирать Дом свой в самом широком смысле слова. И, конечно, «Павловна» явилась мне тогда не как личность, а как часть природы, часть моего Дома. Вот отчего и нет в моих сочинениях «человека» («бесчеловечный писатель»)».
Так прошли годы в супружестве, но без любви, годы жизни не «с личностью», нет… годы жизни с «частью природы».
«Лада Валерия…»
И вот 16 января 1940 году в его дом вошла Валерия Дмитриевна Вознесенская-Лебедева (в девичестве Лиорко). Её прислали из Союза писателей, рекомендуя литературным секретарём. Было ей 40 лет. Она родилась 29 октября 1899 года в Витебске. Выросла в добропорядочной семье. Отец был подполковником жандармской службы, начальником железнодорожного Жандармского отделения Риго-Орловской железной дороги в городе Двинске, затем участвовал в Первой Мировой войне, был ранен… Но в 1918г. расстрелян в порядке красного террора, развязанного троцкистами. Мать, Наталия Аркадьевна, была дочерью витебского помещика.Семья была патриархально-православной и Валерия с детских лет была приучена к ежедневным молитва. Уже в десятилетнем возрасте она самостоятельно читала Евангелие.
И вот революция принесла горе в семью.
Да и первая любовь Валерии оказалась неудачной. Возлюбленный был философом, последователем в семейных отношениях идеалов Соловьёва, подхваченных в своё время Блоком и Белым. Он был против брака, выступал за духовные высокие отношения… Вместо руки и сердца он предложил странствия для проповеди новых учений о любви и семье. Валерия не могла оставить больную мать, сражённую семейной трагедией, и решила выйти замуж за старого друга, давно добивавшегося её руки. Но тот вскоре оказался в ссылке. Валерия попросила развода – тем более оба знали, что любви она не испытывала.
И вот она пришла к Пришвину, который был на 27 лет старше её. Начала работу, а Михаил Михайлович вскоре записал:
«Это была женщина не воображаемая, не на бумаге, а живая, душевно-грациозная и внимательная, и я понял, что настоящие счастливые люди живут для этого, а не для книги, как я, что для этого стоит жить и что о нас говорят, потому что мы себя отдали, а о тех молчат, потому что они жили счастливо: о счастье молчат.
И вот захотелось с этого своего мрачно-высиженного трона сбежать...
Как прыжок косули в лесу, – прыгнет и не опомнишься, а в глазу это останется и потом вспоминаешь до того отчетливо, что взять в руки карандаш и нарисовать. Так вот и пребывание этой женщины в моей комнате: ничего от неё как женщины не осталось, это был прыжок. Но... как же счастливы те, кто не пишет, кто этим живёт. А и вполне возможно, что это «соблазн», что это путь не к себе, а от себя.
Как же всё произошло? Об этом мы можем узнать из дневника писателя. Михаил Михайлович рассказал о знакомстве и первых взаимных симпатиях, а затем и любви с необыкновенной откровенностью. Приведу некоторые выдержки из дневника, который весь читается как роман…
Итак, начало 1940 года. Пока всё по-прежнему…
2 января Пришвин записал:
«Установилась зима. Работа над «Неодетой весной» вошла в берега, и теперь уже наверно знаешь, что выйдет, и уже ясно видишь конец: живая ночь: «Приди!» – выражающая песню всей моей жизни».
И, конечно, несколько слов о войне, ведь войной пахло в воздухе… В тот же день в дневнике отмечено:
«Аксюша (племянница жены, ставшая домработницей у Пришщвина – Н.Ш.) ходила с Боем (собака Пришвина – Н.Ш.) на улицу, видела там много детей, играющих в войну, и сказала:
– Будет война!
И так объяснила мне. В прежнее время, бывало, старики заговорят о войне, и детям до того становится страшно, что долго не могут уснуть. Тогда старики начинают детей успокаивать: война пойдёт, но к нам не придёт, нас война побоится. Мало-мальски успокоят, и уснут дети, и всё-таки… страшно и не хочется войны.
– А теперь, – сказала Аксюша, – дети играют в войну, и так охотно, стреляют чем-то друг в друга, падают, будто раненые, их поднимают, уносят. И всё в охотку. И если детям не страшна война, то, значит, будет война».
Но думы о работе, ибо писатель не может не думать о работе.
Недавно мне прислали стихотворение, точнее вырезку из газеты с неполным текстом стихотворения. К сожалению, оторваны последнее или последние четверостишия и вместе с ними имя автора. Но достаточно прочитать первое…
Художники, писатели, поэты!
На свете войны, праздники, чума,
Но это всё лишь новые сюжеты,
Всего лишь темы будущих Дюма…
Довольно точно сказано и в какой-то степени по-Пришвински!
14 января в дневнике появилась запись:
«Мне захотелось работать немедленно и быстро над своими дневниками, чтобы месяца через три всё закончить и сдать в Музей. Нужен человек, могущий работать у меня часов 8 в день».
Пришвин имел в виду Государственный Литературный музей, сотрудники которого, зная об уникальных дневниках писателя, предложили передать в фонд музея весь архив. Пришвин поразмышлял и понял, что одному с этой работой не справится. Необходим литературный секретарь. Союз писателей рекомендовал Валерию Дмитриевну Лебедеву…
И вот наступил день 16 января… В этот день, как уже упоминалось ранее, Валерия Дмитриевна впервые появилась в квартире Пришвина.
В дневнике осталась краткая запись:
«- 43 с ветром. Устроил «смотрины» (её зовут Валерия Дмитриевна). Посмотрели на лицо – посмотрим на работу».
Несколько дней ни слова о Валерии Дмитриевне. И лишь 22 января краткая запись:
«Вчера была вторая встреча с новой сотрудницей»
И всё…
И вдруг далее, три дня подряд записи, которые нельзя не процитировать. Первые шаги пока ещё в неизвестность, первые надежды…
24 Января.
«Есть писатели, у которых чувство семьи и дома совершенно бесспорно, другие, как Лев Толстой, испытав строительство семьи, ставят в этой области человеку вопрос, третьи, как Розанов, чувство семьи трансформирует в чувство поэзии, и четвертые, как Лермонтов, являются демонами семьи, разрушителями (Гоголь), и наконец – я о себе так думаю – остаются в поисках Марьи Моревны, всегда своей недоступной невесты…»
Но вот она перед Пришвиным – Марья Моревна. Уже в первые дни знакомства Пришвин стал понимать это. Он писал:
«Я ей признался в чувстве своём, которого страшусь, прямо спросил:
– А если влюблюсь?
И она мне спокойно ответила:
– Всё зависит от формы выражения и от того человека, к кому это чувство направлено, человек должен быть умный.
Ответ замечательно точный и ясный, я очень обрадовался…
Мы с ней пробеседовали без умолку с 4 ч. до 11 в. Что же это такое? Сколько в прежнее время на Руси было прекрасных людей, сколько было в стране нашей счастья, и люди и счастье проходили мимо меня. А когда мы все стали несчастными, измученными, встречаются двое и не могут наговориться, не могут разойтись. И наверно не одни мы такие.
Валерия Дмитриевна, копаясь в моих архивах, нашла такой афоризм: «У каждого из нас есть два невольных греха, первое, это когда мы проходим мимо большого человека, считая его за маленького, и второе, когда маленького принимаем за большого». Ей афоризм этот очень понравился, и она раздумчиво сказала вслух:
– Что же делать, у меня теперь своего ничего не осталось, буду этим заниматься (работой над архивом) как своим.
40-й год начался у меня стремительным пересмотром жизни, что даже и страшно: не перед концом ли?»
Но Пришвину судьба подарила ещё долгие годы жизни – жизни и счастья. Впрочем, за счастье это нужно было ещё побороться. Он встретил женщину, которая чувствовала его, которая его понимала:
1 Февраля 1940 года.
«Пришла В. Д. = Веде = Веда и сразу, одним взглядом определила, что я со времени нашего последнего свидания духовно понизился. Она очень взволновалась и заставила меня вернуться к себе, и даже стать выше, чем я был в тот раз. Это забирание меня в руки сопровождается чувством такого счастья, какого я в жизни не знал.
– У вас была с кем-нибудь дружба? – спросила она.
– Нет, – ответил я.
– Никогда?
– Никогда, – и самому даже страшно стало.
– Как же вы жили?
– Тоской и радостью.
…Так мы отправились путешествовать в неведомую страну вечного счастья.
Пришвина волновала разница в возрасте, ведь как-никак двадцать шесть лет. Но Валерия Дмитриевна сказала: возраст тут не причём, это своего рода паспорт.
Сущность любви по-Пришвински
Запись в дневнике, датированная 5 Февраля, начинается словами: «Моё рождение (1873 г.)». А затем снова размышления в форме разговора с Валерией Дмитриевной.
«…Мне бы хотелось эту любовь мою к Вам понять, как настоящую молодую любовь, самоотверженную и бесстрашную, и такую бескорыстную. Могу ли? Я хочу понять возвышение Ваше в моих глазах, как силу жизни, которая может воскресить меня. Я хочу быть лучшим человеком и начать с Вами путешествие в неведомую страну не когда-нибудь и в чем-нибудь на поезде или в самолёте, а завтра же и, не уходя никуда. Мы обдумаем вместе радостно путь нашего путешествия, обсудим все его детали и уговоримся выполнять всё, что надо, неуклонно и строго. В Вашем существе выражено моё лучшее желание, и я готов на всякие жертвы, чтобы сделать Вам всё хорошее и тем самому выше подняться и [вырасти] в собственных глазах. Всё, о чем я говорю, вышло от Вас, и я не хочу лицемерить и спрашивать Вас о том, согласны ли Вы со мной путешествовать в неведомую страну. Это не от меня идёт, это я Вам отвечаю, что я согласен и пишу это Вам, как выражение обязательств со своей стороны. И я подписываю договор.
Автор «Корня жизни». Михаил Пришвин, в день своего рождения (23-го Января 1873 года)».
7 Февраля.
«Веда превратила мой Geburtstag (немецк – день рождения) в день именин. …Сознание, как молния, простегнуло меня сквозь всю жизнь, но она была расположена принять меня всего, каким я у неё за это время сложился. И потому никакого стыда я не почувствовал, напротив! Проще самого простого она позволила себя поцеловать, и самое главное, рассказала мне о себе всё самое сокровенное. Больше дать нечего: всё! И всё так просто и ясно, и в то же время «Geburtstag» был разгромлен до конца. (Припоминаю, что после разгрома «Geburtstag'a» я даже пролепетал в полном смущении о своём «приданом», что я не с пустыми словами пришел к ней, а принес и талант и труд всей жизни, что талант этот мой идёт взамен молодости. «А я разве этого не знаю? Я первая обо всём этом сказала и сразу пошла навстречу»).
(…)
9 Февраля.
«…9 часов в обнимку, душа к душе. Что касается работы, то раз такой...»
9 Февраля, ночь. Снова размышления, обращённые к себе:
«– Скажите же, «мастер любви», чем отличается поэзия от любви, не есть ли это одно и то же, поэзия – с точки зрения мужчины, любовь со стороны женщины? Так что мужчина всегда в существе своём поэт, женщина – всегда любовь. Радость – при встрече того и другого, боль от подмены.
Сущность любви и состоит в ожидании, «мастер любви» учит ждать.
Психология поцелуя: со стороны женщины конец ожиданию, со стороны мужчины – стремлению. Дон-Кихот должен прийти в себя исключительно лишь от поцелуя: она поцеловала, и все кончилось – проехало – началась жизнь.
Надо запомнить о том, что я признался в своей ревности, она же ответила, что верно мне это предстоит пережить. – Не вас ли, – спросил я, – придется мне ревновать?
– Нет, – ответила она, – просто, по-бальзаковски я не могу, а такого существа... на свете нет.
Не знаю, любит ли она, как мне Хочется, и я люблю ли её как Надо, но внимание наше друг к другу чрезвычайное, и жизнь духовная продвигается вперёд не на зубчик, не на два, а сразу одним поворотом рычага во всю зубчатку».
Дневниковые записи Пришвина довольно сумбурны – когда человек пишет для себя, то и не заботится о том, чтобы его понимали другие. Иной раз нужно вникать в смысл, сопоставлять описанные события, чтобы понять о чём речь. Ведь дневники часто пишутся, когда нет сил таить в себе какие-то чувства, когда хочется поведать их кому-то, а если некому в данный момент, то поведать бумаги. Пришвин не раз в своих записях жаловался на одиночество, а потому можно думать, что именно дневник от этого одиночества спасал и жизнь его скрашивал.
11 Февраля в дневнике сказано: «Сегодня еду в Загорск и пробуду там всю шестидневку. (19-го вернусь.)»
И далее:
«Какое же это счастье быть избранным: ведь много-много разных людей проходило, и напрашивалось, и, узнав своё «нет!», уходило в Лету. Но я пришёл, и мне ответили «да», и среди множества званых я один стал избранным. А сколько тоже и их проходило и прошло, и только единственная получила моё «да» и стала избранной, и мы оба избранные без вина напиваемся и блаженствуем в задушевных беседах.
Ваши письма в бисерном мешочке мне очень дороги. Когда начинаешь мыслью блуждать и согласно этому неверно придумывать, стоит только поглядеть, и этот талисман и обыкновенная жизнь в священном её выполнении становится заманчивой, и самому начинает хотеться сделать свою поэзию такой же простой и значительной, как жизнь дочери, посвященная матери, и как всё такое, настоящее».
И далее после размышлений:
«Я будто живую воду достаю из глубокого колодца её души и от этого в лице я нахожу, открываю какое-то соответствие той глубине, и лицо для меня становится прекрасным. От этого тоже лицо её в моих глазах вечно меняется, вечно волнуется, как звезда.
Я всегда чувствовал и высказывался вполне искренно, что она выше меня, и я её не стою. Соглашалась ли она с этим – не знаю, во всяком случае она ни разу не отрицала этого соотношения. В последний же раз, наконец, во время ожидания трамвая на улице Герцена, она стала вдруг очень ко мне нежной, очень даже (она ночь не спала, а я стал ей говорить о дятлах, как они усыпляют песней детей, и ещё ей сказал о будущем нашем, когда мы всем «бабам» покажем, кто мы). Что ей понравилось, какую мою песенку она себе выбрала, но когда я ей в этот раз сказал, что я просто смиренный Михаил, а она моя госпожа, то она вдруг мне ответила:
– Не говорите мне этого, мы равные люди (т. е. друг друга стоим).
Форма рассказа:
Я её провожаю. Ждём номер 26 у остановки. Прислонились к стене. Уютно: улица стала Домом. Содержание беседы: Приходит трамвай.
– Давайте пропустим!
– Давайте.
Содержание 2-й главы:
И ещё приходит трамвай, и ещё.
– Пропустим?
И как сказки Шахерезады. А конец: больше трамвая не будет. И пошли пешком…
(…)
Мне кажется, я почти в том уверен, что в скором времени она меня будет любить так же сильно, как и я её: натура такая же поэтическая и в том же нуждается...»
Любовь всегда благотворно влияет на творчество, которое становится плодотворнее, и влюблённый не может не строить замыслы новых произведений. Пришвин рассуждал о новых книгах и, конечно, в жанре любви:
«Книгу о любви, конечно, нужно написать, но только при этом всегда надо быть готовым к тому, что если станет вопрос, книга или горячий поцелуй, то без малейшего колебания бросать книгу в печку. Только при этом условии книга может удасться, и при втором – чтобы мы создавали её вместе, как живого ребёнка создают муж и жена: я – отец, она – мать. И ничего тайного моего, отдельного, – вот это будет книга, вот это будет любовь. По-моему, такого романа на свете ещё не было и такой книги, чтобы книгу вместо ребёнка родить, ещё тоже не было. Впрочем, можно и не рождать. Во всяком случае, все должно быть радостно, весело и ненавязчиво.
(…)
Смотрю на себя со стороны и ясно вижу, что это чувство моё ни на что не похоже: ни на поэтическую любовь, ни на стариковскую, ни на юношескую. Похоже или на рассвет, или на Светлое Христово Воскресенье, каким оно в детстве к нам приходило».
Из дневниковых записей не всегда даже ясно, когда Пришвин говорил со своей возлюбленной мысленно, а когда диалог происходил при встрече. Он прописывал свои мысли, прописывал переживания, а потом иногда, не всякий раз, писал письмо, по его словам, несколько сглаживая написанное в дневнике. Иногда вновь возвращался к уже написанному раньше, оценивая по-новому или заостряя своё собственное внимание на том, что вдруг оказалось наиболее важном в отношениях. Чувствуется, что его довольно долг беспокоила разница в возрасте, и он иногда называл себя стариком, а то допускал и более нелицеприятные эпитеты. Он жил своей любовью, и в дневнике своём выглядел уже совсем не шестидесятилетним человеком, а юношей, впервые испытавшим сильное и всепоглощающее чувство. Он разговаривал с возлюбленной и в дневнике, порою не передавая ей свой мысленный разговор, он писал письма, он мог беседовать часами при встрече.
«Слушаю Вас как божество, старшую, тружусь, спрашиваю благоговейно, и Вы мне отвечаете: «Трудно с Вами». И мне трудно с Вами… Но я люблю Ваше страдание, оно трогает меня, влечёт, я не мог бы расстаться с Вашей задумчивостью. И мне очень нравится Ваша улыбка. Должно быть всё-таки я Вас люблю. <Зачеркнуто: Но я хочу жить, а не разговаривать.>»
А потом вдруг вывод:
«Она убеждена наивно, идеалистически, что если мы будем с ней сидеть на диване и целыми днями говорить, то и откроем друг в друге «настоящих» людей. Но сама цель создания атмосферы без цельного гипнотического влияния: человек взят для чего-то, а когда выходит из-под влияния, то, конечно, становится тем, каким он был и понятно: ничем же материальным не закреплено влияние...> она в моих глазах становится такой большой, такой любимой, что всё обращается в радость, и такую, какой в жизни своей я не знавал».
А чувства становились всё сильнее, всё ярче, всё неколебимее. И Пришвин поверял дневнику свои самые сокровенный мысли, самые яркие признания. Он не всегда мог столь откровенно всё это высказать возлюбленной:
«Я не знаю сейчас в себе и вокруг себя такого, чему бы я мог её подчинить и сказать: «слушайся, то выше тебя». Даже Солнце! Я ведь и Солнце боготворил только за то, что оно согревало, освещало, ласкало лучами своими мою бедную душу. Но если душа моя и без того прыгает и трепещет, переполненная радостью, то зачем я буду искать себе какое-то Солнце.
Когда её не было, Солнце меня учило обращать внимание к поднимаемой им жизни и любить её. Теперь не Солнце, теперь учит меня женщина. Зачем же теперь мне нужно Солнце? Была у меня Поэзия, и я плёл свои словесные кружева и привлекал к себе сердца многих людей. Так что же, если не Солнцу, то подчинить её Поэзии?
Нельзя подчинить её и Поэзии: она выше и, напротив, я должен самую Поэзию ей подчинить.
Она выше всего в мире, и я молчу лишь о том, что выше самого мира.
Господи, помоги мне её больше любить, чтобы она питалась моей любовью и была ею здорова и радостна.
Я смотрел на её волосы каштановые, пронизанные сединками и странно, что, целуя их, думал: «Ничего, ничего, милая, теперь уже больше не будет их, этих сединок». Смысл же слов теперь разгадываю так, что вот раньше ты ведь всё мучилась и сединки росли, а теперь мы встретились, горе прошло, и они больше не станут показываться. Или может быть в это время, как тоже бывает, я почувствовал вечность в мгновении: движения в этой вечности не было, и волосы больше седеть не могли. Или и так может быть, что в этот миг любви рождалось во мне чувство бессмертия и, может быть, даже и магии: было так ведь, что это как будто во мне заключена сила остановить мгновение и больше не дать седеть волосам.
Если думать о ней, глядя ей прямо в лицо, а не как-нибудь со стороны или «по поводу», то все, что думаешь, является мыслью непременно поэтической, и тогда даже видишь сплав чувства с двух сторон: с одной – это любовь, с другой – поэзия. И хотя, конечно, нельзя поэзией заменить всю любовь, но без поэзии любви не бывает, и, значит, это любовь порождает поэзию.
Гигиена любви состоит в том, чтобы не смотреть на друга никогда со стороны и никогда не судить о нём вместе с кем-нибудь.
(…)
В чувстве любви есть и свой земной шар, летящий с огромной скоростью в бесконечном пространстве. Шар летит, а ты вовсе на это не обращаешь внимания и живёшь так, будто все происходит на плоскости.
Люблю – это значит: «Мгновенье, остановись!».
24 Февраля.
«…Я человека нахожу в ней такого, какого не было нигде, и я впервые это увидел. И оттого, когда смотрю на её лицо, то вижу прекрасное.
(…) Моя любовь к ней есть во мне такое «лучшее», какое в себе я и не подозревал никогда. Я даже в романах о такой любви не читал, о существовании такой женщины только подозревал. Это вышло оттого, что никогда не соприкасался с подлинно религиозными людьми: её любовь ко мне (едва смею так выразиться) религиозного происхождения. Она готова любить меня, но она ещё не все установила, не всё проверила и не всему поверила, что к ней от меня пришло. Наверно, я должен еще заслужить. На этом пути очень помогают мне книги и дневники: всё это написанное было путем к ней. Не понимая – она бы не пришла. Вот теперь только я начинаю понимать, для чего я писал: я звал её к себе, и она пришла.
Как бы я ни восхищался ею, что бы такого не говорил ей в глаза, всё самое лучшее, она не станет отвергать, ведь сознавала, что всё лучшее в ней есть…»
«Впервые… узнал, для чего я писал».
Пришвин с восторгом писал о своём писательском труде, но о писательском труде, пришедшим вместе с любовью, поскольку любовь прояснила многое и многое наполнила своим немеркнущим светом, оживляющим даже самую лирическую прозу. Он признавался, что по новому видит Природу… Что он стал другим..
«Настоящим писателем я стал впервые, потому что я впервые узнал, для чего я писал. И может быть в этом я единственный: все другие писатели отдают себя и ничего не получают кроме глупой славы. Я же своим писанием, своей песней привлекал к себе не славу, а любовь (человека). Таких счастливых писателей никогда не бывало на свете. Никто из них в мои годы не мог воскликнуть от чистого сердца, от радости переполняющей душу: Люблю и да будет воля Твоя».
И вот ещё одно объяснение… О нём в дневнике запись от 25 Февраля…
«Спрашивает:
– Любите?
Отвечаю:
– Люблю!
Она:
– А я этого вам не могу сказать. Со мной совершается Небывалое, и нет на свете человека, кто бы мне был так близок и кому я так открылась, как вам. Но я всё-таки не могу сказать: «люблю». Ведь у меня же долги, если я люблю, то долги сами собою уплачены. А сейчас я не чувствую в Вас того настоящего, ради кого я должна то всё бросить: я сейчас ещё вся в долгах. Но я надеюсь, что когда-нибудь вас полюблю. Но что Вы меня любите, я знаю.
(Это больше, чем я заслужил).
27 Февраля.
«Сегодня же, целуя её, я сказал:
– Вы не сомневаетесь больше в том, что я вас люблю?
– Не сомневаюсь!
– И я не сомневаюсь, что вы тоже немного меня любите.
– Немного люблю.
Я подпрыгнул от радости:
– Правда?
– Правда: скучаю без вас.
И поцеловала в самые губы.
И я сказал:
– Не совсем, но моя.
И она:
– Да.
После этого она и ушла, в то же время осталась, и голубь с нами был и прыгал у меня в груди, проснусь ночью – голубь трепещет, утром встал – голубь.
– Ну, – сказала она, – конечно, надо сделать так, чтобы другие от нас меньше страдали, но если жизнь скажет свое слово, что надо...
– Если будет надо, я возьму вашу руку, выйду из своего дома и больше не вернусь. Я это могу.
Она вспомнила, что всё главное у нас вышло от дневников: в них она нашла настоящее, собственное своё, выраженное моими словами. И вот отчего, а не потому что боюсь, не отдам никогда я эти тетрадки в Музей: это не мои тетрадки, это наши. И так всё пошло переделываться в наше. Самое главное – это надо поскорее устроить ей возможность более спокойно и уверенно жить, иначе просто совестно разводить романы...
Весь смысл внутренний наших бесед, догадок в том, что жизнь есть роман… Она… всё ещё не совсем уверена во мне, всё спрашивает, допытывается, правда ли я её полюбил не на жизнь, а на смерть...
Я где-то в дневнике записал, как страдает глухарь в своей любовной песне, и потом, указав, что все животные переживают любовь, как страдание, указал на человека: только человек сделал из любви себе «удовольствие». Напомнив мне это, она сказала о наших бессонных ночах, разных других мучениях и сказала:
– Хорошее удовольствие!
28 Февраля.
«Ни разу за 30 лет не поцеловал жену в губы со страстью, ни одной ночи не проспал с ней и ни одного часу не провёл с ней в постели: всегда на 5 минут – и бежать. Близко к любви были поцелуи «Невесты» (2 недели) и больше ничего. Так что можно сказать: никакой любви у меня в жизни не было. Вся моя любовь перешла в поэзию, которая обволокла всего меня и закрыла в уединении. Я почти ребёнок, почти целомудренный. И сам этого не знал, удовлетворяясь разрядкой смертельной тоски или опьяняясь радостью.
И ещё прошло бы, может быть, немного времени, и я бы умер, не познав вовсе силы, которая движет всеми людьми. Но вот мы встретились...
Вчера я уверял её опять, что люблю и люблю, что если останется последний кусок хлеба, я его ей отдам, что если она будет больна, я не буду отходить от неё, что...
Много всего такого я назвал, и она мне ответила:
– Но ведь все же делают так.
И я ей:
– А это же мне и хочется: как всё. Об этом же я и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, а быть как все хорошие люди.
29 Февраля.
Объяснение с Аксюшей до конца и её готовность идти к Павловне на переговоры о том, что М. М. жизнь свою меняет. Теперь остаётся слово за Валерией.
Павловна – жена Пришвина. Настала пора объявить ей о решении. О необходимости развода…
1 Марта.
«Написал для серии «Фацелия» рассказ «Любовь», может быть самое замечательное из всего, что я написал.
Валерия не приходила: мать больна. В отношениях к В. прибавилось много ясности и спокойствия. Теперь надо лишь сдерживать себя и ждать».
2 Марта.
«…В этот вечер из моего рассказа «Любовь» ей вдруг открылось, что я не только её понимаю, но что через меня и она себя сразу поняла. Это было так радостно, что целовали друг друга, и она, целуя, говорила: мы подходим к настоящей любви, я начинаю верить, – мы к ней придём».
И снов запись:
«Вечерело. Мы забились в угол дивана, и я стал слушать, как билось её сердце: не симфония, а весь мир как симфония. И вот, один за другим и нога...
– Подождём, – сказала она.
И я послушался. И вместо того мы стали обмениваться словами: на той осинке, на этой почве вырастет слово.
– Ну, и что же? – сказала она. – Вот вы ласкаете мою ногу, целуете грудь, и вам ничего не делается? Поймите же, что ведь это же всё, и грудь Психеи, и нога газели, и всё такое, всё че-пу-ха!
– А что же не чепуха? – спросил я.
– У вас редкий ум, – сказала она, – вы сейчас единственный, с кем я не считаю себя выше, и у вас сердце, какое у вас сердце! И вы единственный, кому я открылась вся и кого я желаю. И всё-таки я не вся с вами. Если вы догадаетесь о том, что не чепуха, я отдам вам всю жизнь: отгадаете?»
5 марта 1940 года:
«Потенциал любви. Откуда что берётся! И физическая и душевная дряблость миновали, чувствую себя сильнее, чем в молодости».
12 Марта.
И снова Пришвин писал о любимой:
«Какая-то неудовлетворимая женщина, вроде русалки: щекочет, а взять нельзя, И не она не дается, а как-то сам не берешь: заманивает дальше.
А, в сущности, оно и должно так быть, если уж очень хочется любить и с желанием своим забегаешь вперёд.
Для оздоровления и жизни надо просто начисто бросить эту любовь, а делать что-нибудь чисто практическое, благодаря чему можно создать близость и привязанность, из которых сама собой вырастет, если мы достойны, настоящая и долгая любовь.
7 Марта.
«Прочитал Ляле «весну света» и получил награду: «Нет, нет, я вас полюблю, не бросайте меня!»
(…)
Чувство полной уверенности, что в мою жизнь послан ангел-хранитель с бесконечным содержанием внутренним и неустанным стремлением вперед. И самое удивительное, что сама она лучше меня это сознает.
8 марта 1940 года 67-летний Пришвин записал слова своей 40-летней возлюбленной:
«Её задушевная мысль – это поэтическое оформление эротических отношений, что для выполнения акта любви нужен тот же талант, как для поэмы. На свете мало таких озорниц, и как раз мне такая нужна».
10 марта:
«Самое большое, что я до сих пор получил от Валерии – это свободу в отношении «физического» отношения к женщине, т. е. что при духовном сближении стыд исчезает и, главное, уничтожается грань между духовным и плотским. Раньше мне казалось, что это возможно лишь при сближении с примитивными женщинами, где «духовное сознание» становится ненужным: «пантеизм»: она – самка (честная, хорошая), а в духовной деятельности, как писатель, например, я один: ей – кухня и семья, мне – кабинет. А теперь мы с ней равные, и мне думается, что вот именно вследствие этого равенства, постоянного обмена и происходит рождение чувства единства духовного и телесного».
Между тем, отношения развивались. Предложение сделано. Теперь необходимо идти к матери Валерии, просить руки.
До 10-го Марта она не говорила мне ни д«13-е Марта… вышло знаменательным днём. Ляля сожгла все свои корабли, все долги, вся жалость полетела к чертям. Любовь охватила её всю насквозь, и все преграды оказались фанерными: всё рушится. Аксюша (домработница) стала первою жертвой: мы объявили за ужином, что мы муж и жена.
…Завтра иду к Наталье Аркадьевне, матери Л., во всем повинюсь и попрошу её благословения.
Ляля рассказывала, что когда матери призналась, та её спросила, думала ли она о возрасте, что если выйдет какой-нибудь новый «перевал», то она-то по молодости вынесет, а ему-то конец. Л. ответила, что думала: что это любовь её последняя и в ней всё.
Но снова, даже после фактического согласия матери, ни да, ни нет:
«…её можно было целовать – это не да, «любишь?», она отвечала «нет», но и это не было «нет»: жди же, она разъясняла, что «нет» относится к её личному, глубокому, небесному пониманию земной любви, а с точки зрения земной любви, то отчего же, она почти готова...»
Понимая, что необходимо побыть вдвоём, без посторонних глаз, без всяких помех, Пришвин предложил Валерии Дмитриевне поехать в дом отдыха – остановил выбор на Подмосковном Доме творчества «Малеевка». Жить там предстояло в одной комнате!..
Он предупредил об этом, и согласие было получено.
В тот же день сделал очередную запись?
Я могу её любить до тех пор, пока в ней будет раскрываться для меня всё новое и новое содержание. И мне кажется, что это будет, что она глубока без конца... Это она и сама сознает, она уверена в этом и в своё время говорила мне, что не может любить меня: она для меня неисчерпаема, а я – исчерпаем. «Я вас любить не могу», – говорила она тогда. Но почему же теперь повторяет «люблю»? Это надо так раскрыть: стихийно она и тогда любила меня, но только не считала это любовью. А когда ей стало ясно, что за своё чувство можно постоять, можно не посмотреть на страдания её близких, что она имеет право на любовь и что без этого права была бы жизнь бессмысленной, то тут она и сказала «люблю».
Сколько раз я повторял в своих писаниях, что я счастлив. И они теперь меня об этом допрашивают, не понимая того, что своим заявлением «я – счастлив», я отказываюсь от дальнейших претензий на личное счастье, что я в нем больше не заинтересован, я ничего не домогаюсь, мне развиваться в счастье не надо: я достаточно счастлив. Отрекаясь от этого личного счастья, я движусь духовно в творчество: мое творчество и есть замена моего «счастья»: там все кончено, все стоит на месте, я «счастлив»; здесь в поэзии все движется... Я самый юный писатель, юноша, царь Берендей, рождается сказка вместо жизни, вместо личной жизни – сказка для всех.
И вот тогда, при отказе от себя, возникает любовь ко всякой твари. Что же, разве это не путь человеческий, прекрасный? Скольким тысячам я указал путь любви. Но почему же пришла она, и то стало болотом, и все мои зайцы поскакали к ней, и птицы полетели, и все туда, туда! И мне стало все равно куда ехать, на север, на юг, везде хорошо с ней: она причина радости и на севере, на юге.
21 апреля 1940 года он подал в Литфонд заявление на две путёвки в Малеевку.
И вот тот же день записал:
«Свет весны всю душу просвечивает и всё, что за душою – и рай, и за раем, дальше, в такую глубину проникают весенние лучи, где одни святые живут...
Так значит, святые-то люди от света происходят, и в начале всего, там где-то, за раем только свет, и свет, и свет.
...и любовь мою никто не может истребить, потому что любовь моя – свет. Как я люблю, какой это свет! Я иду в этом свете весны, и мне вспоминается почему-то свет, просиявший в подвале сапожника, хорошего человека, приютившего Ангела. Когда просиял Ангел, просиял и сапожник.
Огромное большинство записей мгновенны и так неожиданны для сознания в своём явлении, что писатель еще не успел излукавиться, как это бывает почти всегда в крупном произведении. Миниатюра, как искреннее...
23 Апреля.
«Ночь любви, на которую не всякого и молодого-то хватит, дала мне только счастье, и утром я встал бодрый и бесконечно благодарный моей подруге».
Если, лежа возле Ляли, с её рукой под головой, уснуть невинным сном ребёнка и потом открыть глаза, то окажется, что она не спит, а глядит на тебя с глубокой нежностью и счастьем…
…Есть во всем образе Ляли что-то ребячье, как у меня в такой же степени мальчишеское, и в этом «будьте как дети» мы находим себе соединение той любви и другой.
28 апреля
«…начинается какая-то новая фаза моего романа: спокойствие брачных отношений в собственном смысле слова, рост потребности закрепить свои позиции в более глубоких очагах её души, ясность зрения в сторону необходимости самого дела любви, какой-то черной работы для этого.
Ляля решила завтра взяться за работу – и хорошо».
18 Мая.
«Вчерашний день надо понимать, как предупреждение. Ляля клялась при матери и мне клялась здоровьем матери, что теперь навсегда её опыты кончены, что я буду единственным, кому она будет принадлежать… Но я, лежа с ней в постели, просил её не связывать себя клятвой, уверял её, что при её связанности она потеряет лучшее свойство женщины, свою изменчивость. И пусть она несвязанная, вечно изменчивая, предоставит мне самому позаботиться о том, чтобы уберечь её от измены, худшего, что только есть в человеке и женщине.
– Лесной крест, - шептал я ей, неустанно целуя, - есть твое суеверие, твой страх перед твоим величайшим долгом быть собой, утверждаться в себе, быть вечно изменчивой и не изменять
Размышления о любви, преданности и верности составляют лучшие страницы дневника:
«Она предложила «откровение помыслов», что взял на себя, и она иначе ведь не может утвердиться в мысли о моём постоянстве, как мужа. Подумав об этом, я сказал, что с моей стороны помыслы все мои я ей открываю ежедневно без обета: зачем мне обет, зачем крест и венец, если я люблю её и если в живом чувстве всё это и содержится. Точно так же я верю, что она меня любит, и я слабостью, страхом перед самим собой считаю, что она хочет прибегнуть для охраны своего чувства к чему-то внешнему. Так я и свел все ко вчерашнему разговору об измене и об изменчивости.
– Нечего клясться и обещаться, – сказал я, – если мы будем друг друга любить, то само собой будем открывать друг другу свои помыслы. А если ты разлюбишь меня и закроешься, то ответ за твою измену я беру на себя. Будь спокойна и бесстрашна, я буду охранять наше чувство, я беру это на себя, и если изменишь – я за это отвечу.
Свободная любовь без обетов и клятв возможна лишь между равными, для неравных положен брак – как неподвижная форма. Но благословения на брак, на любовь, на откровение помыслов испрашивать... и мы сегодня ночью пойдём к нашему кресту КБ и там в лесу вместе помолимся».
О своей борьбе за любовь, борьбе за счастье Пришвин писал:
«Закончился период внешней борьбы и начинается внутреннее строительство. Бывает, теперь берёт оторопь, спрашиваешь в тревоге себя: а что если это чувство станет когда-нибудь остывать и вместо того, как теперь всё складывается по нашему сходству, всё будет разлагаться по нашим различиям? Я спросил её сегодня об этом и она:
– Не хочу думать, отбрасываю. Если мы не остановимся, мы никогда не перестанем друг друга любить. – Да и намучились мы, – сказал я, – довольно намучились, чтобы искать чего-нибудь на стороне».
Дневник как исповедь
Удивительные откровения Пришвина, его исповедь просто ещё до сей поры не оценены должным образом. Мы знаем «Исповедь» Жана Жака Руссо и восхищаемся ею… Это, считается классикой. Но мы читаем Руссо в переводе, а при переводе, если даже не случается потери в «изящной словесности», то, в любом случае, это уже не совсем Руссо, а отчасти переводчик. К тому же можно привести тысячи примеров, когда переводные произведения иностранных авторов при переводе на «великий и могучий Русский язык» – блистательное определение Тургенева – приобретают значительно больше, нежели теряют. Да и теряют ли что-либо вообще? Очень сомнительно, что теряют.
А здесь перед нами дневники нашего, родного, русского писателя. И дневники, повторяю, достойные самой пронзительной и откровенной исповеди.
Пришвин в постоянном поиске. Каждый день – новые открытия, открытия в великом чувстве любви, открытия в отношениях с чудом чудным – с женщиной! Он не стесняется сцен нежности, не стесняется своих действий и мыслей своих:
«Ложась в кровать перед сном, не менее часу, обняв друг друга, вплотную (первый раз понял, что значит в-плоть-ную), мы не менее часу точно так же прислоняемся и душа к душе. В этот раз мы путешествовали по Кавказу, приехали по Военно-Осетинской дороге к Сурамскому перевалу...»
Мечты… Они мечтали, словно дети. Они были влюблены, словно дети. И он восхищался ею, восхищался всем, что исходило от неё…
«В своих обнажениях тела Ляля совсем ничего не стыдится и в то же время она не «бесстыдная». Дело в том, что она показывается не с целью завлечения, а как бы предупреждает: бери, если нравится, но помни, что это ещё не любовь... Возьми, но я жду не этого».
Чего же она ждёт? Быть может, ответ на этот вопрос, отчасти, содержится в записи: «16 Июня. Троица».
Пришвин размышлял:
«Такое движение вперёд, такое сближенье, такая любовь: разве каких-нибудь пар десять сейчас любят... Но бывает изредка, будто дунет кто-то на любовь, и туман рассеется, и нет ничего. Тогда тревожно спрашиваем мы: «Любишь ли ты ещё меня?» И уверяем и доверяемся, и опять приходит новая волна и сменяется новой. Как будто цветистый поток бежит, уходит и вечно сменяется новой водой».
И далее:
«…чудо уже в том, что до 40 лет в женщине могла сохраниться девочка Ляля. Эта сохранность детства и есть источник её привлекательности и свежести. Напротив, практичность женщины нас отталкивает...»
Пришвин признался:
«Надо очень помнить, однако, что моё разбирательство жизни Ляли имеет не литературную цель (хотя цель эта не исключается), а цель самой жизни моей…»
То есть дневник – не ради дневника, не ради того, чтобы по-писательски сделать зарисовки, которые – некоторые из которых – потом могут стать основой или просто небольшим толчком для рассказа, повести… Да хотя бы просто небольшой миниатюры. Нет, его любовь требует другого – он созерцает любимую и отражает это восторженное созерцание на бумаге, он разговаривает о ней с самим собой, спорит с самим собой и только ради себя, ради себя рисует любимый образ.
2 января 1941 года Пришвин записал:
«Для прочного брака необходимо вечное движение любящих в мир, где оба ещё не бывали и отчего они сами открываются друг другу новыми сторонами. Такой брак можно представить себе только как движение вокруг абсолютно неподвижной точки внутри и с вечной переменой извне».
13 января 1941 года:
«Когда люди живут в любви, то не замечают наступления старости, и если даже заметят морщину, то не придают ей значения: не в этом дело. Итак, если бы все люди любили друг друга, то вовсе бы и не занимались косметикой».
И постоянно думает, думает, думает, постоянно по иске ответов на самые различные вопросы, вопросы жизненные, вопросы, которые волнуют многих, особенно влюблённых и особенно тех, кто ищет любовь, но не может найти.
«И всё так просто: если хочешь, чтобы тебя полюбили – полюби сам. (Но другой говорит: я полюблю, если меня полюбят)».
Сколько шуток по поводу вопросов «любишь не любишь». Он и здесь ищет ответ. Почему же люди так часто спрашивают об этом? Сомнения?
«Мы… в молчании прошли по тропинке, удивились красивой форме её и всех тропинок, выбитых человеческой ногой. Переходя овражек, она повернула моё лицо к себе, спросила:
– Скажи, что ты любишь меня.
– Люблю, но скажи мне, что за этим вопросом скрывается, ведь он порождён сомнением?
– Это возникло, когда ты говорил, что я не мешаю твоему одиночеству. Я возревновала тебя к твоему одиночеству».
Он размышляет о стыдливости и ложной стыдливости, о том, что притягательная сила двух любящих душ воспламеняет притяжение любящих тел:
«Нет ничего хуже того «стыдно» условного, через которое воспитывается страсть к запретному телу: именно тем, что худо, приучают к безликому удовлетворению похоти! Приучают к тому, чтобы только дорваться, а там под прикрытием плоти всё равно был бы хоть кто. Из этого и создается проституция: обыкновенная «любовь» за деньги. Ляля не имеет в себе того «стыда» и в короткое время воспитала меня: я теперь больше уже не чувствую той отдельности своей от женского тела, в которой разгорается плоть. Напротив, мне удавалось для удовлетворения добиться через близость тела прикосновенности к душе, чтобы плоть моя не выходила из меня, а растворялась в моей крови. За счёт этого растворения получается постоянное любовное состояние, постоянная мысль обо всем через друга (от этого получается не удовлетворение, а со-творение, т. е. творчество в сообществе с Целым)».
«Любовь и поэзия – это одно и то же. Размножение без любви – это как у животных, а если к этому поэзия – вот и любовь. У религиозных людей… эта любовь, именно эта – есть грех. И тоже они не любят и не понимают поэзии».
Безусловно, лучшие страницы дневников Михаила Михайловича Пришвина посвящены встрече с Валерией Дмитриевной, женитьбе на ней и счастливому супружеству. Любовь к Валерии Дмитриевне всколыхнула писателя, который уже начинал считать себя стариком – как-никак шестьдесят семь лет. И вот он стал снова, словно юноша, но вспоминал юность всё-таки опираясь на свой жизненный путь и размышлял с высоты своего опыта.
Он испытал многое… Есть размышления такого характера:
«В своё время я был рядовым марксистом, пытался делать черновую работу революционера и твёрдо верил, что изменение внешних условий (материальных) жизни людей к лучшему, непременно приведёт их к душевному благополучию... Когда же пришла общая революция, и я услышал, что моя родная идея о незначительности личности человека в истории в сравнении с великой силой экономической необходимости стала общим достоянием, и этому научают даже в деревенских школах детей, то я спросил себя: «Чем же ты, Михаил, можешь быть полезен этому новому обществу и кто ты сам по себе?»
Так вопрос о роли личности в истории предстал передо мной не как догмат веры, а как личное переживание. Мои сочинения являются попыткой определиться самому себе как личности в истории, а не просто как действующей запасной части в механизме государства и общества... Так разбираясь, я открыл в себе талант писать. И мне открылось, что в каждом из нас есть какой-нибудь талант, и в каждом этом таланте скрывается, как нравственное требование к себе самому, вопрос о роли личности в истории».
Он выбрал не революционную борьбу, не политику – он выбрал художественную прозу, причём, окунулся в мир живой Природы.
Современники рассказывали, что у Пришвина была встреча со Сталиным, и Сталин задал вопрос о творческих планах писателя и о том, есть ли в этих планах какие-то задумки о произведениях, посвящённых рабочему классу, крестьянству – одним словом, строительству социализма в СССР.
Пришвин стал рассказывать о своём увлечении природой, о книгах, уже написанных и задуманных.
Сталин слушал внимательно, а затем с улыбкой сказал:
– Ладно! Пишите уж про своих птичек...»
И Пришвин писал о Природе, писал и о птичках и о животных… Но он писал и о любви:
«Итак, всякая любовь есть связь, но не всякая связь есть любовь.
Истинная любовь – есть нравственное творчество. Можно закончить так, чтолюбовь есть одна – как нравственное творчество, а любовь, как только связьне надо называть любовью, а просто связью. Вот почему и вошло в нас это олюбви, что она проходит: потому что любовь как творчество подменяласьпостепенно любовью-связью, точно так же, как культура вытесняласьцивилизацией».
--
Николай Шахмагонов
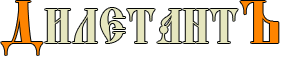
Это не эротика. Поэтому переношу на главную.
Вы правы, админ.
Но как бы здесь не только автору, но и писателям не досталось за то, что они посмели любить?
А вообще-то, по-моему, у Н.Ф. есть ещё штук тридцать подобных очерков, которые он до издания трёхтомника никому не хочет давать.
Трёхтомник в работе. Не знаю, когда выйдет. Скрывает Н.Ф. Говорить не принято.
Мне оценивать работу, как кадету, не очень корректно. Думаю, ясно, кто и почему "дежурный".
Ещё скоро будет "дежурный по кремлёвке", если роман о кремлёвцах здесь выставят.
А то срамота одна, что учинили здесь некоторые. Но мы такое видали. Сами наши ребята возили объявления в Международный Славянский культурный центр. Вечер, к примеру, в 2002 году "Севастополь сегодня наш Сталинград - Россия из Крыма ни шагу назад".
А приходили только по объявлению на нашем сайте и в нашей газете. А темы все острые. И все пропадали. Что люди не шли.
Стали выяснять.
Не было объявления.
Как не было?
Вывешивали сотрудники МСлКЦ, ну а потом не будут же проверять. В голову не придёт. Объявлений куча. Так какие-то зверобоины потихоньку снимали, а возвращали в канун выступления. А дом внутри квартала. За месяц надо объявлять. Так что голь на выдумки хитра. Так что война против правды всегда учинялась.
Мнение по очерку своё оставлю при себе. Только пожалуйста без мата по Пришвину. Да, кто прочтёт, увидит, что полюбил в 67 лет. Ох и виноват же он перед некоторыми форумчанами. И прожил в счастье много лет. Лет - не охота смотреть, в очерке есть - 13 или 14-ть.