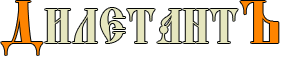история. подвиги
Кому мешает подвиг Раевского?
Подвиг генерал-лейтенант Николая Николаевича Раевского поистине переживёт многие века, как уже пережил более двух столетий. Он вошёл в произведения поэзии и прозы, им восхищались в России и за рубежом.
И всё же нашлось впоследствии немало верных учеников Аллена Даллеса, проводников его антироссийской доктрины, которые с необыкновенной яростью набросились на этот великий подвиг
Кому не нравится подвиг Раевского?
Подвиг генерал-лейтенант Николая Николаевича Раевского поистине переживёт многие века, как уже пережил более двух столетий. Он вошёл в произведения поэзии и прозы, им восхищались в России и за рубежом.
И всё же нашлось впоследствии немало верных учеников Аллена Даллеса, проводников его антироссийской доктрины, которые с необыкновенной яростью набросились на этот великий подвиг. Прикрывая свою личную робость, зачастую, даже к воинской службе в мирное время, не говоря войне, они доказывали наперебой, что ничего подобного не было. Чаще всего набрасываются на подвиг Раевского и его сыновей люди, никогда не нюхавшие пороху, а то и вовсе не носившие погон. Или, если и носившие погоны скромные, то потом, во времена торжества «демоняк» прикупившие себе воинские звания, позволяющие внешне выглядеть солидными специалистами в военном деле, не имея понятия не только о стратегии или оперативном искусстве, но даже о тактике действий.
Ведь каждому хотя бы мало-мальски знакомому с военным делом, ясно, что момент под Салтановкой был неординарный. Ведь, если бы не нашёл генерал Раевский вот этот свой последний резерв, который заставил Смоленский полк встрепенуться от удивления и восторга и преодолеть страх перед шквалом картечного огня, Даву нанёс бы сокрушительный контрудар со всеми вытекающими последствиями.
Конечно, мы можем говорить, что и тогда бы Россия не погибла. Даже если бы Даву смял корпус Раевского, даже если бы армия Багратиона была разбита на переправе и просвещённые европейцы утопили бы ради забавы всех раненых в Днепре. Ведь в Москве они просто сожгли 15 тысяч. Даже в этом случае бы Россия выстояла.
Ну что, ж, с одной стороны, это конечно так, но с другой, в подобных заявлениях сквозит попытка убедить, что не нужно напрягаться и надрываться. Зачем, к примеру, насмерть стояли защитники Брестской крепости, или для чего погибли под разъездом Дубосеково 28 панфиловцев. Кстати глубокомысленные исследователи, выполняя требования директивы Даллеса, в которой прямо написано о необходимости так поставить работу, чтобы в Росси не было в следующей войне ни Матросовых, ни Космодемьянских, опровергают подвиг панфиловцев и другие великие подвиги советских воинов. Ну и, конечно, уж очень им колет глаза великое прошлое России. Колет глаза и подвиг Раевского. Они бы посоветовали славному генералу не выводить детей. И так обойдётся, а не обойдётся, ну что ж, уцелевшие детки сгодятся в рабы Европе. Зачем защищать Отечество?
Вспомните отвратительный стих времён разгула питекантропов от революции. Некий негодяй пролеткультовец Джек Алтаузен с ненавистью написал:
«Я предлагаю Минина расплавить,
Пожарского. Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников славить,
Их за прилавками Октябрь застал,
Случайно им мы не свернули шею
Я знаю, это было бы под стать.
Подумаешь, они спасли Россию!
А может, лучше было не спасать?»
В таком же духе недавно было затеяна дискуссия на одном из Санкт-Петербургских телеканалов по поводу блокады Ленинграда. Мол, надо ли было защищать город? Причём, затеяли дискуссию как раз тем, кому особенно нужна была защита от бесноватого фюрера, а если бы город был сдан, то как раз именно их предки могли пополнить ряды тех, кто был расстрелян в Бабьем Яре под Киевом, только пополнить их под Ленинградом. Впрочем, с ленинградцами фашисты церемониться не собирались – задача у них была ликвидировать всех до единого, а город затопить.
Подумайте, какое это неуёмное стремление по выполнению требований человеконенавистнической и в общем-то мерзкой даллесовской доктрины и директивы «Цели США в отношении России».
Я не буду перечислять этих людей. Их имена вы легко найдёте в интернете, загаженном всякого рода пасквилями.
У всех, ныне поющих под заокеанскую дудочку, был кто-то, на кого можно сослаться, проводя свою политику дегероизации истории России.
Так вот ниспровергатели подвига Раевского ссылаются на его адъютанта Константина Батюшкова. Он писал о том, что сам Раевский опровергал свой подвиг. Ну и основывают свои рассуждения на том, что он, де, адъютант, а, значит, был рядом, всё видел и всё знает.
Но что мог видеть Батюшков под Салтановкой? Оказывается, ничего он не мог видеть, потому что в деле под Салтановкой не участвовал, да и вообще его участие в войне с Наполеоном в Священной памяти Двенадцатом году не наблюдается.
И почему-то никто не желает прислушаться к тому, что говорил сам Николай Николаевич Раевский.
После знаменитого боя Раевский в письме к родной сестре жены он рассказал об участии детей в атаке на плотине под Салтановкой. Мало того, существуют неопровержимые документы, свидетельствующие о том. Александр Раевский был награждён за подвиг в том бою, а Николай Раевский, тот самый Николенька, который при атаке у плотины просил отдать ему Знамя, был произведён в поручики. Позже, в мае 1814 года его перевели в Лейб-гвардии гусарский полк и назначили адъютантом к генерал-адъютанту И. В. Васильчикову.
Две горькие любви и душевная болезнь адъютанта Раевского
Ну а что же Батюшков? В 1812 году у него уже развилась болезнь, которая помешала попасть в армию. Лишь 29 марта он был зачислен в чине штаб-капитана в Рыльский пехотный полк адъютантом генерала Алексея Николаевича Бахметева. Не успел он прибыть к Бахметьеву, как у генерала в Бородинском сражении оторвало ядром правую ногу. За подвиг при Бородине Бахметев получил звание генерал-лейтенанта и золотую шпагу с алмазами и надписью «За храбрость». Батюшкову, так и остававшемуся не удел, удалось добиться назначения адъютантом к Николаю Николаевичу Раевскому. В действующую армию Батюшков выехал в конце июля 1813 года, то есть ровно через год после подвига под Салтановкой. Адъютантом служил до завершения Заграничного похода.
В 1815 году «тяжёлое нервное расстройство» сломило его, и он выбыл из строя на несколько месяцев. Всё усугубилось несчастной любовью и конфликтом с отцом, который свёл отца в могилу. Батюшков ударился в мистику, заявлял, что «гроб – его жилище на век».
Вокруг Николая Николаевича Раевского разгорались любовные приключения и драму, а он стоял, как скала, и семья его пополнялась всё новыми и новыми чадами любви.
А будущий его адъютант был в постоянном бесплодном поиске. Два месяца он лечился в Риге. Там его сразила первая любовь к Эмилии, дочери местного купца Мюгеля. Увы, продолжения роман не имел, от этой любви остались лишь два стихотворения Батюшкова – «Выздоровление»
(…)Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слёзы пламенем сверкающих очей,
И поцелуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
Меня из области печали –
От Орковых полей, от Леты берегов –
Для сладострастия призвали.
(…)
Мы видим строки, полные страсти и любви. А вот и несколько строк из довольно длинного стихотворения «Воспоминания 1807 года»
(…)Как утешителя, как ангела добра!
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосуд мне подала: «Пей здравье и любовь!»
Тогда, казалося, сама природа вновь
Со мною воскресала
И новой зеленью венчала
Долины, холмы и леса…
Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса....
Какое счастіе с весной воскреснуть ясной!
(В глазах любви ещё прелестнее весна).
(…)
Увы, исчезло всё, как прелесть сладка сна!
Куда девалися восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа её в объятиях моих,
Я не завидывал судьбе богов самих!.....
Теперь я, с нею разлучённый,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу.
Воспоминания, лишь вами окрылённый,
К ней мыслию лечу…
(…)
Разрыв отразился на здоровье поэта.
А в конце 1812 года, в Петербурге, куда поэт приехал, узнав, что адъютант генералу Бахметеву более не требуется по причине тяжёлого ранения. Он побывав в гостях у Алексея Николаевича Оленина, известного историка, археолога и художника, и влюбился девицу Анну Фёдоровну Фурман (1791–1850), которая воспитывалась в его семье.
Казалось бы, он встретил ответное чувство, отношения развивались и поэт сделал предложение, но потом вдруг отказался от брака.
Екатерина Фёдоровна Муравьёва, мать будущего декабриста, на глазах которой протекал роман, была крайне удивлена этим отказом, и Батюшков объяснил ей: «Не иметь отвращения и любить – большая разница. Кто любит, тот горд». Просто он узнал, что Анна Фурман согласилась стать его женой и
готова была идти замуж не по взаимному чувству, а потому что её хотели выдать за него Оленины, благоволившие к нему.
Да и жизненные неурядицы нахлынули – Батюшкову никак не удавалось перевестись в гвардию, в столицу. После возвращения из Заграничного похода, он не удержался адъютантов у Николая Николаевича Раевского и был назначен к вернувшемуся в строй генералу Бахметеву. Штаб же находился в захолустном Каменце-Подольском.
С 1807 года Батюшкова периодически мучили галлюцинации, видения, порой, бывали страшными. А тут ещё вдруг возникла ссора с отцом, сильно переживавшим за сына и за его здоровье. Всё кончилось тем, что отец умер.
Батюшков продолжал лечиться, даже ездил в Италию. Затем снова вернулся в службу, но болезнь, если и не мучила постоянно, то, поскольку носила наследственный характер, не отпускала. В 1821 году он отправился на воды в Германию. Уже там узнал, что П.А. Плетнёв поместил в журнале «Сын отечества» элегию под названием: «Б...ов из Рима». В нём он описал судьбу не названного поэта, утратившего в Италии связь с Отечеством, с родными и близкими и друзьями, что убило его творчество.
Напрасно – ветреный поэт –
Я вас покинул, други,
Забыв утехи юных лет
И милые досуги!
Напрасно из страны отцов
Летел мечтой крылатой
В отчизну пламенных певцов
Петрарки и Торквато!
Веселья и любви певец,
Я позабыл забавы;
Я снял свой миртовый венец
И дни влачу без славы.
(…)
А вы, о милые друзья,
Простите ли поэта?
Он видит чуждые поля
И бродит без привета.
Как петь ему в стране чужой?
Даже приведённые выше строки показывают, что Пётр Александрович Плетнёв, популярный в ту пору литератор и критик, не слишком жаловал Батюшкова.
А состояние поэта из-за переживаний резко ухудшилось. Он постоянно говорил, что его преследуют враги. Очередное сильное обострение болезни произошло весной 1822 года. Он отправился на Кавказ, на воды, затем в Симферополь, но нигде не было успокоения. В Крыму он сделал несколько попыток самоубийства. Словом, искал и не находил себе места, пока на деньги, пожалованные Императором Александром I, не был отправлен в 1824 году в частное психиатрическое заведение Зонненштайн в Саксонии, где провёл четыре года, но никакого толка от лечения не было.
Его привезли в Россию и поселили в Москве, где «острые припадки почти прекратились, и безумие его приняло тихое, спокойное течение».
Ещё в 1815 году Батюшков, чувствуя неотвратимой наступление болезни, он признался Василию Андреевичу Жуковскому: «С рождения я имел на душе чёрное пятно, которое росло с летами, и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли – не знаю!»
Считается, что именно посещение Батюшкова вдохновило, если так можно выразиться в данном случае, на стихотворение «Не дай Бог мне сойти с ума».
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в тёмный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грёз.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверька
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров –
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
В 1833 году Батюшкова поселили в Вологде в доме его племянника Г. А. Гревенса. Там он прожил, а точнее «просуществовал до своей смерти ещё 22 года, и умер от тифа 7 июля 1855 года».
Пушкин словно предрёк его тяжёлую участь в последние годы жизни.
Те, кто вслед за Батюшковым опровергают подвиг Раевского под Салтановкой, ссылаются на книгу поэта «Опыты в стихах и прозе», над которой он работал в 1817 году, в разгар постоянных сильных обострений душевной болезни. Эта книга была переиздана в серии «Литературные памятники», в 1989 году. Так вот там как раз Батюшков и сообщил, будто бы Николай Николаевич Раевский признался, что никакого подвига не было. Что всё это выдумки. Вот так взял и разоткровенничался с офицером, который не прошёл с ним ни трудных вёрст отступления от границы к Смоленску, через Салтановку, ни Бородинской битвы. С какой стати генерал всё это рассказал штабс-капитану?
Верные слуги Аллена Даллеса нашли этот бред сумасшедшего и дружно бросились в атаку на того, кто был «в Смоленске щит – в Париже меч России».
И тут же были отметены восторженные отзывы о подвиге многих достойных современников. Мол, они-то откуда могут знать, а тут адъютант! Он был рядом! Рядом он был, да только год спустя. К тому же он был глубоко больным человеком. Как же можно принимать во внимание и ставить даже выше мнения командующего армией Багратиона, странные рассказы душевнобольного человека.
Ведь болезнь Батюшкова появилась не вдруг. Она была наследственной.
Посмотрели бы, что говорится, хотя уж в интернете о родителях поэта.
«Его отец, Николай Львович Батюшков, – человек просвещённый, но неуравновешенный…»
Мать, Александра Григорьевна (урождённая Бердяева), заболела, когда сыну исполнилось 6 лет; вскоре, в 1795 году, она умерла…. Её душевная болезнь по наследству перешла к Батюшкову и его старшей сестре Александре».
А вот и о болезни Батюшкова:
«В 1808 году… уже начало проявляться материнское наследство: его впечатлительность стала доходить до галлюцинаций необыкновенной яркости, в одном из писем Гнедичу он писал: «если я проживу еще лет десять, то, наверное, сойду с ума».
И спустя девять лет Батюшков пишет книгу «Опыты в стихах и прозе», где опровергает подвиг Раевского.
Слышал я и такие предположения. Мол, Николай Николаевич Раевский впоследствии сам испугался того, что произошло под Салтановкой. Как прореагирует жена? Ведь одно дело взять сыновей на войну, другое – вывести их под картечь на неминуемую гибель. Вот уж поистине «храброго пуля боится».
Но тут не всё сходится. Ведь сестре жены он рассказал о бое под Салтановкой по свежим следам. Но ведь и с женой, Софьей Алексеевной, он переписывался очень часто.
Видимо, в 1812 году её при корпусе не было. Как помним, даже Маргарита Тучкова согласилась уехать в Москву в первые же дни нашествия Наполеона.
А у Раевских было кроме двух сыновей, четыре дочери. Пятая умерла в младенчестве. А дочери – мал-мала меньше: Екатерина (1797 – 1885), в будущем супруга декабриста М. Ф. Орлова, Елена (1803 – 1852) – фрейлина, Мария (1805 – 1863), в будущем супруга декабриста С. Г. Волконского, Софья (1806 – 1883) – фрейлина. Как видим, самой старшей было пятнадцать лет, а младшей – шесть лет.
Поздновато спустя год рассказывать адъютанту о том, что ни в какую атаку сыновей не водил, в надежде, что тот всё это опишет, дабы успокоить родных и близких.
Батюшков сообщил, между прочим, что младший Николенька в это время вообще собирал ягоды в лесу.
Ну, представьте себе картину, дорогие читатели. Идёт жестокий бой. Решается судьба отвлекающего манёвра, а, следовательно, судьба корпуса и армии.
Раевский прекрасно понимает, что если не удастся опрокинуть французов под Салтановкой, по простой и ясной логике сражения враг немедленно нанесёт контрудар, пока наступающие не успели закрепиться на захваченных рубежах.
И вот Раевский перед тем как возглавить атаку, говорит своему одиннадцатилетнему сыну Николеньке:
– Мы тут сейчас повоюем немного, а ты пока сходи в лес, ягодки пособирай.
Как вам такая сцена?
Допускаю, что кому-то она покажется вполне нормальной. У нас давно уже стало так – военное дело и медицину знают все доподлинно, лучше, чем специалисты. Все врачи и все стратеги. Вот только редко кто знает, что, к примеру, взвод или рота в контрнаступление не переходят и даже контрудар не наносят, а контратакуют, что крупными соединениями командуют не военно-начальники, а военачальники, что командующие начинаются не с батареи – недавно по телеку было – а с армии.
Недаром Карл фон Клаузевиц говорил:
«Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно».
Ну а что касается подвига Раевского под Салтановкой, то здесь применимы такие его слова:
«Часто представляется чрезвычайно отважным такой поступок, который в конечном счёте является единственным путём к спасению и, следовательно, поступком наиболее осмотрительным».
Так что если, исключив эмоции, рассмотреть решение генерала Раевского под Салтановкой, то получается, что это его необыкновенное по силе и мужеству решение, явилось «наиболее осмотрительным». Именно оно вдохновило солдат на дерзкую атаку, заставившую маршала Даву отказаться от немедленного контрудара, который мог стать гибельным не только для корпуса, но и для всей армии, находившейся на переправе и потому не готовой к бою.
Ну и завершая эти размышления, хочу напомнить, что против заявления поэта замечательного, но безнадёжно больного душевно человек можно поставить высказывания подлинных героев Священной памяти Двенадцатого года.
«Следуемый с двумя отроками-сынами, впереди колонн своих…»
Денис Васильевич Давыдов, в тот момент ещё адъютант Багратиона, писал о подвиге:
«Раевский… следуемый двумя отроками-сынами, впереди колонн своих ударил в штыки на Салтановской плотине сквозь смертоносный огонь неприятеля… После сего дела я своими глазами видел всю грудь и правую ногу Раевского… почерневшими от картечных контузий. Он о том не говорил никому, и знала о том одна малая часть из тех, кои пользовались его особою благосклонностию».
Сергей Николаевич Глинка посвятил Раевскому такие поэтические строки:
Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин…
Вещал: «Сынов не пожалеем,
Готов я вместе с ними лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!
Мы Россы! Умирать умеем».
Василий Андреевич Жуковский в своей оде «Певец во стане Русских воинов» был предельно точен в описании подвигов героев Двенадцатого года. Точен и здесь:
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами….
Измышления Батюшкова отыскали и цитируют. А ведь есть и письмо Николая Николаевича Раевского к Софье Алексеевне, датированное 15 июля 1812 года:
«Александр сделался известен всей армии, он далеко пойдёт... Николай. находившийся в самом сильном огне лишь шутил. Его штанишки прострелены пулей. Я отправляю его к вам. Этот мальчик не будет заурядностью».
Дело под Салтановкой было 11-12 июля. Значит, Раевский написал письмо жене по горячим следам.
Главнокомандующий 2-й Западной армией генерал от инфантерии князь П.И. Багратион отметил подвиг Смоленского полка в донесении:
«Полк сей, отвечая всегдашней его славе, шёл с неустрашимостью, единым россиянам свойственною, без выстрела, с примкнутыми штыками, несмотря на сильный неприятельский огонь, и, увидев под крутизною у плотины сильную колонну неприятельскую, с быстротой, молнии подобною, бросился на оную.
Цепь стрелков егерских, видя генерал-лейтенанта Раевского, идущего вперёд, единым движением совокуплялись с предводительствоемою им колонною и, усилив оную, способствовали мгновенно уничтожить неприятельскую, двухкратно получившую сильные сикурсы».
«Он был в Смоленске щит…»
…3 августа 1812 года над русским городом Смоленском нависла смертельная опасность. В результате наступательных действий армии Багратиона и Барклая-де-Толли удалились от города по расходящимся направлениям, и Наполеон, воспользовавшись этим, решил ворваться в город.
Ближе всех к Смоленску оказался в то время 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского. Раевский быстро вернулся в предместья и стал готовиться к переправе на левую сторону Днепра, чтобы преградить путь французам. И тут к нему подъехал Беннигсен, состоявший в то время советником при штабе Барклая-де-Толли.
Обрисовав обстановку в самых мрачных красках, Беннигсен стал убеждать Раевского воздержаться от решительных действий, не брать на противоположный берег артиллерии, чтобы не потерять её, да и не спешить с переправой войск.
Барон уверял, что Раевский идёт на верную гибель, что ему не устоять против натиска французов и город защищать совершенно бессмысленно.
Николай Николаевич Раевский писал впоследствии:
«Сей совет несообразен был с тогдашним моим действительно безнадёжным положением. Надобно было воспользоваться всеми средствами, находившимися в моей власти, и я слишком чувствовал, что дело идёт не о сохранении нескольких орудий, но о спасении главных сил России, а может быть, и самой России. Я вполне чувствовал, что долг мой – скорее погибнуть со всем моим отрядом, нежели позволить неприятелю отрезать армии наши от всяких сообщений с Москвой».
Николай Николаевич Раевский не послушал совета Беннигсена. Он поступил так, как велела ему совесть, как велел долг перед Отечеством. Он остановил врага и удерживал Смоленск до подхода к нему главных сил.
А что было бы, если бы Беннигсен не советовал, а имел право приказать? На этот вопрос ответил сам Наполеон. Находясь в ссылке на острове св. Елены и размышляя над событиями той войны, он писал о Смоленской эпопее:
«Пятнадцатитысячному русскому отряду, случайно находившемуся в Смоленске, выпала честь защищать этот город в продолжении суток, что дало Барклаю-де-Толли время прибыть на следующий день. Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то она переправилась бы там через Днепр и атаковала бы в тыл Русскую Армию, в то время разделённую и шедшую в беспорядке. Сего решительного удара совершить не удалось…»
Не дал его совершить генерал Раевский, о котором Багратион сказал тогда:
«Я обязан многим генералу Раевскому. Он, командуя корпусом, дрался храбро».
А Денис Давыдов, в то время командовавший эскадроном Ахтырского гусарского полка, выразился более определённо:
«…Гибель Раевского причинила бы взятие Смоленска и немедленно после сего истребление наших армий, – и добавил далее, что без этого великого дня не могло быть «ни Бородинского сражения, ни Тарутинской позиции, ни спасения России».
Всё это отчётливо понимал Николай Николаевич Раевский и потому шёл навстречу численно превосходящему врагу, чтобы отстоять город, спасти армию и спасти Россию. И потому о Николае Николаевиче Раевском говорили, что он был в Смоленске щит – в Париже меч России.
Наполеон же заметил, что этот генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы.
Кому мешает Русская слава?
Итак, мы видели, что в письме к своей жене Николай Николаевич Раевский не побоялся сказать правду о той жестокой и кровопролитной атаке, в которую он повёл полк вместе со своими сыновьями.
Но вот что удивительно. Прицепившись к недоказанному фактику, многие шелкопёры бросились опровергать подвиг, который живёт уже в веках и является вдохновляющим примером не только для тех, кто уже надел погоны, но и для детей, для школьников, о чём скажу ниже.
А ведь эти нападки звенья одной цепи по исполнению вожделенной заокеанской воли. В начале девяностых море клеветы вылили на подвиги знаменитые – подвиги Александра Матросова и Зои Космодемьянской. А сколько подвигов, не менее знаменитых, вообще не допущено до читателей. Взять хотя бы подвиг Можайского десанта, который вошёл даже в учебник Бундесвера, как способ десантирования с самолёта на предельно малой скорости и предельно малой высоте без парашюта, правда, при наличии снежного покрова. А у нас соратники ниспровергателей подвига Раевского говорят – не было.
Ну а подвиг 28 героев панфиловцев. Сколько навыдумали, чтобы ниспровергнуть.
Но ничего не вышло у заокеанских человекообразных особей. Герои шестой роты псковских десантников дали ответ и Аллену Даллесу и его прихлебателям.
По этому поводу я написал…
Их было двадцать восемь под самою Москвой,
А в сорок первом осень была суровой, злой.
Под гусеницы пала пожухлая трава,
Со скрежетом металла война к Москве рвалась.
И небо под крестами, и горизонт в крестах,
И крупповскою сталью прикрыт был лютый враг.
Их было двадцать восемь, а танков пятьдесят.
А если тебя спросят: «А ты сумеешь так?»
Они остановили тевтонскою свинью.
На их святой могиле взгляни на жизнь свою,
Спроси себя построже: "Когда часы пробьют,
За Родину ты сможешь жизнь положить в бою?"
Ведь в ту лихую осень лицом к лицу с врагом
Сгорели двадцать восемь сердец в огне святом,
И враг не в силах пламя то погасить вовек,
Оно для нас как Знамя, как Русской Славы свет.
И не смывают годы Панфиловский запал.
В сердцах десантной роты огонь тот запылал,
Когда с несметной силой, с поганою ордой
В жестокий бой вступили так, словно под Москвой,
Сыны Святой России в беретах голубых,
Те витязи Святые – ровесники твои.
Встречая смерть словами: «За Русь, за ВДВ!»
За всю Россию дали Панфиловцам ответ!
Ну а теперь хочется привести слова нашего замечательного историка Иван Егорович Забелин, русского археолога и историка, автор многих замечательных книг:
«Всем известно, что древние, в особенности греки и римляне, умели воспитывать героев…
Это умение заключалось лишь в том, что они умели изображать в своей истории лучших передовых своих деятелей, не только в исторической, но и поэтической правде. Они умели ценить заслуги героев, умели отличать золотую правду и истину этих заслуг от житейской лжи и грязи, в которой каждый человек необходимо проживает и всегда больше или меньше ею марается. Они умели отличать в этих заслугах не только реальную, и, так сказать, полезную их сущность, но и сущность идеальную. То есть историческую идею исполненного дела и подвига, что необходимо, и возвышало характер героя до степени идеала.
Наше русское возделывание истории находится от древних совсем на другом, на противоположном конце. Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю и о каких-либо характерах и идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие были у нас идеалы, а тем более герои! Вся наша история есть тёмное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает большинство образованных Русских людей. Ясное дело, что такая история воспитывать героев не может, что на юношеские идеалы она должна действовать угнетательно. Самое лучшее как юноша может поступить с такою историею, – это совсем не знать, существует ли она. Большинство так и поступает. Но не за это ли самое большинство русской образованности несёт, может быть, очень справедливый укор, что оно не имеет почвы под собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону.
Действительно, твёрдою опорою и непоколебимою почвою для национального сознания и самопознания всегда служит национальная история… Не обижена Богом в этом отношении и русская история. Есть или должны находиться и в ней общечеловеческие идеи и идеалы, светлые и высоконравственные герои и строители жизни, нам только надо хорошо помнить правдивое замечание античных писателей, что та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит вовсе не от их славных или бесславных дел, вовсе не от существа исторических подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения и даже намерения писателей изображать в славе или унижать народные дела, как и деяния исторических личностей».
В 1986 году, в канун 175-летнего юбилея мой сын Дмитрий пошёл во второй класс. Мне довелось уже помогать классу в подготовке к школьному параду, посвящённому 23 февраля. А тут задумал попробовать подготовить постановку на сцене, посвящённую годовщины Отечественной войны 1812 года.
Учительница Нина Семёновна, директор, завуч, военрук – все поддержали.
Пришлось и родителям потрудиться на славу, потому что форму одежды мы, как умели, готовили сами. Но когда на родительском собрании поинтересовался, не проклинают ли меня за такие вводные, которые решить не так просто, все в один голос заявили, что целиком и полностью готовы поддержать подобные начинания.
И вот второклассники стали разучивать роли, которые мы вместе и набросали, используя историю Отечественной войны. И выбран был для постановки именно подвиг под Салтановкой. Ну и, конечно, совет в Филях. Бородинское сражение, конечно, на сцене актового зала школы никак не покажешь.
А начали мы с миссии генерала Балашова в ставке Наполеона. Выбрали девочку совсем маленького расточка, привязали к ней всякую всячину, чтобы напоминала пузатого коротышку Наполеона и поставили на небольшую подставочку, закамуфлированную под барабан. Ну а роль генерала Балашова исполнял самый крупный ученик класса – высокий, плотно сбитый. Министр внутренних дела России Балашов был ведь на самом деле высоким и статным генералом.
И какова сцена получилась. «Балашов» басом говорит о мире, а «Наполеон» задаёт вопрос, какой дорогой короче дойти до Москвы? Ну и получает знаковый ответ Балашова:
– В Москву, как и в Рим, ведут разные пути. Карл двенадцатый шёл через Полтаву.
Раевского играл мой сын, и я два дня потратил, чтобы сделать ему из картона кивер с султаном, ну и конечно эполеты.
Всё отрепетировали неплохо. Детьми Раевского назначили самых миниатюрных девочек. Все были с игрушечными шпагами, и сын с удовольствием восклицал: ««Вперед, ребята! Я и дети мои укажем вам путь!»
Потом сын, рассказывая о делах класса, называл всех по ролям: «Наполеон пятёрку получил», «Балашов заболел» и так далее.
Казалось бы игрушки. Но какое они оказали влияние на совсем ещё маленьких школьников. Они хорошо запомнили эту небольшую часть военной истории. Я и потом, вплоть до поступления сына в Тверское суворовское военное училища, частенько проводил беседы по истории.
Но потом «комуняк», как презрительно именовали членов КПСС ельциноиды, сменили «демоняки» – думаю справедливое противопоставление – и в классах стали звать друг друга не Раевскими, Балашовыми или Багратионами, а Крузами, Иуиденами, Клерками и прочим иноземным барахлом.