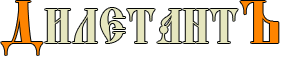чехов
Роман ее жизни
Главы из повести
«Приходи сейчас же.., у нас Чехов»
В восьмидесятые годы минувшего двадцатого века, когда наши издатели всё чаще стали обращаться к забытым дореволюционным писателям, вышла в свет книга неизвестной широкому кругу читателей Лидии Алексеевны Авиловой. Это сборник, главным произведением в котором были воспоминания «Чехов в моей жизни». Названо смело! Да и начало захватывающее – указывающее вместе с заглавием, что читателей, несомненно, ждёт увлекательное путешествие в страну Любви! Девиз произведения: «Роман, о котором никогда никто не знал, хотя он длился целых десять лет». Первоначально Лилия Алексеевна назвала свои воспоминания: «Роман моей жизни». Иван Алексеевич Бунин в книге «Чехов…» так писал о Лидии Алексеевне Авиловой – поистине необыкновенной женщине: «Авилова (в девичестве Страхова, родная сестра толстовца), была как раз одна из тех, что так любил Чехов, употреблявший для них слово мне всегда неприятное: «Роскошная женщина». Таких обычно называют: «русскими красавицами», «кровь с молоком» (выражение для меня несносное, ибо что может быть хуже этой смеси – «кровь и молоко»?) И когда говорят так: «русская красавица» – чаще всего относят таких женщин к купеческой красоте. Но у Авиловой не было ничего купеческого: был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса, но всё прочее никак не купеческое, а породистое, барское. Я знал её ещё в молодости (хотя уже и тогда было у неё трое детей) и всегда восхищался ею (при всей моей склонности к другому типу: смуглому, худому, азиатскому). Я любил с ней разговаривать, как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения её были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всём этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела...» Но как же вспыхнула любовь к Чехову? Как ответил Чехов на любовь Авиловой? Предоставим слово самой Лидии Алексеевне: «24 января 1889 года я получила записочку от сестры: «Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Сестра была замужем за редактором-издателем очень распространённой газеты… У неё бывали многие знаменитости: артисты, художники, певцы, поэты, писатели. Да и её прошлое, её замужество по любви с «увозом» прямо с танцевального вечера, в то время как отец, ненавидевший её избранника, особенно зорко наблюдал за ней, всё это окружало её в моих глазах волшебным ореолом. А что представляла из себя я! Девушку с Плющихи, вышедшую замуж за только что окончившего студента, занимавшего теперь должность младшего делопроизводителя департамента народного просвещения. Что было в моём прошлом? Одни несбывшиеся мечты. Я была невестой человека, которого, мне казалось, я горячо любила. Но я в нём разочаровалась и взяла своё слово обратно. И из всего этого, очень тяжёлого для меня, переживания я вынесла твёрдое решение: не поддаваться более дурману влюблённости, а выбрать мужа трезво, разумно, как выбирают вещь, которую придётся долго носить. И я выбрала и гордилась своим выбором…» Итак, мы видим интерес Лидии Авиловой к Чехову. Недаром сестра вызывала её срочно. Видим и то, что вызов не случаен – брак-то явно не по любви. А сердце требует любви, и, порой, поражённое высоким чувством заставляет лететь в волшебную страну любви бессознательно, повинуясь неведомой силе. Ну что ж здесь такого – увидеть и услышать популярного писателя и интересного человека? Тем более Лидия Авилова рассказала о себе следующее: «Была мечта – сделаться писательницей. Я писала и стихами и прозой с самого детства. Я ничего в жизни так не любила, как писать. Художественное слово было для меня силой, волшебством, и я много читала, а среди моих любимых авторов далеко не последнее место занимал Чехонте. Он печатался, между прочим, и в газете, издаваемой моим зятем, и каждый его рассказ возбуждал мой восторг…» Итак, Лидия Авилова, ещё не отдавая себе отчёта для чего и что из этого выйдет, стремится ворваться в жизнь Чехова, словно подталкиваемая какой-то неведомой, волшебной силой. Ей – 27 лет, она замужем, её сыну 9 месяцев от роду. А Чехову 32 года. Разница 5 лет – небольшая и, говорят, неплохая разница. Она уже может именоваться детской писательницей, она много пишет и печатается, хотя печатается, быть может, не так много, как пишет. Лидия Алексеевна – коренная москвичка, хотя и родилась (3 июня 1864 года) не в Москве, а в имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, в небогатой дворянской семье. В раннем детстве её перевезли в Москву. Она выросла на знаменитой Плющихе. В 1882 году окончила гимназию. А в 1887 году вышла замуж за студенческого друга старшего её брата донского казака Михаила Федоровича Авилова. Он был студенческим другом ее старшего брата. Вышла без любви, о чём и поведала в своих мемуарах. И вот настал день, который перевернул всю её жизнь – день 24 января 1889 года… Не часто есть возможность с почти документальной точностью узнать о самых первых шагах в романе того или иного человека. Но Лидия Алексеевна – признанная мемуаристка. Так именуют её в аннотациях, так говорится о ней в интернете. Писательница и мемуаристка. Сейчас главное – второе. Именно это даёт возможность увидеть живого Чехова глазами любящей его женщины… Может быть, спешу с определением – любящая – но кто знает, когда зародилось это чувство, не сразу открытое в себе Лидией Авиловой. Предоставим слово самой Лидии Алексеевне: «– А, девица Флора, – громко сказал Сергей Николаевич, мой зять. – Позвольте, Антон Павлович, представить вам девицу Флору. Моя воспитанница. Чехов быстро сделал ко мне несколько шагов и с ласковой улыбкой удержал мою руку в своей. Мы глядели друг на друга, и мне казалось, что он был чем-то удивлён. Вероятно, именем Флоры. Меня Сергей Николаевич так называл за яркий цвет лица, за обилие волос, которые я ещё заплетала иногда в две длинные, толстые косы. – Знает наизусть ваши рассказы, – продолжал Сергей Николаевич, – и, наверное, писала вам письма, но скрывает, не признаётся. Я заметила, что глаза у Чехова с внешней стороны точно с прищипочкой, а крахмальный воротник хомутом и галстук некрасивый. Когда я села, он опять стал ходить и продолжать свой рассказ. Я поняла, что он приехал ставить свою пьесу «Иванов», но что он очень недоволен артистами, не узнает своих героев и предчувствует, что пьеса провалится… Вошла сестра Надя и позвала всех к ужину. Сергей Николаевич поднялся, и вслед за ним встали и все гости. Перешли в столовую. Там были накрыты два стола: один, длинный, для ужина, а другой был уставлен бутылками и закусками. Я встала в сторонке у стены. Антон Павлович с тарелочкой в руке подошёл ко мне и взял одну из моих кос. – Я таких ещё никогда не видел, – сказал он. А я подумала, что он обращается со мною так фамильярно только потому, что я какая-то девица Флора, воспитанница. Вот если бы он знал Мишу и знал бы, что у меня почти годовалый сын, тогда... За столом мы сели рядом. – Она тоже пописывает, – снисходительно сообщил Чехову Сергей Николаевич. – И есть что-то... Искорка... И мысль... Хоть с куриный нос, а мысль в каждом рассказе. Чехов повернулся ко мне и улыбнулся. – Не надо мысли! – сказал он. – Умоляю вас, не надо. Зачем? Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь, правдиво, искренно. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю никогда. Я ничего не хочу сказать. Моё дело писать, а не учить! И я могу писать про всё, что вам угодно, – прибавил он с улыбкой. – Скажите мне написать про эту бутылку, и будет рассказ под таким заглавием: «Бутылка». Не надо мыслей. Живые, правдивые образы создают мысль, а мысль не создаст образа. И, выслушав какое-то льстивое возражение от одного из гостей, он слегка нахмурился и откинулся на спинку стула. – Да, – сказал он, – писатель это не птица, которая щебечет. Но кто же вам говорит, что я хочу, чтобы он щебетал? Если я живу, думаю, борюсь, страдаю, то всё это отражается на том, что я пишу. Зачем мне слова: идея, идеал? Если я талантливый писатель, я всё-таки не учитель, не проповедник, не пропагандист. Я правдиво, то есть художественно, опишу вам жизнь, и вы увидите в ней то, чего раньше не видали, не замечали: её отклонение от нормы, её противоречия... И вот уже первое впечатление, первый вывод, можно сказать, внутренний, только ещё складывающийся, но восторденный: «Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да, в сущности, ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много! У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивлённые и обрадованные. – Я опять сюда приду, – сказал Антон Павлович. – Мы встретимся? Дайте мне всё, что вы написали или напечатали. Я всё прочту очень внимательно. Согласны?» Так состоялось знакомство, так зарождался роман… «Любовь – вовсе не огонь, любовь – воздух» О том, что роман у Авиловой с Чеховым действительно зарождался, свидетельствует сама Авилова в своём уникальном повествовании «Чехов в моей жизни». Это и реакция на ворчание мужа по поводу её знакомства с Чеховым: «И я чувствовала, как я потухала. Чувствовала, как безотчётная радость, так празднично осветившая весь мир, смиренно складывала крылья, свёртывала свой ослепительный павлиний хвост, жалобно вытягивала шею. Кончено! Всё по-прежнему». Это и размышления о семейном счастье: «Что такое семейное счастье? Это редкое, очень прихотливое растение, за которым нужен постоянный, очень заботливый уход». Это и воспоминания о встрече с Чеховым: «Прошло уже три года с моего первого свидания с Чеховым. Я часто вспоминала о нём и всегда с лёгкой мечтательной грустью». Так получилось, что после знакомства Чехов и Авилова не виделись три года… Но она помнила его, помнила то необыкновенное впечатление, которое осталось от встречи. А помнил ли он? Наверное, о том лучше всего говорит встреча после долгих трёх лет, встреча, так проникновенно описанная Лидией Авиловой. Она произошла в 1892 году на праздновании 25-летнего юбилея газеты зятя Авиловой Сергея Николаевича. Было всё торжественно – молебен, обед, на который приглашены важные гости. Лидия Алексеевна так рассказала об этом в своих воспоминаниях: «Мы столкнулись в толпе случайно и сейчас же радостно протянули друг другу руки. – Я не ожидала вас видеть, – сказала я. – А я ожидал, – ответил он. – И знаете что? Мы опять сядем рядом, как тогда. Согласны? Мы вместе прошли в гостиную. – Давайте выберем место? – Бесполезно, – ответила я. – Вас посадят по чину, к сонму светил; одним словом, поближе к юбиляру. – А как было бы хорошо здесь – в уголке, у окна. Вы не находите? – Хорошо, но не позволят. Привлекут. – А я упрусь! – смеясь, сказал Чехов. – Не поддамся. Мы сели, смеясь, и подбадривая друг друга к борьбе…» Они отвоевали возможность быть вдвоём, и ведь они были вдвоём, наедине, несмотря на множество людей, сидевших за столом. Они никого не замечали, а говорили, говорили, говорили, сначала о чём-то не очень значащем, а затем… Чехов неожиданно спросил: «– А не кажется вам.., что когда мы встретились с вами три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки? – Да... – нерешительно ответила я. – Конечно, да. Я знаю. Такое чувство может быть только взаимное. Но я испытал его в первый раз и не мог забыть. Чувство давней близости. И мне странно, что я всё-таки мало знаю о вас, а вы – обо мне. – Почему странно? Разлука была долгая. Ведь это было не в настоящей, а в какой-то давно забытой жизни? – А что мы были тогда друг другу? – спросил Чехов. – Только не муж и жена, – быстро ответила я. Мы оба рассмеялись. – Но мы любили друг друга. Как вы думаете? Мы были молоды... И мы погибли... при кораблекрушении? – фантазировал Чехов. – Ах, мне даже что-то вспоминается, – смеясь, сказала я. – …Встретились же мы теперь как друзья…» Лидия Алексеевна призналась, что думала о Чехове и раньше, ещё до замужества, потому что восхищалась его рассказами, потому что слышала много хорошего… Правда, призналась осторожно: «– А как я вас ждала, – вдруг вспомнила я. – Как я вас ждала! Ещё когда жила в Москве, на Плющихе. Когда ещё не была замужем. – Почему ждали? – удивился Антон Павлович. – А потому, что мне ужасно хотелось познакомиться с вами, а товарищ моего брата, Попов, сказал мне, что часто видит вас, что вы славный малый и не откажетесь по его просьбе прийти к нам. Но вы не пришли. – Скажите этому вашему Попову, которого я совершенно не знаю, что он мой злейший враг, – серьёзно сказал Чехов». Вот и ответ на вопрос, думал ли Чехов о Лидии Авиловой, вспоминал ли ту встречу. Эта милая беседа была беседой людей, которым хорошо вдвоём, это беседа поистине влюблённых, которые даже в сонмище людском остаются наедине друг с другом и не видят никого, потому что им никто не нужен, когда они рядом. Философ и писатель Василий Васильевич Розанов писал: «Любить – значит, «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя», «везде скучно, где не ты». Это внешнее описание, но самое точное. Любовь – вовсе не огонь (часто определяют), любовь – воздух. Без неё нет дыхания, а при ней дышится легко. Вот и всё…» Говорят, у Чехова было тридцать или около тридцати романов… Иные порицают, иные недоумевают, ведь образы великих писателей долгое время принято было лакировать. Для чего? Они же люди… Гении, но люди! И если бы они не оставались людьми, они бы не могли писать для людей, и широкие массы читателей не понимали бы их, как теперь не понимают нынешних самопровозглашённых гениев, потому что многие из них вовсе не люди, а нелюди. Я имею в виду тех, кто проживая – они бы сами сказали «существуя» – в России, пользуясь благами России, пользуясь её невероятными богатствами не только материальными, которые им-то доступны в силу их продажности, но и духовными, которые помогают и таковым как они, так вот эти нелюди, прикидываясь людьми, ухитряются гадить на Россию, и рубят, с настойчивостью либерастов сук, на котором сидят. Разве можно называть преступным влечение мужчины к женщине? Это влечение от природы, и прежде чем судить о нём, важно понять существо каждого конкретного случая такого влечения. Ведь высокое чувство мужчины к женщине или женщины к мужчине позволяет постичь чувство Любви, позволяет осознать, что такое Любовь. Не познав же, что есть Любовь, не испытав этого чувства на духовном уровне, разве может человек понять и осознать Любовь в высшем её проявлении, разве сможет осознать, что есть не только сама по себе Любовь, а что есть Любовь к Богу! Кто нас учит любви? Прежде всего, конечно, родители своей любовью к нам. И мы отвечаем им любовью. Но эта любовь несколько иная – это со стороны родителей восхищение своим чадом, которое как бы является твоим повторением на грешной Земле, которое плоть от плоти твоей. А у детей – это чувство основано на не всегда осознанной благодарности к тем людям, которые души в них не чают. Это что-то другое. Это привязанность, это и благодарность, это, наконец, и долг перед самыми близкими людьми, которые не жалели ничего для своих чад. Но с самых ранних лет мальчишки с интересом, растущим с годами, поглядывает на девчонок, а девчонки – на мальчишек. Пока этот интерес не осознан, не понят. Пока ещё главными в жизни являются родители. Но тут всё иначе… Почему-то замирает или начинает отчаянно биться сердце при взгляде на девочек, почему-то всё существо наполняется какими-то неведомыми прежде, непонятными ощущениями. А время идёт, и круг интересов сужается… Постепенно не просто особы противоположенного полка, а лишь какие-то конкретные из их числа становятся предметом особого внимания. Причём, даже тогда, когда ещё не вспыхнуло ярким пламенем неведомое чувство, круг интереса к противоположному полу, тем уже, чем выше интеллект того, кто интерес этот проявляет. И вот уже этот круг сужается до одного, только одного человека. И ко всем остальным остаётся лишь очень ровное, спокойное отношение. В детстве нам кажется, что мы влюбляемся. Да, нравится то одна девочка, то другая. Это выражается в стремлении видеть её, в стремлении делать что-то приятное, в стремлении обратить на себя внимание. Неужели и тогда уже всё это следует называть страшным грехом, ведь, по некоторым канонам, только посмотрев на женщину, ты уже согрешил! Но ведь в младые годы влюблённые смотрят без тех осуждаемых желаний, просто смотрят, потому что хочется смотреть, разговаривают, потому что хочется разговаривать. Грех ли это? Смешно считать грехом. Тогда уж во избежание греха нужно разделить мальчиков и девочек, юношей и девушек и расселить на разных планетах или, по крайней мере, в местах, трудно доступных для общения. Но как же быть с продолжением жизни на земле? Вероятно, для этого надо устраивать периодические встречи с определённой целью… Для оплодотворения женской части населения. Но нет. Этого не требуется. Напротив, в Книге Бытия говорится: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.2.24). Но, позвольте, как узнать, к кому же нужно прилепиться, если взгляд на женщину, уже грех? Каким образом происходит, что любовь к родителям уступает место другой любви, любви особого рода – любви к женщине? Сколько примеров даёт нам литература – и художественная, и документально историческая! Сколько насильственных соединений юношей и девушек в одну плоть знает история! Причём, в основе этих соединений лежали далеко не духовные мотивы, а мотивы иного характера. Для простых людей – это были материальные соображения, ну а скажем для княжеских, царских и императорских династий – соображения государственного свойства. Бывало, что таковые соединения и возводили «прилепившихся» друг к другу к высотам любви, но бывало – приносили лишь личное горе. Мы знаем немало великолепных, достойных подражания Великокняжеских, Царских, Императорских семей – словно бы Сам Создатель благословлял и направлял эти соединения. Но вот с простыми людьми дело было печальнее. О каких несчастьях свидетельствует история! Впрочем, и при свободном выборе немало случалось ошибок, потому что старшие поколения, зачастую разуверившиеся в существовании необыкновенного, всепобеждающего чувства любви, равнодушными оставались к тому, как вершат свой выбор их чада. И снова наперёд выходили иногда соображения меркантильного характера. В Советский период многие девушки мечтали выйти замуж за офицера, а потому обивали пороги военно-учебных заведений. Что ж… Хорошая по тем временам обеспеченность, возможность пожить за границей, положение в обществе, для студенток-выпускниц – свободный диплом и многое другое. Льгот было немало. В период человеконенавистнической демократии приоритеты, естественно, поменялись. Уже в первые годы победы ельцинизма, на знамёнах которого лозунг социализма «человек человеку друг, товарищ и брат» был заменён лозунгом «человек человеку волк», девушки стали искать перспективных предпринимателей, мечтать об олигархах. И кому-то везло, но везло, порою, в кавычках. В Советский период в неудаче выбора того, к кому предстояло «прилепиться», большей частью были уже непоправимы, поскольку на страже сохранения пусть даже самых неудачных семей стояли партийные органы. В период демократии неудачницы просто выбрасывались на улицу, если, конечно, не предпринимали своевременно особых мер, дабы удержать, если и не самого «избранника» материалистических соображений, то хотя бы материальные блага. Так где же была Любовь? Где она жила и живёт поныне? А не в сердцах ли она тех, кто, невзирая на условности, созданные обществом, отдаётся этому всепоглощающему чувству? Василий Розанов писал: «Сущность чистого брака есть совершенная любовь; брак свят, религия – когда он в истине и в любви; а без любви, при обмане – разврат... Вот почему глубочайшее есть кощунство настаивать на продолжении брака, когда в нём умерла любовь и правда. Это значит настаивать, заставлять, принуждать к разврату (нечистые соединения, ругательства перед Образом). Одно соединение с отравленной совестью заражает непоправимым грехом тело и душу человека… Требование развода есть следствие страха Божия в семье». Неожиданный вывод. Но, попробуй, опровергни его. Да, есть вопросы, которых касаться необходимо с особой осторожностью. Розанов прямо говорит, что брак без любви – разврат. Но разве мало таких браков? Быть может, даже правомернее поставить вопрос: а много ли браков, освещённых Любовью? Они, конечно, встречаются, но… сразу и не назовёшь! Почему Лидия Авилова воскликнула, что в далёкой прошлой жизни они были – «только не мужем и женой»? И её брак оказался не соединением двух любящих существ, а именно браком в деле этого единения. Недаром часто можно слышать: «Любовь? Какая может быть любовь в семье? Где вы видели такие семьи?» А всё-таки, несмотря на попытку развода с мужем, Авилова держалась за свою семью, считая, что не хватит сил и возможностей что-то переменить в жизни. Да, Розанов тысячу раз прав, говоря, что брак без любви – разврат. Но как выйти из столь затруднительного положения подавляющему большинству тех, кто живёт в этом разврате? Как могла выйти из этого положения Лидия Алексеевна Авилова? Причины понятны, почему не могла. Они объективны. Ну, конечно, на первом плане дети… Как можно детей оставить без отца! С другой стороны, бывает, что и отец – не отец, что без него, такого, лучше. Но следующая проблема решаема ещё более сложно: как Воспримет общество? Мы помним, каково было Денисьевой, незамужней женой Фёдора Иванович Тютчева. Одним словом, не так уж и просто людям избавиться от греха. Гораздо проще искать тот свет, который погас в семье, где-то в другом месте. Конечно, трудно назвать такие шаги безгрешными, но более ли они грешны, нежели жизнь во грехе? Русский философ и религиозный мыслитель. С.Л. Франк писал: «В заповеди универсальной любви, понимаемой как моральное предписание, как приказ: «Ты должен любить», содержится логическое противоречие. Предписать можно только поведение или какое-нибудь обуздание воли, но невозможно предписать внутренний порыв души или чувство; свобода образует здесь само существо душевного акта». Иными словами, С. Франк хотел сказать, что «завет любви к людям не есть моральное предписание; он есть попытка помочь душе открыться, расшириться, внутренне расцвести, просветлеть». Можно ли заставить полюбить? Конечно, нет. Можно разными формами воздействия заставить жить с нелюбимым человеком, принудить к тому экономическими мерами, но полюбить заставить нельзя. И более чем нелепо звучит упрёк одного из супругов к другому: «Ты меня не любишь!». Как можно упрекать в том, что ушла любовь? Ведь это чувство неподвластно никаким волевым решениям. Это что-то такое, что даётся свыше, что приходит к человеку само, порой, без его на то желания. И охватывает целиком всё его существо. Принцип «стерпится слюбится» никогда не приводил ни к чему высокому, светлому. Любовь – это хрупкий, хрустальный сосуд. Если его случайно уронить, он разобьётся в мелкие кусочки. Разве же можно склеить их так, чтобы сосуд засиял прежним блеском? Это невозможно. Даже если и удастся склеить, то это уже будет предмет с изъянами, видными невооружённым глазом. Когда в семье пропадают любовь и уважение, практически невозможно их восстановить, хотя и бывает, что удаётся продлить сосуществование, но именно существование, а не гармонию отношений. «Любовь всегда нелегальна...» Но что же Чехов и Авилова? Муж негодовал по поводу её поведения, считал, что она слишком откровенно разговаривала с Чеховым, и даже рассказал то ли быль, то ли небылицу относительно Чехова. Скорее всего, пересказал сплетню «народных мстителей», которых хватало везде и во все времена. Вспомним, как подленький чинуша из иноземцев выследил Тютчева и Денисьеву. Ну а тут нашёлся другой, который, якобы, слышал похвальбу Чехова. Авилова написала по этому поводу: «Какой-то услужливый приятель рассказал Мише, что в вечер юбилея Антон Павлович кутил со своей компанией в ресторане, был пьян и говорил, что решил, во что бы то ни стало увезти меня, добиться развода, жениться. Его будто бы очень одобряли, обещали ему всякую помощь и чуть ли не качали от восторга. Миша был вне себя от возмущения. Он наговорил мне столько обидного и грубого, что в другой раз я бы этого не стерпела. Но в настоящем случае казалось мне, что он прав. О, какое это было крушение! Почти невероятно, что из-за Чехова я попала в грязную историю. Но как же не верить? В сущности, я так мало знала Антона Павловича. Я считала его близким, симпатичным, благородным. Вся душа моя тянулась к нему, а он, пьяный, выставил меня на позор и на посмешище. – Ты кинулась ему на шею, психопатка! – кричал Миша, – завязала любовную интрижку под предлогом любви к литературе. Ты носишь моё имя, а это имя ещё никогда по кабакам не трепали. Он хочет увезти тебя, а знаешь ли ты, сколько у него любовниц? Пьяница! Бабник! Я была ошеломлена, убита. Но когда я немного успокоилась и была в состоянии думать, я сказала себе: а всё-таки этого не может быть. Это чья-то злобная выдумка, чтобы очернить в моих глазах Чехова и восстановить против него Мишу. Кому это могло быть нужно? Я решила, что Миша мог слышать эту сплетню только от двух лиц. Одно было вне всяких подозрений, другое... И сейчас же мне вспомнилось, что это другое лицо сидело за юбилейным столом наискось от нас и, по-видимому, очень скучало. Он был писатель и печатал толстые романы, но никаких почестей ему не оказывали и даже на верхний конец стола не посадили. К Чехову он обращался с чрезвычайным подобострастием и выражал ему свои восторги, но не было никакого сомнения, что он завидует ему до ненависти, в чём я впоследствии убедилась». Нельзя не согласиться с Николаем Александровичем Бердяевым, который в книге «О назначении человека» писал: «Когда мне рассказывали о романах знакомых мне людей, я всегда защищал право их на любовь, никогда не осуждал их, но часто испытывал инстинктивное отталкивание и предпочитал ничего не знать об этом…Меня всегда возмущало, когда общество вмешивалось в эротическую жизнь личности. Социальные ограничения прав любви вызывали во мне бурный протест, и в разговорах на эту тему мне случалось приходить в бешенство. Любовь есть интимно-личная сфера жизни, в которую общество не смеет вмешиваться. Когда речь идёт о любви между двумя, то всякий третий – лишний… Когда мне рассказывали о любви, носящей нелегальный характер, то я всегда говорил, что это никого не касается, ни меня, ни того, кто рассказывает, особенно его не касается. Любовь всегда нелегальна... Мир не должен был бы знать, что два существа любят друг друга…» Вот и подумаем над отношениями: «Чехов – Авилова»… Преступна ли любовь Чехова к Авиловой и любовь Авиловой к Чехову? Вот что писал Николай Александрович Бердяев о романе «Анна Каренина»: «Я всегда считал преступным не любовь Анны и Вронского, а брачные отношения Анны и Каренина… Настоящий вопрос не в вправе на развод, который, конечно, должен быть признан, а в обязанности развода при прекращении любви. Продолжение брака, когда любви нет, безнравственно, только любовь всё оправдывает, любовь-эрос и любовь-жалость». Конечно, Анну выдали замуж за Каренина вовсе не по её воле, а Авилова вышла замуж по собственной инициативе, не по любви, а именно по инициативе. И всё же, подход можно применить аналогичный… А ведь, действительно, о Чехове и его бахвальстве всё оказалось ложью. Лидия Алексеевна сообщила об этом на последующих страницах. Она вычислила сплетника: «Я сказала о своих предположениях Мише. – Наврал? Возможно. Да, это он мне рассказал, – признался Миша. – Но ведь это известная скотина! Я почувствовала большое облегчение. Прощаясь, я дала слово Антону Павловичу написать ему и прислать свои рассказы, и теперь я решила, что это можно сделать, но всё-таки в письме упрекнула его за лишнюю болтовню за приятельским ужином». И Антон Павлович вскоре прислал ответ, в котором писал: «Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Моё достоинство не позволяет мне оправдываться, к тому же обвинение Ваше слишком неясно, чтобы в нём можно было разглядеть пункты для самозащиты. Но, сколько могу понять, дело идёт о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли? Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у Вас в Петербурге. Или же если нельзя не верить, то уж верьте всему и в розницу и оптом: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с жёнами моих лучших друзей и т.д. Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами… Думайте про меня, как хотите. ...Живу в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своём решении никогда не бывать в Петербурге». Авилова рассказала далее в книге: «С этих пор началась наша переписка с Антоном Павловичем. Но меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург. Значит, мы больше никогда с ним не увидимся? Не будет больше этих ярких праздников среди моей «счастливой семейной жизни»? И каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце». Как видим, словосочетание «счастливой семейной жизни» взято в кавычки. Я стараюсь больше цитировать Авилову и меньше пересказывать своими словами написанное ею, поскольку в описании такого романа не должно быть и малейших искажений. Собственно, даже определение «роман» не очень-то подходит к таким поистине, я не боюсь этого слова, божественным отношениям. Впрочем, когда я прочитал книгу Ивана Алексеевича Бунина «О Чехове. Неоконченная рукопись», то обратил внимание, что непревзойдённый мастер изящной словесности, не стеснялся цитировать Авилову, а уж он-то мог написать изящнее и красивее. Мог, но счёл нецелесообразным пересказывать то, что написано столь искренне, столь пронзительно и поистине неповторимо… Книга Авиловой потрясает своей пронзительной откровенностью, хотя, возможно, откровения всё же ограничены. Ещё в восьмидесятые я купил эту книгу в Лавке писателей на Кузнецком, в то время ещё пользуясь отцовским удостоверением члена Союза писателей СССР. Прочитал залпом. Затем купил ещё несколько книг, которые раздаривал знакомым женщинам – всё же воспоминания адресованы, в первую очередь, прекрасному полу. Отзывы были самые восторженные – одна приятельница сказала, что буквально растворяется в этой книге. А вот ответа на вопрос, до каких пределов дошли отношения Чехова и Авиловой, в книге нет. Хотя Лидия Алексеевна мастерски ведёт своё повествование, которое может не только соперничать, а способно превзойти – уже давно превзошло – любые произведения, обозначенные жанром «любовный роман». Вспомним роман Тургенева и Полины Виардо. Многие исследователи задавались вопросом – «совсем близки», выражаясь по-Бунински («Чистый понедельник») были они или не были? Василий Васильевич Розанов даже посвятил этому роману специальную статью «Загадочная любовь (Виардо и Тургенев)», в которой писал: «Всегда и многих уже давно занимал вопрос: было ли в этом романе что-нибудь физическое! Уже по тому одному, что любовь тянулась от 25-летнего возраста Тургенева до его смерти, а о связи всё-таки спрашивают, и спрашивали себя все, близко обоих их знавшие, с очевидностью показывает, что связь была в высшей степени призрачна, неправдоподобна, что её не было или почти не было, и всё сводится к этому «почти», которое может быть равно или «нолю», или «чему-нибудь»... Что это? Нездоровый интерес к чужим тайнам? Нет… В отношениях Тургенева и Полины Виардо много загадочного и одна из версий разгадки есть – это тайная миссия Тургенева в Европе. Высокие чины КГБ, будучи уже на заслуженном отдыхе раскрыли эту тайну… Тургенев был резидентом Русской разведки… Ну а любовь к Полине Виардо была прикрытием этой миссии или, в большой степени прикрытием! Но что же мешало Чехову и Авиловой? Почему они не стали «совсем близки». То, что это именно так, следует из книги Лидии Алексеевны. Читаешь книгу и ждёшь, что вот-вот, сейчас, но, увы, что-то мешает. Почему ждёшь? Нездоровое любопытство? Нет, совсем нет. Мастерство писательницы заставляет сопереживать героям, тем более, героям реальным, а не вымышленным. Может, кто-то и признаёт любовь без, опять же говоря Бунинским языком, «последней близости» – имеется в виду не как близость, после которой нет более встреч, а последней в том смысле, что самой, самой… Так вот, может, кто-то и признаёт чисто платонические отношения, но… таковых совсем немного, во всяком случае, далеко не большинство останавливаются перед «последней близостью». Как, к примеру, остановился Михаил Михайлович Пришвин, встретив свою первую любовь и потеряв её по причине своеобразного понимания отношений между влюблёнными. Ведь стремление горячо любящих людей к тому, чтобы испытать эту волшебную «последнюю близость» и испытать её не единожды, вполне понятно и объяснимо. И, когда Авилова, между прочим, с сожалением описывает то, что снова не сложилось, не вышло, читатель невольно огорчается, невольно жалеет о том, что не произошло между ними. А они ведь шли к близости, шли постепенно. Что же мешало? Встречались на людях. Да и муж Авиловой внимательно следил за развитием событий, делая даже маленькие провокации. Вот один из эпизодов: «И вдруг зашла ко мне сестра Надя и сказала с хитрой улыбкой: – Постарайся прийти к нам сегодня вечером без Миши. Смотри, только без Миши». Наверное, догадаться было несложно… Намёк, и всё стало ясно: – Да ты сегодня ждёшь... Чехова? Я чувствовала, как вся кровь бросилась мне в лицо. Надя засмеялась: – Потому я и прошу: приходи без Миши. Даже Сережи не будет, он вернётся только к двенадцати, и ужинать мы будем все вместе. Придёт ещё кое-кто... – У Миши сегодня вечер не свободен, спешная работа, – сказала я. – Отлично! Будет очень уютно. Я сказала Мише, что иду «на Чехова». Он нахмурился, но промолчал. Ему нельзя было не пустить меня: это возбудило бы слишком много толков, а он этого боялся». И Лидия Алексеевна пришла к сестре… Но вдруг испугалась, решила уйти, но сестра удерживала. Они спорили… «И в это время Пётр доложил, что приехал Антон Павлович Чехов. – Ах, а мне ещё надо одеться. Иди, Лида, займи его. Я пошла. Он стоял в кабинете. – А как же ваше решение не бывать больше в Петербурге? – Я, видно, человек недисциплинированный, безвольный... У вас расстроенный вид. Вы здоровы? Все благополучно? – И здорова, и благополучно, и всё хорошо. Мы сели к круглому столу, на котором стоял поднос с куском сыра и фруктами. Бутылки ещё не было. – Да, я опять в Петербурге... И, вообразите, опять хочется писать пьесу... Надя вышла не скоро. Мы успели поговорить о театре, о журналах, о редакторах, к которым он меня усиленно посылал». Нехитрая уловка сестры – дать побыть вдвоём, привела к тому, что они смогли поговорить о многом, но это многое касалось литературы. Лишь позже Чехов стал расспрашивать о детях и высказал своё мнение о женитьбе, о семье… Авилова сказала: – Надо жениться. – Надо жениться. Но я ещё не свободен. Я не женат, но и у меня есть семья: мать, сестра, младший брат. У меня обязанности. – А вы счастливы? – спросил он вдруг. И далее призналась: «Меня этот вопрос застал врасплох и испугал. Я остановилась, облокотившись спиной о рояль, а он остановился передо мной. – Счастливы? – настаивал он. – Но что такое счастье? – растерянно заговорила я. – У меня хороший муж, хорошие дети. Любимая семья. Но разве любить – это значит быть счастливой? Я в постоянной тревоге, в бесконечных заботах. У меня нет покоя. Все силы своей души я отдала случайности. Разве от меня зависит, чтобы все были живы, здоровы? А в этом для меня теперь всё, всё! Я сама по себе постепенно перестаю существовать. Меня захватило и держит. Часто с болью, с горьким сожалением думается, что моя-то песенка уже спета... Не быть мне ни писательницей, ни... Да ничем не быть. Покоряться обстоятельствам, мириться, уничтожаться. Да, уничтожаться, чтобы своими порывами к жизни более широкой, более яркой не повредить семье. Я люблю её. И скоро, очень скоро я покорюсь, уничтожусь. Это счастье? – Это ненормальность устройства нашей семьи, – горячо заговорил Чехов. – Это зависимость и подчинённость женщины. Это то, против чего необходимо восстать, бороться. Это пережиток... Я отлично понимаю всё, что вы сказали, хотя вы и не договариваете. Знаете: опишите вашу жизнь. Напишите искренне и правдиво. Это нужно. Это необходимо. Вы можете это сделать так, что поможете не только себе, но и многим другим. Вы обязаны это сделать, как обязаны не только не уничтожаться, а уважать свою личность, дорожить своим достоинством. Вы молоды, вы талантливы... О нет. Семья не должна быть самоубийством для вас... Вы дадите ей много больше, чем, если будете только покоряться и мириться. Что вы, Бог с вами. Он повернулся и стал ходить по комнате. – Я сегодня нервна. Я, конечно, многое преувеличила... – Если бы я женился, – задумчиво заговорил Чехов, – я бы предложил жене... Вообразите, я бы предложил ей не жить вместе. Чтобы не было ни халатов, ни этой российской распущенности... и возмутительной бесцеремонности». «…Я знала, что люблю Антона Павловича». Путь к близости не всегда бывает быстрым. Иногда он очень долог. Иногда он невозможен вот без этаких мимолётных разговоров наедине. А сколько помех! И одна из помех – ревнивый муж. И его маленькие хитрости. На этот раз он прислал за Лилией Алексеевной. Он солгал, что болен сынишка, и она помчалась домой, но там было всё спокойно. Авилова рассказала с некоторой горечью: «Миша крепко обнял меня, не отпуская. – Ты моя благодетельная фея. При тебе я спокоен и знаю, что всё в порядке. Мне вспомнилось, как он за обедом разбросал по полу все оладьи, потому что, по его мнению, они не были достаточно мягкими и пухлыми: «Ими только в собак швырять». Словом, снова рутина семьи. Но все эти передряги – разбросанные оладьи, и напрасный вызов – вдруг выразились в моментальном осознании того главного, что было в ней. Лидия Алексеевна поняла и призналась в воспоминаниях: «А я уже знала теперь. В первый раз, без всякого сомнения, определённо, ясно, я знала, что люблю Антона Павловича. Люблю!» Так ревнивые муж или жена, порой, перегнув палку, действуют против себя и добиваются обратного результата. И вот очередная глава воспоминаний, словно очередная глава романа. Читатель, уже зная манеру письма Авиловой, невольно ждёт, читая первые строки, чего-то такого, что непременно должно случиться. А случится может только очень важное в их отношениях – очередной шаг и… преодоление последнего рубежа… И начало главы настраивает на ожидание: «Была масленица. Одна из тех редких петербургских маслениц – без оттепели, без дождя и тумана, а мягкая, белая, ласковая». Не случайно сказано: мягкая, белая, ласковая… И вот уже кажется, что ожидания оправдываются. Лидия Алексеевна пишет: «Миша уехал на Кавказ, и у нас в доме было тихо, спокойно и мирно. В пятницу у Лейкиных должны были собраться гости, и меня тоже пригласили. Жили они на Петербургской, в собственном доме». Ясно, что всё не случайно. Муж на Кавказе, мешать встречам некому, напротив, не только сестра, но и хозяйка дома, в который приглашена Авилова, на её стороне, на стороне её романа с Антоном Павловичем… И вот уже очередной шаг: «К Лейкиным попала довольно поздно. Меня встретила в передней Прасковья Никифоровна, нарядная, сияющая и, как всегда, чрезвычайно радушная. – А я боялась, что вы уже не приедете, – громко заговорила она, – а было бы жаль, очень жаль. Вас ждут, – шепнула она, но так громко, что только переменился звук голоса, а не сила его. – Я задержала? Кого? Что? – Ждут, ждут...» Очередная встреча с Чеховым, встреча особая, ведь Лидия Алексеевна уже нашла определение своим стремлениям к нему, своему желанию постоянно видеть его. Она поняла, что любит, по-настоящему любит. «…Антон Павлович был очень весел. Он не хохотал (он никогда не хохотал), не возвышал голоса, но смешил меня неожиданными замечаниями. Вдруг он позавидовал толстым эполетам какого-то военного (а может быть, и не военного) и стал уверять, что если бы ему такие эполеты, он был бы счастливейшим человеком на свете. – Как бы меня женщины любили! Влюблялись бы без числа! Я знаю! Когда стали вставать из-за стола, он сказал: – Я хочу проводить вас. Согласны?» И вот они мчатся по Петербургским улицам, и говорят, говорят о всякой всячине. Какое это счастье вот так мчаться в санях вдвоём с любимой и говорить, говорить, а в тайне мечтать о чём-то большем, волшебном, необходимом… У дома Авиловой вернёмся к её рассказу: «– Вы ещё долго пробудете здесь? – спросила я. – Хочется ещё с неделю. Надо бы нам видеться почаще, каждый день. Согласны? – Приезжайте завтра вечером ко мне, – неожиданно для самой себя предложила я. Антон Павлович удивился: – К вам? Мы почему-то оба замолчали на время. – У вас будет много гостей? – спросил Чехов. – Наоборот, никого. Миша на Кавказе, а без него некому у меня и бывать. Надя вечером не приходит. Будем вдвоём и будем говорить, говорить... – Я вас уговорю писать роман. Это необходимо. – Значит, будете?.. …Я, раздеваясь в спальне, думала: «Пригласила. Будет. Что же это я сделала? Ведь я его люблю, и он... Нет! Он-то меня не любит. Нет! Ему со мной только легко и весело. Но ведь теперь я уже сделала проступок. Миша с ума сойдёт, а я... мне уж нечем защищаться и бороться. Правоты у меня нет. Но какое счастье завтра! Какое счастье!» Не было у меня предчувствия, что меня ждёт». Вот и очередной шаг в развитии отношений, отношений безоблачных, радостных, «мягких, белых, ласковых», как сама ярмарка, с упоминаний о которой начата глава. И внезапно вырвавшееся приглашение в гости и мысли о том, что будет, как будет и самое главное – любит ли он её, как она любит его? Ну а далее, словно остросюжетный любовный роман, только прописанный и языком иным, чем нынешние суррогатные поделки, да и по глубине сопоставим с дешёвыми опусами… Разве не к месту фраза: «Я, раздеваясь в спальне, думала»… Авилова держит читателя в напряжении… Упоминание спальни, затем… «у меня предчувствия, что меня ждёт». Наконец-то, наконец, соединятся любящие сердца, наконец, станут «совсем близки»… Но вернёмся к воспоминаниям: «И вот настал этот вечер. С девяти часов я начала ждать. У меня был приготовлен маленький холодный ужин, водка, вино, пиво, фрукты. В столовой стол был накрыт для чая… Сколько необходимо сказать друг другу… Ужинать позднее…». В полном тексте – цитирую лишь выдержки – атмосфера ожидания, волнения. И вот, наконец: «В начале десятого раздался звонок. Прижавши руку к сердцу, я немного переждала, пока Маша шла отворять, пока отворила и что-то ответила на вопрос гостя». И вот тут совершенно неожиданный поворот в поистине остросюжетном стиле – что ж, жизнь, порой, даёт нам таки повороты, что и автором детективов, а не то что любовных романов, не снятся… «Тогда я тоже вышла в переднюю и прямо застыла от ужаса. Гостей было двое: мужчина и женщина, и они раздевались. Меня особенно поразило то, что они раздевались. Значит, это не было недоразумение: они собирались остаться, сидеть весь вечер. А всего несноснее было то, что это были Ш., Мишины знакомые, к которым он всегда тащил меня насильно, до того они были мне несимпатичны. Против него я ещё ничего не могла сказать, но она... Я её положительно не выносила… Оба были очень заняты и навещали нас, слава Богу, чрезвычайно редко. Надо же им было попасть именно в этот вечер!» Ну и вполне естественно, незваные гости отдали должное всему, что было с любовью приготовлено для Чехова! А его всё не было. «На наших больших столовых часах было половина одиннадцатого. Ясно, что Антон Павлович не придёт, и я уже была этому рада». Да, уж лучше, чтобы он не видел такого конфуза, ведь мог расценить, как насмешку. Может к место, может не совсем, вспоминается один эпизод из жизни Императора, известного нам под именем Александра Первого. Находясь на Венском конгрессе, он поставил себе цель соблазнять в день по известной, титулованной даме. И вот, узнав, что муж одной из таковых, уехал на охоту, намекнул, что собирается нанести визит. Обезумевшая от радости дама, прислала ему список гостей, которых он бы не желал видеть в тот вечер. Нужно было вычеркнуть нежелательных, и он вычеркнул всех, кроме неё самой. И вот наступил вечер, и он явился с визитом. Каково же было удивление Императора, когда он застал дома и саму даму и её мужа… Побыв, для приличия несколько минут, он удалился. Оказалось, что дама специально вызвала мужа с охоты, срочно вызвала, чтобы и он испытал радость общения с Императором России… Но ведь Авилова никого не вызывала, она стала жертвой случайности, но прекрасно понимала, что может подумать Чехов. Тут уж действительно, лучше, чтобы по какой-либо причине тот, с которым готовилась встреча наедине, не пришёл вовсе, ведь и он шёл с замиранием сердца и у него были какие-то неясные надежды, волнения, и он ожидал от встречи чего-то необыкновенного. Но… Судьба снова готовила испытание… «Вдруг в передней раздался звонок, и я услышала голос Антона Павловича. Он о чём-то спросил Машу. – Что с вами? – крикнула В.У. – Петя! Скорей воды... Лидии Алексеевне дурно. Но я сделала над собой невероятное усилие и оправилась. – Нет, я ничего, – слабо сказала я. – Почему вам показалось? – Но вы побледнели, как мел... Теперь вы вспыхнули... Вошёл Антон Павлович, и я представила друг другу своих гостей. Какой это был взрыв хохота! – Как? Антон Павлович Чехов? И Лидия Алексеевна не предупредила нас, что ждет такого гостя? Как мы счастливо попали! Вот когда вы ответите мне, Антон Павлович, на вопросы, которые я ставила себе каждый раз, как читала ваши произведения. Я хочу, чтобы вы ответили. Она напала на Чехова, как рысь на беззащитную лань. Она впилась в него, терзала, рвала на части, кричала, хохотала. Она обвиняла его, что он тратит свой большой талант на побасенки, что он ходит кругом и около, а не решает задачи, не дает идеала… …Антон Павлович защищался слабо, нехотя, говорил односложно. Он сидел над своим стаканом чая, опустив глаза». Можно представить себе, что было на душе у Чехова. С каким удивлением он воспринял приглашение, как это удивление сменилось на необыкновенную радость, и наверняка радость эта обратилась в надежды – ведь до сих пор им не доводилось оставаться совсем одним. А тут эти ужасные гости со своими советами, восторгами и критиканствами. Как он устал от всего этого, как хотелось ему побыть с женщиной необыкновенной, женщиной любимой… К счастью, у мужа крикливой дамы хватило ума увести её домой, как бы она не упиралась… Авилова рассказала: «Она в последний раз ринулась на Чехова, стала жать и трясти его руки и кричать ему в уши, что он большой, большой талант и что она верит в него и ждёт от него многого. Наконец крик перешёл в переднюю, потом на лестницу, и взрыв хохота потряс все этажи. Дверь хлопнула, и мы с Антоном Павловичем в изнеможении перешли в кабинет. – Вы устали, – сказал Антон Павлович. – Я уйду, вас утомили гости. Что со мной делалось? Я едва могла говорить. – Прошу вас, останьтесь…» Говорили о литературе, о творчестве Авиловой, Чехов давал деликатные, очень дельные советы. Тема, которая была на сердце у каждого из них после шумной компании никак не выходила из укрытия, в которое спряталась от бестактности и дерзости незваных гостей. Лидия Алексеевна описывает дальнейшие события: «Он успокоился, а я пошла в столовую за вином. Да и закусить бы надо. Но... какие жалкие остатки оставили Ш.! Я собрала, что могла, и отнесла на Мишин письменный стол. Свою пачку с рукописями я отложила на круглый столик у окна. – Я не хочу этого, – сказал Чехов, и мне показалось, что он сказал это брезгливо. Взял бутылку с вином, отставил её и налил себе пива. Мне было и стыдно и больно. Приняла гостя, нечего сказать. – Вам надо лечь спать, – сказал Чехов, – вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы рады будете, когда я уйду. Да, раньше... помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьёзно увлечён вами? Это было серьёзно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы ещё похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше, по-новому. И что ещё тяжелее расстаться... Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я – против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно». Недаром Николай Александрович Бердяев говорил: «Настоящая любовь – редкий цветок». Добавим к тому – хрупкий цветок. Очень хрупкий. Можно себе представить, с каким настроением шёл Чехов на эту встречу, и как это настроение было испорчено. Оно было испорчено так, что раздражение его обратилось теперь не только на дерзко ворвавшуюся в его надежды семейку, но, отчасти, и на его возлюбленную, на Авилову, оказавшуюся без вины виноватой. Едва ли он мог заподозрить, что это была некая шутка. Зачем? Для чего? Он, как писатель, как человек проницательный не мог не заметить, сколь удручена гостями сама Лидия Авилова. Но уже не мог сдержать эмоций, поскольку на протяжении всего времени, пока гости мучали его, не мог понять, зачем они здесь, для чего? Чехов не любил пустых компаний и глупых общений, а тут его вынудили целый вечер слушать всякий вздор и участвовать в этом вздоре. Вот и Авилова написала далее о настроении Чехова: «У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его; изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь не интересна, не гостеприимна и, сверх того, устала и хочу спать. «Кошмар», – промелькнуло у меня в голове. – Я вас любил, – продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. – Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, которых и я бросал, и которые меня бросали; что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. И вы были для меня святыней. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это? Он взял мою руку и сейчас же оставил её, как мне казалось, с отвращением. – О, какая холодная рука! И сейчас же он встал и посмотрел на часы. – Половина второго. Я успею ещё поужинать и поговорить с Сувориным, а вы ложитесь скорей спать. Скорей. (…) – Я, кажется, обещал ещё завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся. Всё? Разрыв? Как ещё оценить столь быстрый уход Чехова? Авилова была в отчаянии: «Когда Антон Павлович ушёл, я закуталась в платок и стала ходить по комнатам. Ходила и тихо стонала. Было не то что больно, а невыносимо тревожно, тесно в груди. Перед глазами всё стояло лицо Антона Павловича, строгое, с холодными, требовательными глазами. Представлялись и жалкие остатки ужина на блюдах... Невольно я отмахивалась рукой: фу! Кошмар! Очень устала ходить и немного пришла в себя. В голове облака начали проясняться, исчезать. «Я вас любил...» – вдруг ясно прозвучало в ушах. Я пришла в тёмный кабинет и села на прежнее место. «Знали вы это?» Закрыв глаза, я сидела, откинувшись на спинку кресла…» Казалось, всё кончено. И никаких надежд. И вдруг, лучик надежды – тоненький лучик, но всё же. Она вспомнила, что он взял рукописи, причём, долго искал, куда я их положила, не спрашивая, где они, а когда нашёл, взял с собой. И она подумала: «Значит, вернёт, может быть напишет что-нибудь? Ещё, значит, не всё кончено... Не совсем всё, можно ещё ждать чего-то? Читать будет моё. Конечно, из великодушия, по доброте своей, но со скукой, с досадой, может быть с отвращением. Ах, лучше бы не читал! Я плакала навзрыд, вытирая мокрое лицо мокрым платком. – Нет, я не знала! – повторяла я про себя, отвечая на его вопрос: знали ли вы? – Нет, я не знала! Я была бы счастлива, если бы знала, а я не была счастлива, никогда, никогда!» На следующий день посыльный принёс пакет с книгой и рукописями Лидии Алексеевны. В пакете она нашла письмо Чехова. Но сначала раскрыла книгу там, где обычно делаются надписи. Прочла сухие слова: «Л.А. Авиловой от автора». Ну а в письме – разбор рассказов. И снова совет писать роман. На письме стояла дата 15 февраля 1895 года. Ни слова не нашла она в письме об их отношениях, ни слова о любви, лишь краткое сообщение: «Сегодня я остался, или, вернее, был оставлен, завтра непременно уезжаю…» Но, поразмыслив, Авилова посмотрела на происшедшее под другим углом зрения: «Пригласила Антона Павловича, когда Миши не было дома. Что он мог подумать? Соблазняла его тем, что мы будем одни. Что он мог заключить? Всё это я делала без дурного умысла и воображала, что и Антон Павлович не видит в этом ничего предосудительного. А теперь я вспоминала слова Миши: «Удивительно, до чего ты наивна! Прямо до глупости. Все мужчины более или менее свиньи, и надо с этим считаться. Не клади плохо, не вводи вора в грех…» Оставалось только повиниться Мише.., и опять жить без праздничного, яркого солнца, без этого тайного счастья, уже привычного, уже необходимого… Я не знаю, как это случилось, но вдруг все мои рассуждения смело, как вихрем. И этот вихрь была моя вера, моя любовь, моё горе. Таким был итог несостоявшейся встречи наедине. К чему бы привела такая встреча, мы не знаем. Да и не знали сами её участники – Чехов и Авилова. Да и не нам судить двух любящих людей, сближение которых было столь необыкновенным, пронзительным и столь же сложным. Тайный вопрос и ответ в «Чайке» Лидия Алексеевна долго не могла успокоиться, долго переживала, долго корила себя. Она искала свою вину, хотя была без вины виноватой. Вполне естественно стремление быть рядом с бесконечно любимым человеком. Для чего? Да для того, чтобы просто быть рядом, наедине, чтобы никто не мешал говорить, никто не мешал посмотреть глаза в глаза… На а остальное?! Остальное поистине любящие люди заранее не планируют. Остальное – это движение сердец, это веление восторженных душ. Но встреча оказалась испорченной. Лидия Алексеевна искала свои ошибки, свою вину. Она размышляла: «Он уехал потому, что я оттолкнула его. Да, конечно, я оттолкнула! Я причинила ему боль. И он не знает, в каком я была состоянии... и какое это было ужасное недоразумение... и как мне тяжело. Промучившись ещё дня два, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На одной стороне я написала: «Повести и рассказы. Соч. Ан.Чехова», а с другой – «Стран. 267, стр. 6 и 7». Если найти эти строки в книге, то можно было прочесть: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её». Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату. А его просила отнести и отдать в редакцию «Русской мысли». Брат передал футляр Гольцеву для передачи Антону Павловичу. Я сделала все это с тоски и отчаяния, перемахнула, лишь бы Антон Павлович не чувствовал себя отвергнутым и лишь бы не потерять его совсем. Адрес же вырезала, чтобы не было явного признания, чтобы всё-таки оставалось сомнение для него, а для меня возможность отступления. Не могла же я отдать ему свою жизнь! Разве что сразу четыре жизни: мою и детей. Но разве Миша отдал бы их мне? И разве Антон Павлович мог их взять?» Словно бы об этой ситуации писал Николай Александрович Бердяев, хотя, конечно, он совсем не имел в виду отношений Чехова и Авиловой: «Вопрос о детях совсем другой вопрос и очень, конечно, важный. Но когда родители не любят друг друга, то это плохо отзывается на детях. Я знаю, что моя точка зрения будет признана асоциальной и опасной». И далее, будто тоже на эту тему? «Есть несоизмеримость между женской и мужскою любовью, несоизмеримость требований и ожиданий. Мужская любовь частична, она не охватывает всего существа. Женская любовь более целостна. Женщина легко делается одержимой. В этом смертельная опасность женской любви. В женской любви есть магия, но она деспотична. И всегда есть несоответствие с идеальным женским образом... Образ женской красоты часто бывает обманным. Женщины лживее мужчин, ложь есть самозащита, выработанная историческим бесправием женщины со времён победы патриархата на матриархатом. Но женская любовь может подниматься до необычайной высоты… Это любовь, спасающая через верность навеки… У женщин есть необыкновенная способность порождать иллюзии, быть не такими, каковы они на самом деле». (В.Соловьёв. «Смысл любви»). Верно, что женственная стихия есть стихия космическая, основа творения; лишь через женственность человек приобщается к жизни космоса. Человек в полноте своей есть космос и личность. В сильной эмоции любви есть глубина бесконечности… Любовь есть выход из обыденности для многих людей может быть единственный. Но таково начало любви. В своём развитии она легко попадает под власть обыденного. В любви есть бесконечность, но есть и конечность, ограничивающая эту бесконечность. Иногда сон напоминает о забытом, и тогда печаль охватывает душу. Мне всегда казалось странным, когда люди говорят о радостях любви. Более естественно было бы… говорить о трагизме любви и печали любви… Но бывает, хотя и нечасто, необыкновенная любовь, связанная с духовным смыслом жизни». Что представляла собой любовь Авиловой к Чехову? Да, это была «необыкновенная любовь, связанная с духовным смыслом жизни». Но она не могла превратить двух этих, по-своему любящих людей в «идеальную пару», ибо, как удивительно точно трактуется в «Откровениях людям Нового века»: «Идеальная пара, идеальный брак достигается только при гармонии Духа и Гармонии сексуальных отношений, – одно без другого невозможно». «Но, самое главное, чувство Любви, всё же есть чувство Гармонии двух начал (мужского и женского), есть чувство Гармонии Душ!!!» Что же испытывал Чехов по отношению к Авиловой? Каковы были его чувства? Авилова знала, что брелок, посланный Антону Павловичу, он наверняка получил. Но вопреки её ожиданием ответа от Чехова – доброго ли, саркастического ли – было полное молчание, напоминающее забвение. Ну а время делало своё всесокрушающее в вопросах любви дело: Авилова призналась: «Как мне надоело разбираться в моих мыслях! Повторять про себя все сказанные Чеховым слова, которые я уж выучила наизусть и которые всегда ярко вызывали в памяти лицо и голос Антона Павловича». И в то же время сердце отчаянно сопротивлялось этому действию времени: «Одно для меня было ясно: ничего не могло быть понятнее, естественнее и даже неизбежнее, чем то, что я полюбила Чехова». Разве не свидетельствуют о высоких и искренних чувствах такие признания: «Когда говорил Антон Павлович, хотелось смеяться от счастья». «Вот почему было естественно и неизбежно, что я любила Антона Павловича». Закономерны и сомнения: «Но почему бы он мог любить меня? Только потому, что я была молода и приблизительно красива? Но сколько женщин были моложе и красивее!» И безусловный вывод: «Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил брелок, но не отозвался ничем, даже переписка наша прекратилась. Надо было жить без него. И я жила. По-видимому, жила даже веселее прежнего. А далее, словно краткие дневниковые вспышки, после которых успокоение, но ненадолго: «…мне казалось, что я с каждым днем всё меньше и меньше думаю об Антоне Павловиче. Он отвернулся от меня, ну и я стала равнодушной. Я, несомненно, выздоравливала. Разве я тосковала? Разве я предпринимала хотя что-нибудь, чтобы опять сблизиться с ним?.. И только иногда, изредка, вернувшись из какой-нибудь поездки за город или с вечера с танцами, удостоверившись, что Миша заснул, я садилась к столу и писала Антону Павловичу письмо. Я писала и плакала. Плакала так, что потом ложилась изнеможенная, разбитая. Писем этих я никогда не отсылала, да и в то время, как писала, знала, что не пошлю». Но в очередной главе Лидия Авилова посвящает читателей в новый водоворот события с почти уже знакомыми явлениями: «Опять была масленица. Я сидела вечером в кабинете Миши и читала. Брат, приехавший из Москвы, играл в гостиной на рояли, муж за письменным столом что-то писал. Вдруг крышка рояля хлопнула, и брат Алеша быстро вошел к нам. – Не могу я больше в этой адской скучище мучиться! – крикнул он. – Неужели я за этим приехал в Петербург? Едемте куда-нибудь!» Опять была масленица! Но что же ещё случится «опять»? Ведь не зря же такое начало… Неужели новая встреча с Чеховым, о котором, как она себя убеждала, уже начинала забывать? Брат уговорил Авилову ехать на маскарад. Муж отказался, ещё и посмеялся над ними. Маскарад был назначен в театре Суворина. В маленьком магазинчике костюмов, который уже закрылся, и хозяйка нехотя впустила покупателей, при свете свечи кое-как подобрали костюмы. Лидии Алексеевне удалось найти по размеру только чёрное домино, хотя и этот костюм был несколько коротковат. Наконец, они с братом облачились в наряды и отправились в театр. И вот описание маскарада: «Зал театра показался мне каким-то кошмаром. Он был битком набит, двигаться можно было только в одном направлении, вместе с толпой. Я нащупала в своей сумке пару орехов (остались после игры в лото с детьми) и сунула их в рот, чтобы не забыться и не заговорить своим голосом, если встречу знакомых. – Не подавись! – предупредил брат и вдруг чуть не вскрикнул: – Смотри направо... Направо стоял Чехов и, прищурившись, смотрел куда-то поверх голов вдаль. – Теперь, конечно, я свободен? – сказал Алеша и сейчас же исчез. Я подошла к Антону Павловичу. – Как я рада тебя видеть! – сказала я. – Ты не знаешь меня, маска, – ответил он и пристально оглядел меня. От волнения и неожиданности я дрожала, может быть, он заметил это? Ни слова не говоря, он взял мою руку, продел под свою и повёл меня по кругу. Он молчал, и я тоже молчала. Мимо нас проскользнул Владимир Иванович Немирович-Данченко. – Э-ге-ге! – сказал он Чехову. – Уже подцепил! Чехов нагнулся ко мне и тихо сказал: – Если тебя окликнут, не оборачивайся, не выдавай себя. …Мы с трудом выбрались из толпы, поднялись по лестнице к ложам и оказались в пустом коридоре. – Вот, как хорошо! – сказал Чехов. – Я боялся, что Немирович назовёт тебя по имени, и ты как-нибудь выдашь себя. – А ты знаешь, кто я? Кто же? Скажи! Я вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся. – Знаешь, скоро пойдёт моя пьеса, – не отвечая на вопрос, сообщил он. – Знаю. «Чайка». – «Чайка». Ты будешь на первом представлении? – Буду. Непременно. – Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только будь внимательна. Не забудь». Авилова ждала «Чайку» с особым нетерпением. Чехом просил быть внимательной. Для чего? Какая тайна в спектакле? Муж в театр не пошёл, но билет достал, сказав: «Вот тебе, чехистка! У меня заседание. И, по правде сказать, не велика потеря...» Свой поход в театр Лидия Алексеевна описала подробно, и на то была веская причина: «Я отправилась одна и тоже, по правде сказать, была этому рада. Про то, что я жду ответа со сцены, я, конечно, никому не сказала, даже Алёше, но скрыть своего волнения я не могла. Давно ждала я этого дня и всё время думала то одно, то другое. Узнал меня Антон Павлович или не узнал и принял за другую?..» И вот после описания негодования в зале по поводу пьесы, после описания своих собственных волнений и ожиданий, Авилова написала: «Пьеса с треском проваливалась. Что же должен был теперь переживать Антон Павлович? Кто был с ним, чтобы он чувствовал рядом друга? Кто мог облегчить его состояние? Как я завидовала бы этому человеку, если бы знала его! А про ответ со сцены Антон Павлович, очевидно, пошутил. Сказал на всякий случай неизвестно кому. Но вот... вышла Нина, чтобы проститься с Тригориным. Она протянула ему медальон и объяснила: «Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги». «Какой прелестный подарок!» – сказал Тригорин и поцеловал медальон. Нина ушла... а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочёл: «страница 121, строки 11 и 12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину: – Есть мои книги в этом доме? И уже с книгой в руках он повторил: «страница 121, строки 11 и 12». А когда нашёл страницу и отсчитал строки, прочёл тихо, но внятно: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её». С самого начала, как только Нина протянула медальон, со мной делалось что-то странное: я сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что мне показалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся ко мне и смотрит мне в лицо. В голове был шум, сердце колотилось, как бешеное. Но я не пропустила и не забыла: страница 121, строки 11 и 12. Цифры были все другие, не те, которые я напечатала на брелоке. Несомненно, это был ответ. Действительно, он ответил мне со сцены, и ответил мне, только мне, а не Яворской и никому другому. «Тебе!» «Ты!» Он знал, что говорил это мне. Весь вечер он был со мной и знал, что со мной. Значит, сразу узнал меня. С первого взгляда. Но что в этих двух строках? Что в этих двух строках?... Дома муж стал расспрашивать о премьере. Она рассказала о провале, и он неожиданно встал на сторону Чехова, что хоть немного утешило её и порадовало. Но… вспоминался ответ со сцены и не выходили из головы цифры: «121,11, и 12»: Что там? На этой странице 121 и на строках 11 и 12? И вот, наконец, муж ушёл в спальню и она, быстро отыскав книгу, открыла её на 121 странице и отсчитав строки, прочла: «...кие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?» Она снова и снова читала, пытаясь отгадать, что же он хотел сказать: «Что ты смотришь на меня с таким восторгом. Я тебе нравлюсь?» Она пыталась понять и не могла. Вот её мысли: «Катит он теперь в Москву, сидит и думает. Нет, думать он сейчас не может. Он отмахивается от того, что продолжает видеть и слышать: растерянных артистов на сцене, звериных харь в зале, свист, хохот. О, я хорошо знала, помнила это состояние, я его пережила. Но вспоминается ли ему его «ответ»? Представляет ли он себе моё чувство, когда после такого долгого ожидания, после такого волнения и нетерпения я прочту: «Я тебе нравлюсь?» Стоило ли из-за этого втискивать в пьесу этот эпизод с медальоном? Спать я не могла. И меня преследовали воспоминания того, что я видела в театре, впечатления этого грандиозного провала и моё собственное разочарование. «Я тебе нравлюсь?» И вдруг точно молния блеснула в моем сознании: я выбрала строки в его книге, а он, возможно, в моей? Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет, нашла свой томик «Счастливца», и тут, на странице 121, строки 11 и 12, я прочла: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается». Вот это был ответ! Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Всё он угадал, всё знал». И хотя ответ был слишком общим, Авилова была рада тому, что Чехов прочитал, что он думал о ней и даже авторской своей властью заставил участвовать в этой тайной символической их переписке актёров. «Пусть этот вечер решит все вопросы..» Следующая встреча произошла неожиданно, снова в театре Суворина, где «шла какая-то переводная пьеса». Авилова увидела Чехова в ложе Суворина и огорчилась, что он не предупредил её о своём приезде. Огорчение продолжалось недолго. Они встретились в фойе. Авилова вспоминала: «Увидев меня, он быстро шагнул мне навстречу и взял мою руку. – Пьеса скучная, – поспешно сказал он. – Вы согласны? Не стоит смотреть её до конца. Я бы проводил вас домой. Ведь вы одна? – Пожалуйста, не беспокойтесь, – ответила я. – Если вы уйдете, вы огорчите Сувориных. Антон Павлович нахмурился. – Вы сердитесь. Но где и когда я мог бы с вами поговорить? Это необходимо. – И вы находите, что самое удобное на улице, под дождем и снегом? – Так скажите: где? когда? – Пригласите меня, по привычке, ужинать в ресторан. – По какой привычке? Почему вы думаете, что у меня такая привычка? Что с вами? Дверь ложи открылась, и показался Суворин. – Видите, вас ищут. Идите скорей на ваше место. Я засмеялась и быстро пошла по коридору. – Кажется, ясно, что я выздоровела, – сказала я себе со злостью, хотела пойти в зрительный зал, но раздумала, пошла к вешалке, оделась и ушла. Действительно, шёл снег и вместе со снегом – дождь. Ветер налетал порывами и мешал идти. – Свезу? – спросил извозчик. Я поколебалась и прошла мимо. Не хотелось домой, да и было слишком рано: меня не ждали. «Удивительно умно все, что я сделала и сказала! – казнила я себя. – Выздоровела!.. Боже, до чего я несчастна! Кто мне навязал эту несчастную, дурацкую любовь! А он хотел поговорить со мной. О чём? «Необходимо...» И что же, я опять оскорбила его?» Я подумала и с грустью решила: нет, он понял. Он всё понимает, он всё знает. Вот теперь видит моё пустое место, и ему тяжело. Но как тяжело? Из сострадания? Ах, если бы и он любил меня! Если бы... А тогда что? Я долго кружила по улицам и переулкам, но разрешить своего последнего вопроса не могла…» И всё-таки выздоровления не произошло. Авилова и Чехлов условились о встрече в Москве. Она собиралась в Москву в марте. Чехов обещал специально приехать туда из своего Мелихова. 18 марта 1897 года он написал Авиловой: «Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень – несмотря на то, что Вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае». Я приеду в Москву до 26 марта, по всей вероятности в понедельник, в 10 часов вечера, остановлюсь в Б. Московской гостинице, против Иверской. Быть может, приеду и раньше, если позволят дела, которых у меня, увы! очень много. В Москве пробуду до 28, а потом, можете себе представить, поеду в Петербург. Итак, до свиданья. Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной или пообедать. Право, это будет хорошо. Теперь я не надую Вас ни в коем случае, задержать меня дома может только болезнь. Жму Вам руку, низко кланяюсь. Ваш Чехов». Лидия Алексеевна сообщила Чехову свой адрес и вскоре получила от него, уже будучи в Москве, записку, присланную с посыльным. «Б. Московская гостиница, N 5. Суббота. Я приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома. Не найдёте ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к Вам? Желаю Вам всего хорошего. Ваш Чехов». Авилова отправила ответ с обещанием быть у него в тот же вечер. Она снова ждала встречи, ждала и волновалась, ждала и размышляла: «Пусть этот вечер решит все вопросы, которые так измучили меня. Затем мы и назначили друг другу это свидание, чтобы всё выяснить и решить. Я знала, что мы решим расстаться, но как? Скажет ли он мне, наконец, что я значу для него? Одинаково ли трудно будет нам расстаться, или он, жалея меня, сам отнесётся к этому равнодушно? Конечно, я пойму, я угадаю. Его письма всегда казались мне холодными, натянутыми, чужими…». Лидия Алексеевна пришла вовремя. Швейцар поинтересовался, к кому она направляется, и, услышав ответ, сообщил, что Чехова нет дома. Куда и с кем уехал, не пояснил. Она продолжала допрашивать швейцара, ещё не веря в то, что он сказал: «– Не может быть! Вероятно, он не велел принимать? Он нездоров. Он мне писал... – Не могу знать. Только его нет. С утра уехал с Сувориным». Уехал с Сувориным… Словно ушат холодной воды вылили на голову. Хорошо, что поддержал брат Алексей, к которому она отправилась, сама не своя. Брат пошёл её провожать, и Авилова изливала ему свою душу: «– Пойми, Алеша. С тех пор, как я узнала, что люблю его, я только мучилась, только боролась, только старалась избавиться от этой любви. Я по-прежнему, нет! больше прежнего привязалась к Мише, а про детей... Ну, ты сам знаешь, что для меня дети! Видишь ли, я жила обыкновенной женской жизнью, пока не взошло для меня это солнце. Но когда оно взошло... Ты осуждаешь меня? Но подумай: если бы я полюбила бы какого-нибудь Коку, так как он красивей, веселей, забавней Миши – я презирала бы себя. И случись такая гадость, неужели было бы трудно избавиться от нее? Надо только порвать сразу, не видеть, не слышать. Могу ли я это с Чеховым? Ведь он всюду. Тогда не надо ни читать, ни бывать в театре, ни слушать разговоров. Где его нет? Как от него уйти? А если нельзя, все равно нельзя, то как отказаться от того, что он даёт мне? Пусть это мучительно, пусть отравлено, но то, что я имею от него, – это счастье! Его письма, его внимание, его голос, его глаза, устремлённые на меня, о, какое это счастье! Иногда, вообрази, мне кажется, что он любит меня. Да, это случается, и тогда... Ну, тогда ещё большая мука. Но какое счастье! Какое счастье! Видишь, я все говорю: счастье, а разве я счастлива? Это, знаешь, как улыбка на заплаканном лице. Нет, конечно, он меня не любит, но он знает, что я его люблю, и это ему не неприятно. Всё-таки это связывает нас, всё-таки это какая-то близость. За что осуждать меня, если я никому, никому зла не делаю, ни у кого ничего не отнимаю? В чём я виновата? ….На другой день пришёл Алеша и сообщил, что Антон Павлович серьёзно заболел, и его отвезли в клинику». Вот так снова сорвалась встреча наедине… Словно какой-то рок навис над этой высокой и чистой любовью – то вмешались бесцеремонные гости, то навалилась болезнь… Авилова тут же отправилась в клинику. Брат Алексей вызвался проводить. Но в приёмной клиники решительно отказали – Чехов чувствовал себя очень плохо. К нему допускали только сестру Марию Павловну. Больше никого. И всё-таки удалось уговорить приглашённого в приёмную врача сообщить Чехову о том, что приехала Авилова. Врач вернулся и сказал, что Чехов очень хочет её видеть… Врач строго инструктировал: «Чтобы он не говорил ни слова! Вредно. Помните: от разговора, от волнения опять пойдёт кровь. Даю вам три минуты. Три минуты, не больше.... Сами будьте спокойнее. Через три минуты приду. Авилова подробно описала этот свой печальный визит: «Он лежал один. Лежал на спине, повернув голову к двери. – Как вы добры... – тихо сказал он. – О, нельзя говорить! – испуганно прервала я. – Вы страдаете? Болит у вас что-нибудь? Он улыбнулся и показал мне на стул около самой кровати. – Три минуты, – сказала я и взяла со стола его часы. Он отнял их и удержал мою руку. – Скажите: вы пришли бы? – К вам? Но я была, дорогой мой. – Были?! О, как не везёт нам! не везёт нам!..» А на следующий день Лидия Алексеевна взяла корректуру книги. Из издательства вышла в расстроенных чувствах – там сочувствовали Чехову, но считали его умирающим. Говорили о том, что весна, что река пошла, а это время для таковых больных самое страшное. Поскольку в клинику было идти ещё рано, она пошла к реке, остановилась на мосту, глядя на очищавшуюся от остатков льда воду, и думая о Чехове: «До тридцати лет я жил припеваючи», – как-то сказал он. – После тридцати осилила, изломала жизнь? И теперь уносит?» Лидия Алексеевна задумалась над этими словами: «Эх, жизнь! Могла ли она удовлетворить такого исключительного человека, как Чехов? Могла ли не отравить его душу горечью и обидой? Эту глубокую, чистую душу, такую требовательную к себе. Не нашёл счастья Антон Павлович! Едва прошёл хмель молодости, когда беспредметно бьёт ключом в груди радость бытия, едва он серьёзно и требовательно оглянулся кругом, как уже начал себя чувствовать в пустыне, как уже стал одиноким. Быть может, смутно было вначале это чувство, но становилось все определённее, всё ощутимее… И, возможно, не понимал он и не знает и теперь, что слишком высоко стоит он над всеми и что по его росту в нашей жизни счастья для него ещё нет». Этот удивительный отзыв о Чехове, сделанный безгранично любящей его женщиной, писательницей, тонкой натурой, наверное, наиболее точен и правдив. И вот снова Авилова у койки больного в клинике. Она принесла цветы: «В палате я сразу увидела те же ласковые, зовущие глаза. Он взял букет в обе руки и спрятал в нем лицо. – Все мои любимые… Как хороши розы и ландыши... Вы опоздали, – сказал Антон Павлович и слабо пожал мою руку. – Нисколько. Раньше двух мне не приказано. Сейчас два. – Сейчас семь минут третьего, матушка. Семь минут! Я ждал, ждал... Он стал разбирать книги и газеты, которые я ему принесла. Корректуру положил на стол и слушал отчёт о моём посещении Гольцева. – К сожалению, я почти всё читал, – тихо говорил он. – Неизданные статьи Льва Николаевича Толстого? Последние? Да, это я прочту с удовольствием. Я не разделяю... – Нельзя вам говорить! – прервала я его, – а вы, кажется, собираетесь разбирать учение Льва Николаевича. – Когда вы едете? – Сегодня. – Нет! Останьтесь ещё на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу! Я достала и дала ему все три телеграммы. Он долго их читал и перечитывал. – По-моему, на один день – можно. – Меня смущает это «выезжай немедленно». Не заболели ли дети? – А я уверен, что все здоровы. Останьтесь один день для меня. Для меня, – повторил он. Я тихо сказала: – Антон Павлович! Не могу. Я представила себе: что будет? Я пошлю телеграмму, что задержалась, и Миша сегодня же вечером выедет в Москву. Но положим, что он не выедет, дождётся меня. Какой приём меня ожидает? И это бы ничего! Но ведь я дам ему уверенность, что люблю Антона Павловича, и сделаю так, что от нашего семейного счастья не останется и следа. И его и моя жизнь превратится в ад. А из-за чего? Из-за лишнего визита продолжительностью в три минуты. Мысли беспорядочно неслись в моей голове. – Значит, нельзя, – сказал Антон Павлович. И я убедилась, что он опять всё знает и всё понимает. И Мишину ревность, и мой страх. …Ах, как мне хотелось встать тут на колени, около самой постели, и сказать то, что рвалось наружу. Сказать: «Любовь моя! Ведь я не знаю... не смею верить... Хотя бы вы один раз сказали мне, что любите меня, что я вам необходима для вашего счастья. Но никогда... Если я останусь сегодня, это будет решительный шаг. А говорить об этом нельзя. Вы слабы, вас нельзя волновать». – Выздоравливайте! – сказала я и пожала руку Антону Павловичу сверху, как она лежала на одеяле. – Счастливого пути, – сказал он, и я быстро пошла к двери. И, как в прошлый раз, он меня окликнул. – В конце апреля я приеду в Петербург. Самое позднее в начале мая….» Вряд ли ещё кто-то описал Чехова в дни его болезни с такой любовью, с таким состраданием, с таким сочувствием. «Одинокому везде пустыня». Лидия Алексеевна вернулся в Петербург. Чехов остался в больнице, в тяжёлом состоянии. Эта встреча показала многое, она показала их чувства, хотя Авилова всё ещё не могла поверить во взаимность. Ей хотелось каких-то определённых слов, уверений, но разве всегда нужны эти уверения, разве не видно по отношению к ней Антона Павловича, какие чувства переполняли его. Уже через несколько дней пришло от него письмо. Чехов писал: «Москва 1897 г. марта 28. Ваши цветы не вянут, а становятся всё лучше. Коллеги разрешили мне держать их на столе. Вообще, Вы добры, очень добры, и я не знаю, как мне благодарить Вас. Отсюда меня выпустят не раньше пасхи; значит, в Петербург попаду не скоро. Мне легче, крови меньше, но всё ещё лежу, а если и пишу письма, то лежа. Будьте здоровы. Крепко жму Вам руку. Ваш Чехов». А Лидия Алексеевна вспоминала всё, что было в Москве, в его палате. Вспоминала, как он заслонял руками её цветы, чтобы она не унесла их, выполняя требования врачей. И особенно дорогую ей строчку, которую написал он: «Я Вас очень лю благодарю»? И думала свою печальную думу: «Просил он меня остаться? и виновато признавался: «Я слаб... Я не владею собой». И вот сейчас лежит он всё там же, и цветы мои стоят перед ним на столе, но он уже не ждёт меня. Я отказалась остаться «для него» даже на один день, и он понял, что для меня семья дороже его счастья, что моя любовь, между прочим, что во мне ничего нет настоящего: ни мужества, ни самоотверженности, ни силы. Он теперь понял меня до дна и грустно усмехнулся. «Одинокому везде пустыня…». Лидия Алексеевна мечтала о встрече, быть может, мечтала тайно даже от самой себя. Она ждала конца апреля, но здоровье Чехова ухудшалось, и он не смог приехать в Петербург, а осенью его врачи и вовсе отправили за границу. Он уехал лечиться в Ниццу. И началась переписка, которая изобиловала символами. Посылая Чехову вырезки газет со своими рассказами, Лидия Алексеевна надеялась, что он найдёт в рассказах то, что относится непосредственно к нему, признания, адресованные ему. Слова, адресованные Чехову, она вложила в уста героине рассказа «Забытые письма»: «…жизнь без тебя, даже без вести о тебе, больше чем подвиг – это мученичество». «Я счастлива, когда мне удаётся вызвать в памяти звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих губах… Я думаю только о тебе». «Я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь, что любишь меня? Мне так бы хотелось припомнить именно эту простую фразу… Ты говорил о том, что любовь всё очищает и упрощает… Любовь…» А в последнем письме как бы звучит завуалированный вопрос. К кому? Только они двое – Чехов и Авилова – знали, к кому он обращён, этот главный вопрос, столь необычным поставленный. И поставлен очень просто – героиня пишет на «вы», как прежде, а «ты»: «В Вашей веселой рассеянной жизни я была лишь развлечением – и только». Чехов прочитал рассказы в Ницце и в письме от 3 ноября 1897 года сообщил об этом и о своём впечатлении: «Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочитал Ваши «Забытые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. Это, маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма – это неудачная, скучная форма, и притом лёгкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу… Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант, и если Вы до сих пор не верите этому, то потому, что сами виноваты». Авилова надеялась, что Чехов поймёт, и он понял, а она потом переживала и писала о своих переживаниях: «Зачем мне надо было писать ему в Ниццу, послать «Забытые письма», полные страсти, любви и тоски? Разве мог он не понять, что к нему взывали все эти чувства? Зачем я это сделала, тогда как уже твёрдо знала, что ничего я ему дать не могу» Лишь следующим летом Чехов приехал в Россию и тут же отправил письмо Авиловой: «Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на Ваше последнее письмо. Хочется написать подлиннее, но руки отнимаются при мысли, что каждую минуту могут войти и помешать. И в самом деле, пока я пишу эти слова «помешать», вошла девочка и доложила, что пришёл больной. Надо идти. …Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости». Время шло, и Лидия Алексеевна всё чаще с горечью думала: «Неужели я никогда, никогда не принесу ему ничего, кроме огорчений?» И наконец, «собралась с духом и решила поговорить с Мишей». О Чехове, о его болезни, его одиночестве и тоске. «– Помнишь, ты жалел о том, что вытребовал меня телеграммами из Москвы, когда он лежал в клинике? Исправь теперь свою вину, отпусти меня на несколько дней в Ялту. Нельзя же, право, смотреть на мою дружбу с Чеховым с обычной точки зрения, нельзя не оказать ему больше доверия, больше уважения. Мой приезд развлечёт, доставит ему маленькую радость. Я говорила и удивлялась, что Миша меня не прерывает, а слушает молча. Я заранее была уверена, что наш разговор не пройдёт гладко, а вызовет гром и молнии, но у меня были причины надеяться, что дело может повернуться в мою пользу. – Почему бы мне не поехать? – продолжала я. – Ведь я уже не молода и не легкомысленна, Антон Павлович болен... Но тут-то и разразилась гроза. – Ах, он болен! В Ялту? К Чехову? Он болен? Конечно, болен, он чахоточный. Знаем мы этих чахоточных! Ведь это первые... (Он сказал слово, которое я повторить не могу.) Да! Это свойство болезни. Ведь это вы живёте в розовом тумане, ровно ничего не знаете, ничего не понимаете. Ах, как трудно было выдержать спокойный, мирный тон! Кровь бросилась в голову. – Ты несправедлив, – сказала я, – и то, что ты говоришь, возмутительно. Я десять лет знаю Антона Павловича. Знаю его хорошо. Знаю и его безукоризненное отношение ко мне... – Что ты знаешь?! – кричал Миша. – Что ты можешь знать? Тогда и я перестала владеть собой. Когда он любил меня и ревновал, я это понимала и прощала ему его грубость, но теперь, когда он был влюблён в другую, когда смотрел на меня только как на собственность, которую, отложив, всё-таки надо было приберечь, – теперь я возмутилась и негодовала. – Я уеду! – в заключение нашего длинного и бурного разговора заявила я. – Ты так и знай. Уеду! Почему я не только должна терпеть, но и должна всячески содействовать твоему увлечению ничтожной женщиной, а ты, где и как только можешь, препятствуешь моей дружбе с самым умным, благородным и талантливым человеком? – Ты истеричка! – визгливым голосом закричал Миша. – Тебя лечить надо. И ты воображаешь, я не понимаю: ведь ты мне устроила сцену ревности, как самая пошлая баба. Уедешь, а на другой день после твоего приезда в Ялту появится заметка в газете: «Писательница Авилова прибыла в Ялту к Чехову». Будет публичный скандал. Я буду басней города. А на другой день Миша был тих, любезен, предупредителен, но жаловался на здоровье – в сердце перебои, колотье. – Так было у отца незадолго до его смерти. Когда он ушёл на службу, моя маленькая Ниночка уселась у меня на коленях, прижалась ко мне и сказала: – Мамочка, не уезжай от нас. Нам будет очень плохо. Папа будет болен. А я буду плакать, плакать!.. – Это тебя папа научил сказать? – Да, папа. – А ещё что он просил сказать? – А я забыла. Я не уехала…» Трогательны воспоминания о последней встрече с Чеховым, о короткой встрече. О том, что она последняя, Авилова не знала. «Прощание в вагоне было прощанием навсегда…» В середине апреля Чехов приехал в Москву и сообщил об этом Лидии Алексеевне. А она собиралась на дачу. Причём путь пролегал через Москву, а, следовательно, можно было увидеться. Антон Павлович тут же ответил: «1-го мая я буду ещё в Москве. Не приедете ли Вы ко мне с вокзала утром пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины». Но ехать в гости было сложно. На всю пересадку с поезда на поезд было около двух часов. А она же была с детьми… Нужно было их покормить, взять билет. Словом, она описала все трудности поездки в гости. И Чехов приехал сам. Лидия Алексеевна вспоминала: «Едва мы кончили завтракать, как увидали Антона Павловича, который шёл, оглядываясь по сторонам, очевидно отыскивая нас. В руках у него был пакет. – Смотрите, какие карамельки, – сказал он поздоровавшись. – Писательские. Как вы думаете: удостоимся ли мы когда-нибудь такой чести? На обертке каждой карамельки были портреты: Тургенева, Толстого, Достоевского... – Чехова ещё нет? Странно! Успокойтесь: скоро будет. Антон Павлович подозвал к себе детей и взял Ниночку на колени. – А отчего она у вас похожа на классную даму? – спросил он. Я возмутилась. – Почему – классная дама? Но он так ласково перебирал локоны белокурых волос и заглядывал в большие серые глаза, что моё материнское самолюбие успокоилось. Ниночка припала головкой к его плечу и улыбалась. – Меня дети любят, – ответил он на моё удивление, что девочка нисколько не дичится его. Но вот объявили посадку на поезд. Авилова так описала расставание: «Но мы прощаемся не навсегда, – старалась я внушить самой себе. – Возможно, что он даже приедет ко мне или к Сергею Николаевичу». Я не видела, как Антон Павлович простился с детьми, но со мной он не простился вовсе и вышел в коридор. Я вышла за ним. Он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито. – Даже если заболеете, не приеду, – сказал он. – Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого... Вам не по средствам. Значит, не увидимся. Он быстро пожал мою руку и вышел. – Мама, мама, – кричали дети, – иди скорей, скорей... Поезд уже стал медленно двигаться. Я видела, как мимо окна проплыла фигура Антона Павловича, но он не оглянулся. Я тогда не знала, не могла предполагать, что вижу его в последний раз. Тем не менее, я больше никогда его не видела, и наше прощание в вагоне было прощанием навсегда. Почему? Я не знаю. В эту холодную весеннюю лунную ночь в нашем саду непрерывно пели соловьи. Их было несколько. Когда тот, который пел близко от дома, замолкал, слышны были более дальние, и от хрустального звука их щелканья, от прозрачной чистоты переливов и трелей воздух казался ещё более свежим и струистым. Я стояла на открытом выступе балкона, куталась в платок и глядела вдаль, где над верхушками деревьев, рассыпавшись, мерцали звёзды». А потом Лилия Алексеевна написала Чехову письмо, затем другое. Ответа не было. Она прожила в деревне до поздней осени. Было уже ясно, что с Чеховым всё кончено. И всё же ей хотелось узнать, почему, каковы причины, хотя, в принципе, она и об этом догадывалась. И вот ей в руки попал новый рассказ Антона Павловича «О любви». Едва начала читать и сразу поняла, кого Чехов вывел в образах Алёхина и Анны Луганович. Она читала строки, которые относились к ней: «Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали её робко, ревниво. Мы боялись того, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с ней, мне казалось невероятным, что эта моя тихая грустная любовь вдруг грубо оборвёт счастливое течение жизни её мужа, детей, всего дома… Честно ли это? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?» И наконец, признание главного героя, что Луганович «лёгкой тенью легла на мою душу». Луганович – это она, Авилова. Лидия Алексеевна не сдерживала слёз. Она даже не подумала о том, что может рыданиями своими напугать детей. Но иначе не могла – она оплакивала свою любовь. В книге она рассказала: «Долго спустя, когда я узнала, что он в Крыму, я написала в Ялту. Этого последнего письма, которого я себе долго, долго простить не могла, потому что в нём я уж не могла скрыть ни своей любви, ни своей тоски, – этого письма он не мог не получить, так как оно было заказное. Но Антон Павлович и на него не ответил, и я поняла, что между нами не недоразумение, а полный разрыв. Я поняла, что Антон Павлович твёрдо решил порвать всякие отношения, а раз он это решил, так оно и будет. Я растерялась. Целыми часами сидела я где-нибудь в запущенной части сада, в грачиной роще или на канаве, и думала свою неразрешимую думу. Почему? За что? За то, что я отказалась остаться на представление «Чайки»? Нет, этого не может быть! За то, что я застегнула ему пальто? За то, что, возможно, после бессонной ночи в вагоне я была неавантажна, неинтересна, некрасива? Возможно ещё, что, окруженная детьми, багажом, у меня был вид самодовольной наседки? Чего я только не передумала! но ни на одном предположении остановиться не могла: все было слишком невероятно для Антона Павловича, не только невероятно, но даже обидно и унизительно для него. А если и приходило в голову, то... должно же было хоть что-нибудь прийти в голову. Но важно было не то, что я думала, а то, что я чувствовала. Это было не горе, а какая-то недоумевающая и испуганная растерянность». …Как-то вдруг захлопнулось окно на воздух, на солнце, на даль... И как итог переживаний, вырвалось признание – «душу свою я разорвала пополам». А между тем, Лидию Алексеевну ожидало ещё одно испытание. Чехов женился. Об этом сообщила сестра Надя. Лидия Алексеевна продемонстрировала полное безразличие – но это только внешне. В книге же призналась, что «сейчас же… почувствовала сильную слабость, холодный пот на лбу и опустилась на первый попавшийся стул. А когда с помощью сестры пришла в себя, заявила, смеясь: «– Вот история! С чего это мне стало дурно? Ведь мне правда безразлично!» И всё-таки сестра пошла провожать. Авилова продолжила разговор: « – На Книппер женился? – Да. Ужасно странная свадьба... Она стала рассказывать то, что слышала. – Ни любви, ни даже увлечения... – Ах, оставь, пожалуйста! – сказала я. – Конечно, увлёкся. И прекрасно сделал, что женился. Она артистка. Будет играть в его пьесах. Какая связь! Общее дело, общие интересы. Прекрасно. Я за него очень рада. – Но, понимаешь, он очень болен. Что же, она бросит сцену, чтобы ухаживать за ним? – Я уверена, что он этого и не допустит. Я знаю его взгляд на брак. – Нет, это не брак. Это какая-то непонятная выходка. Что же ты думаешь, что Книппер им увлечена? С её стороны это расчёт. А разве он этого не понимает? – Ну, что же? и расчёты часто бывают удачные. Всё-таки очень хорошо, что он женился. Жалко, что поздно. Надя опять стала рассказывать то, что говорили об этой свадьбе. – Даже никто из близких не знал и не ожидал. И на жениха он был так мало похож... Она проводила меня до дома и ушла обратно». Бунин о Чехове и Авиловой Иван Алексеевич Бунин сумел «разгадать» натуру Чехова, причём не без помощи мемуаров Лидии Алексеевны Авиловой. По свидетельству Веры Николаевны Муромцевой-Буниной, он, уже начав книгу о Чехове, вдруг стал сомневаться, продолжать ли её, дописывать ли? Но когда прочитал воспоминания Авиловой, на всех своих сомнениях поставил крест – он, уже, казалось бы, понявший Чехова, снова увидел его совершенно иным, нежели представлял. И Иван Алексеевич вновь засел за работу. Бунин так вспоминал о книге Авиловой и своём решении писать, чего бы это ни стоило: «Сегодня Зуров принёс мне книгу «Чехов в воспоминаниях современников» со словами: «Прочтите, прежде всего «Чехов в моей жизни» Авиловой, я ничего лучше не читал из женских воспоминаний, – необыкновенно талантливо, живо написано, с внутренней правдивостью, с исключительной деликатностью». Я очень заинтересовался, так как Лидию Алексеевну я знал ещё в молодых годах, а в эмиграции мы даже переписывались, но я ничего никогда не слыхал о её отношениях с Чеховым». Прочитав книгу, Иван Алексеевич решил написать не только об Антоне Павловиче, но и о Лидии Алексеевне. В его книге Авиловой посвящено немало страниц, а воспоминания её он цитировал в каждой главе, цитировал много, поскольку то, что написала эта великолепная женщина, иначе ведь и не скажешь. Грех такое переписывать своими словами. Решение писать об Авиловой он объяснял таким образом: «Ведь всем будет интересно знать, что за женщина, которую Чехов любил. Так вот почему он так долго не женился...» Вера Николаевна вспоминала: «В январе 1915 года, когда мы жили всю зиму в Москве между Плющихой и Девичьим Полем, в Долгом переулке, Иван Алексеевич однажды мне сказал: – Я пригласил к нам писательницу Лидию Алексеевну Авилову, с которой я случайно встретился в нашем Книгоиздательстве. Она хочет издать там свою книгу. Я узнал, что Авиловы переехали из Петербурга в Москву, где её муж получил какое-то место. Живут на Спиридоновке, наняли особняк. В назначенный вечер (11 января) она приехала к нам. Я увидела высокую статную женщину в хорошо сшитом чёрном платье, которая поздоровалась со мной с застенчивой улыбкой. Кроме неё, у нас в гостях были моя мать и профессор Политехнического Института А. Г. Гусаков, который в Петербурге встречался с Авиловой, когда был одним из редакторов газеты «Страна», – она там печаталась. Сели за чайный стол. Я стала рассматривать нашу новую гостью, её хорошо причёсанную седую голову, бледное лицо с внимательными серо-голубыми большими глазами. Сначала разговор шёл о войне, раненых, а затем о литературе. Меня поразило, как она не похожа на других писательниц своей скромностью, собранностью, уменьем спорить и выслушивать собеседника. Её литературные вкусы совпадали со вкусами Ивана Алексеевича, в оценке писателей и людей. Говорили мы тогда о нашем Книгоиздательстве писателей, где автор после покрытия расходов по печатанию весь остальной доход получает сам, оставляя на расходы по издательству десять процентов. – Вот и хорошо, что хотите у нас издать вашу книгу, – сказал ей Иван Алексеевич. – Я была бы очень рада, если примут. – А что это? Роман? – спросила моя мать. – Нет, книга рассказов. Потом заговорили о деревне. Авилова рассказывала, что у них имение в Тульской губернии, не родовое, а купленное лет пятнадцать тому назад. – Вот приезжайте, погостите у нас, – приглашала она. – У нас хорошо. Дети мои усадьбу очень любят. Отношения с мужиками хорошие. – А далеко она от Ясной Поляны? – спросила моя мать. – Нет не очень. – У моей бабушки было имение в двадцати верстах от Ясной, – сказала тут я, – мы слезали на станции Лазарево. – Нет, это с другой стороны Ясной, – ответила Авилова, – у нас пересадка в Туле. Иван Алексеевич пошёл её провожать до извозчика. Вернувшись, он сказал: – Представь себе, она сокрушается, что ничего не видала, ничего не знает, а у неё уже седая голова. Она много говорила и о моих вещах, – находит, что я основываю школу... Она на редкость всё понимает и тонко ценит». Лидия Авилова подробно рассказала и о том трагическом для неё дне, когда она узнала о кончине Антона Павловича Чехова: «Миша быстро подошёл ко мне, взял меня под руку и вывел на неосвещённый балкон. – Вот что… – сказал он резко, – вот что… Я требую, чтобы не было никаких истерик. Я требую. Слышишь? Из газет известно, что второго в Баденвейлере скончался Чехов… Так вот… Веди себя прилично. Помни!» Много лет спустя Авилова призналась: «Я пыталась распутать очень запутанный моток шелка, решить один вопрос: любили ли мы оба? Он? Я?.. Я не могу распутать этого клубка». Муж Авиловой умер в 1916 году, причём умер он на Кавказе, куда уехал лечиться, и последняя его телеграмма Лидии Алексеевне была таковой: «Всегда один, ухода нет…» Получила её Авилова уже после его смерти. Лидия Алексеевна надолго пережила мужа. Она умерла в сентябре 1943 года. Ну а после революции она, ещё в 1914 году ставшая членом «Общества любителей российской словесности», вступила во Всероссийский союз писателей, учреждённый в 1918 году. В 1929 году стала почётным членом «Общества А.П. Чехова и его эпохи». Ныне почти забытая, Лидия Алексеевна в конце девятнадцатого – начале двадцатого века получила известность, благодаря своим публикациям в периодической печати, появились и её первые книги. Она была знакома со многими великими мастерами пера того времени. Иван Алексеевич Бунин отметил в книге о Чехове: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой. Прочтя её воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нём приоткрылось. Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними». Он посвятил Лидии Алексеевне тёплые слова: «Вся бледная, с белыми волосами, с блестящими глазами… Молодая девушка с розами на щеках… Я любил с ней разговаривать как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения её были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всём этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела…» Такой Иван Алексеевич впервые увидел Лидию Алексеевну. Любил ли Чехов Авилову до самого последнего вздоха? Кто ответит на этот вопрос? Он ведь женился на Ольге Леонардовне Книппер, и во всяком случае, конечно же, испытывал какие-то чувства к своей законной супруге. Вот что вспоминала хранительница Ялтинского дома-музея А. П. Чехова А.В. Ханило: «Мария Павловна написала, что брат был счастлив. И она права. Чехов говорил, что ему нужна такая жена, которая бы, как луна, на его небосклоне являлась не каждый день. Такой женой и была актриса Московского художественного театра Ольга Леонардовна Книппер. Она любила Чехова и… готова была бросить всё и переехать из столицы к больному мужу в провинциальную Ялту. Но тот сам её остановил, написав, что они – идеальные супруги, ибо не мешают друг другу заниматься любимым делом. И умер он у неё на руках на немецком курорте Баденвейлер, куда приехал после Ялты в 1904 году». Впрочем, некоторые биографы утверждают, что роман «О любви», замысел которого уже сложился у Чехова, писатель собирался начать словами: «Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастливы...» Считается, что это целиком и полностью относится к супружеству Антона Павловича и Ольги Леонардовны. И всё же… Любовь!!! Обратимся к великому мастеру любовной прозы, к Ивану Алексеевичу Бунину… В своей книге он тоже ставил такой вопрос, касающийся любви Чехова: «Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? – Думаю, что нет. «Любовь, – писал он в своей записной книжке, – это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьётся в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, даёт гораздо меньше, чем ждёшь». (О других романах Антона Павловича рассказывается в очерке: «Тридцать романов» Чехова. От «дамы с собачкой» к «адской красавице». (см. Проза.ру Николай Шахмагонов) Вера Николаевна Муромцева-Бунина сделала такое важное замечание: «Эти строки (о Чехове) напечатаны Иваном Алексеевичем в десятом томе полного собрания сочинений, изданных «Петрополисом» в 1935 году. В 1953 году Иван Алексеевич в том же томе, на странице 237, красным карандашом, отметив слова «Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет», на нижнем поле страницы твёрдым почерком написал: «Нет, была. К Авиловой». Коснулся Иван Алексеевич и ещё одного важного момента, связанного с воспоминаниями Лидии Авиловой. Некоторые биографы высказывали сомнение в их правдивости. Бунин решительно возражал: «Чувствую, что некоторые спросят: а можно ли всецело доверять её воспоминаниям? Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрыла даже тех отрицательных замечаний, которые делал Чехов по поводу её писаний, как и замечаний о ней самой. Редкая женщина! А сколько лет она молчала. Ни одним словом не намекнула при жизни (ведь я с ней встречался) о своей любви. Её воспоминания напечатаны через десять лет после её смерти». А о Чехове Бунин сказал, что, прочитав Авилову, он по-новому прочувствовал скрытую от всех внутренне целомудренную жизнь Антона Павловича. И помогла эту сделать женщина, у которой был с Чеховым «роман всей жизни».