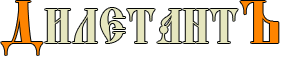в запасе
Хроника Священной войны в рассказах фронтовиков
Уважаемый администратор сайта, обращается к Вам нормальный советский прежде и потом ещё немного послуживший в ВС РФ офицер, ныне офицер запаса.
Недавно делал зубы у превосходнейшего специалиста и безумно красивой женщины. Было это незадолго до 70-летия Победы.
Полковник
Леонид Григорьевич Маламуж
Харьков – Прохоровка – Кенигсберг
Весной 1942 года у всех нас, фронтовиков, настроение было радостным, приподнятым.
Величайшая в истории победа Советских войск в грандиозной Московской битве вселила в наши сердца большие надежды. Нам казалось, что наступил, наконец, перелом в войне, что вот-вот развернётся всеобщее наступление Красной Армии на всех фронтах.
Ничто не предвещало беды, никто не предполагал, что уже зрела большая трагедия на юге России, вызревала незримо от нас фронтовиков подготавливаемая со всею тщательностью и осторожностью лютыми врагами Советской России.
Впрочем, что я тогда мог знать? Был-то всего лишь младшим командиром. А предвидеть суровые испытания, которые свалились на нас летом 1942 года, не могли даже и крупные военачальники. Хотя, когда начинаешь с высоты прожитых лет и военного опыта размышлять над теми событиями, невольно приходит мысль о том, что уж слишком много было подозрительного в той летней трагедии. И невольно задумываешься, а не прикрывается ли термином «бездарность» прямое предательство некоторых довольно высоких чинов?
Конечно, подобных мыслей в ту давнюю пору у меня не могло быть. Что мог знать недавний стрелок-радист пикирующего бомбардировщика Пе-2, волею судьбы превратившийся в стрелка-радиста командирского танка.
А случилось это так.
В 1940 году я окончил среднюю школу и в сентябре поступил в Харьковское авиационное училище на «Холодной Горе». С детства мечтал о море, но в военно-морские училища у нас набора не было. Вот и пошёл в авиацию. Готовился стать штурманом пикирующего бомбардировщика Пе-2 конструктора Петлякова.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, наше училище эвакуировали из Харькова в город Сталинобад. Ныне Душанбе (Таджикистан).
В марте 1942 года по приказу Верховного Главнокомандующего училище расформировали, и я попал под Воронеж, в село Подгорное, в ночной бомбардировочный полк на Пе-2. Экипаж бомбардировщика – три человека. Командир экипажа – летчик, штурман и стрелок радист.
Не могу не сказать несколько слов о тех неизгладимым впечатлениях, которые произвели на меня первые боевые вылеты.
До линии фронта обычно летели спокойно. Пересекая линию фронта, наблюдали, как трассирующие пули и снаряды прочерчивали огненные, казавшиеся подчас разноцветными, стрелы в обе стороны: наши трассеры тянулись к немцам, их трассеры – к нашим позициям. И всё это на фоне ночной тьмы, которую они разрезали таинственными яркими нитями. Кое-где разрывали темноту вспышки разрывов, и тогда то там, то здесь можно было на мгновение уловить блеск водной глади озёр и рек.

Но вот линия фронта оставалась позади, а спустя 5 – 7 минут нас уже окружали вспышки и дымные шапки разрывов зенитных снарядов противника справа, слева, внизу, вверху. Разрывов не слышишь, а только ждёшь «свой» снаряд в брюхо самолёта. Нервы напряжены до предела…Но это не единственная опасность. Постоянно подстерегает и другая – встреча с ночными истребителями противника. Это уже работа для меня. В моём распоряжении два крупнокалиберных пулемёта: вверху – турельный, сектор обстрела которого – 360 градусов. Внизу ещё один, предназначенный для обороны хвоста самолёта и задней полусферы.
Но главная задача для нас – уничтожение наземного врага. А потому приходилось забывать обо всём, кроме выполнения боевого приказа, когда раздавался в наушниках голос Володи Штурмана:
– До цели двадцать.., – и так далее.
Полное сосредоточение на главном, предельное внимание и… вот уже в наушниках голос командира Кости (фамилию, к сожалению, запамятовал):
– Лёнька, приготовиться… Жми!
А самолёт уже пикирует, то есть стремительно несётся к земле, направляемый на цель командиром, а я нажимаю две кнопки сброса бомб. Выйдя из пике, вижу небо, как днём, от прожекторов и зенитных снарядов, но от напряжения не страшно, и я кручусь на турелке, ища самолёты противника.
Первый признак появления «жериков» – это прекращение огня зенитной артиллерии. Если вражеских истребителей нет, то невольно думаешь: «На этот раз Бог миловал!» – и не сбили и не атаковали. Что-то будет завтра?!».
Пересекаем снова линию фронта. Та же картина… Трассеры, разрывы… Но душа поёт, так как мы уже над своей территорией, и голос командира спокойнее звучит в наушниках:
– Лёнька, спой нашу!
И я пою:
Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы летим на пробитом крыле…
На земле нас радостно встречают техники. Они сразу приступают к обслуживанию, заправке и латанию дыр самолёта. А в столовой уже ждут официантки, независимо от времени ночи.
По 100 граммов… И сразу же ужин, и завтрак. А мы с большой сердечной болью смотрим, сколько стаканов с водкой осталось не тронутыми… Это самое большое горе – потеря боевых товарищей. И так каждый раз.
После третьего возвращения с боевого задания, поужинав и отдохнув, командир эскадрильи Костя пошёл к командиру полка за очередным заданием и вернулся с неизвестным лейтенантом.
Мы со штурманом с интересом разглядывали лейтенанта, совсем ещё юного, видно, только что прибывшего из училища. Командир подтвердил предположение, пояснив мне:
– Лёня, этот лейтенант будет летать вместо тебя. Я умолял командира полка, доказывал, что лучшего стрелка-радиста мне не надо, но, как видишь!..
– Зачем же лейтенанту летать стрелком? – интересовался я.
– Причина одна, – сказал командир, – самолётов нет, промышленность ещё недостаточно выпускает. И чтобы лейтенант не терял лётные качества, его назначали вместо тебя. Так и других, в остальные экипажи.
Что ж, приказ – есть приказ.
В очередную ночь мой экипаж с боевого задания не вернулся. Бомбили железнодорожную станцию Пятихатка, и никто даже не видел, как они были сбиты. Может быть, виноват лейтенант – опыта у него, как у стрелка, не было!? Я плакал от горя, но что мог поделать, война – есть война.
Самолётов по-прежнему не хватало, и меня вместе с другими стрелками, отправили на фронт, под Харьков, на укомплектование танковых частей. Там готовилось наше наступление.
Я попал радистом на танк «КВ» к командиру танкового батальона 556-го танкового полка 169-й стрелковой дивизии. Так 10 мая 1942 года я стал танкистом, причём не просто танкистом, а попал на тяжёлый танк, что не могло не вызвать гордости.
О танке КВ – «Климент Ворошилов» – ходили легенды. Он был создан в 1939 году в конструкторском бюро Ж.Я. Котина, имел мощную по тем временам 110-ти миллиметровую броню, которую не пробивала ни одна танковая пушка гитлеровцев, мог развивать скорость до 37-ми километров в час, а двигатель его имел мощность в 600 лошадиных сил. Узнал я, что, кроме основного боевого танка, были созданы и некоторые его модификации – так называемый артиллерийский танк КВ-1, на который установлена 152 миллиметровая гаубица-пушка, и танк огнемётный КВ-8, вооружённый огнемётом и 45-мм пушкой.
В то время подразделения, вооружённые «КВ», могли сражаться с противником, превосходящим по количеству танков в 8 – 10 раз. Мне рассказали о многих казавшихся невероятными подвигах танкистов, воевавших на этом тяжёлом танке. Так ещё в первый год войны командир танка КВ старший лейтенант А. Кожемячко за день боя уничтожил 8 фашистских танков, 10 вездеходов с автоматчиками, да ещё умудрился притащить на буксире исправный вражеский танк, экипаж которого в страхе разбежался, завидев наш КВ. В тот день на броне КВ старшего лейтенанта Кожемячко танкисты насчитали около 30 вмятин от снарядов. Но бывали случаи, когда танки возвращались из боя, имея до 200 попаданий. И при этом ни один из вражеских снарядов не пробивал броню.
Уже после войны мне стало известно, что осенью 1941 года гитлеровское командование издало директиву, запрещающую вступать в бой с тяжёлыми советскими танками, а период битвы под Москвой 1-я гвардейская танковая бригада захватила несколько вражеских орудий с надписью на бронированных щитах: «Стрелять только по КВ».

Сначала КВ был вооружён орудием калибра 76-мм, которого было вполне достаточно для поражения фашистских тяжёлых танков «рейнметалл» и средних Т-III и Т-IV. Пулемётное вооружение КВ-1 использовалось также весьма эффективно: один пулемёт был спарен с пушкой, огонь из второго (курсового) вёл стрелок-радист, а для отражения внезапных атак с тыла служил пулемёт, установленный в кормовой нише башни. Позднее танк вооружили 85-ти миллиметровым орудием.
Вот на такой славной машине мне посчастливилось воевать. Но, обо всём по порядку.
В мае 1942 года наше командование готовило большое наступление, но бездарный маршал Тимошенко эту операцию провалил. Это теперь, когда открыты многие важнейшие документы, свидетельствующие о подготовке, ходе и исходе операции, в то, что именно бездарность Хрущева и Тимошенко привели к жесточайшему нашему поражению и страшной трагедии, верится мало. Если читатель, имеющий даже самые элементарные знания в военном деле, обратится к появившимся в настоящее время трудам, освещающим ту трагедию, он сможет сделать неожиданные выводы...
Недаром ведь ещё К. Клаузевиц писал: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». Поэтому читатель не сможет не понять, что начинать плохо подготовленную операцию из выступа, который не может не вызвать стремление противника подрубить его под самое основание, когда у основания этого выступа сосредоточены ударные группировки, приготовленные для такого удара, не бездарно, а скорее преступно.
Конечно, ни младшие командиры, ни даже командиры взводов, рот или батальонов не могли знать общей оперативно-тактической обстановки, но её не могли не знать Тимошенко и Хрущёв, настаивающие на проведении операции.
Да, мы много знать не могли. Мы делали дело, которое поручено каждому из нас. Об этом и пойдёт рассказ.
В тот год весна на юге выдалась ранней. Луга зазеленели ещё в апреле, следом и на деревьях распустились листочки, а к 10 мая уже черёмуха зацвела.
В ночь перед началом наступления было тревожно. Непривычно как-то в танке, тесно, хотя к тесноте я привык – в кабине стрелка-радиста бомбардировщика тоже ведь не разгуляешься. Да, ко всему человек привыкает, особенно если есть время для тренировки.
Тренироваться в роли стрелка-радиста Пе-2 время было, а здесь его оказалось в обрез. Ответственность же немалая. Я ведь, как упоминал, попал радистом в экипаж командира батальона. Это не лёгкий стремительный пикирующий бомбардировщик, а тяжёлый танк с мощнейшим по тем временам вооружением.
Отбой в канун наступления было приказано провести сразу после ужина, которым нас накормили до 20.00. Правда, я попросил разрешения ещё немного задержаться, чтобы окончательно освоиться танковой радиостанцией. Затем отправился на отдых, но долго не мог заснуть. О чём думал? Конечно, о доме. О чём ещё думать бойцу перед боем?
Теперь, когда за плечами долгие годы офицерской службы, трудно представить себя младшим командиром, почти рядовым, с нынешних-то высот. У офицера совершенно иное восприятие жизни и службы, как в мирное время, так и на войне. Знакомые писатели мне говорили, что офицеру очень трудно создать солдатский роман или повесть, так же как ещё сложнее написать офицерский роман тому, кто никогда не носил погон или, в крайнем случае, получил воинское звание каким-то левым, замысловатым способом, характерным для постсоветского периода.
Но перед смертью все равны, а потому перед боем, наверное, каждый вспоминает своих родных и близких. Конечно, не был лишен таких мыслей и я, поскольку с лета сорокового года не был дома.
Предки мои – из рода запорожских казаков. Семейное предание гласило, что ещё при Екатерине Великой предки наши после упразднения Запорожской Сечи указом сей Государыни, были переселены в разные южные районы России, причём, большая их часть, на Кубань, где требовалось укрепить границы Державы, подвергавшиеся набегам горских народов. Там образовалось Черноморское верное казачье войско.
Мой пращур Маламуж с семьёй вместе некоторыми другими казаками, остановился в двухстах километрах от моря на реке Аджамке. Там они и построили село, протянувшееся вдоль обоих берегов, которое и назвали Аджамкой. Прельстила их благодатная земля – сплошной, жирный чернозём. Так превратились они, бывшие казаки-рубаки, в мирных пахарей-хлеборобов.
О столь далёких предках сведений прямо скажем немного, но вот то, что у деда моего было шесть сыновей и две дочери, мне хорошо известно. Он был трудолюбив, а потому имел крепкое крестьянское хозяйство – коней, коров, волов, овец, много птицы. Сыновья выдались все как один рослые, красивые, сильные: Павло, Сергей, Карпо, Грицко, Степан и самый младший – Кирилл, над которым все любили подшучивать. Мой дед Иван был сложения могучего и силы необыкновенной. Любил рассказывать нам, внукам, как его отец и он вместе с другими казаками защищали родную землю. Поведал и прадеде, который, когда приходилось сойтись с турком с бою, разрубал противника одним ударом сабли пополам до самого пояса.
Дед любил петь и научил нас многим старым казацким песням. За некоторые из них в довоенное время, а точнее, сразу после революции, в годы разгула троцкистов, давали 10 лет. Я некоторые песни и теперь помню.
Село Аджамка находилось в 20 километрах от Кировограда (Елизаветграда), а потому быстро строилось и разрасталось. Земли было много, селяне богатели год от года. Сами построили большую церковь, две школы, магазины, больницу и прочие хозяйственные учреждения. В село потянулись учителя, врачи, торговцы из города.
До Первой мировой войны в Русскую армию призывали с 22 лет, и мои дяди поочередно проходили военную службу, а до службы и после неё учились, работали в хозяйстве. Мой отец и дядя Карпо работали в городе, откуда и служить уходили. Мой отец служил в лейб-гвардии. Полк его дислоцировался в Польше. В годы войны выслужил офицерский чин и стал полным георгиевским кавалером. Воевали в Первую мировую все братья, кроме одного – Сергея. Он по существовавшим тогда правилам был оставлен при старых родителях, и всё большое хозяйство легло на его плечи.
Семейное предание хранит такой примечательный случай, с ним происшедший. Однажды по сельской улице проводили племенного быка. Видимо, что-то испугало это могучую животину. Бык вырвался и кинулся на дядю Сергея, который нёс сено на вилах. Дед Иван крикнул сыну: «Тикай!», а сам побежал в хату за берданкой. Когда же вышел из хаты, увидел, что бык лежит вверх ногами на земле, а Сергей, одной рукой вмяв в землю рог, другой лупит быка по рёбрам. Когда он отпустил быка, тот вскочил на ноги и, опустив голову, послушно пошёл прочь.
В 1938 году я гостил во время каникул у дяди Сергея. Он тогда работал фельдшером в колхозе. Ему было уже за семьдесят, но он запросто правой рукой за рога поворачивал быку голову, а левой закапывал в глаза ему лекарства. Мне же говорил: «Бык сдаётся, когда чувствует боль в шее. Имей это в виду».
Но какая нужна сила, чтобы свернуть этак вот быку шею!
Уже после войны я узнал и про такие его подвиги. Когда в селе почти не осталось мужчин, дядя Сергей стал похаживать к девчатам на другую сторону реки. Однажды соперники подстерегли его на мосту через реку. Результат был неожиданным для них – троим пришлось выплывать из реки, а двоим на корточках уползать с места схватки.
Помню ещё, что отец рассказывал такое. Как-то дед Иван попросил: «Серёга, накоси сена скоту!». А тот в ответ: «Ой, тату, живот болыть». Через некоторое время дед выходит во двор и видит крестьянскую телегу, на которой лежит два мешка овса, вся сбруя от двух коней, и всё это поднимается и опускается. Под телегой спрятался от солнца дядя Сергей и одной ногой то поднимал, то опускал телегу.
Война разметала всю семью, разбросала братьев по фронтам. Уже после войны стало известно, что дядя Кирилл погиб смертью храбрых на реке Терек, на Северном Кавказе.
Следует сказать и ещё об одном, уже прославленном лётчике, моём двоюродном брате, Терентии Трофимовиче Маламуже. В годы гражданской он воевал у Будённого, затем окончил авиационное училище вместе с Чкаловым и Коккинаки. Сражался в Испании, испытывал самолёты, в 1937 году был награждён орденом Ленина и погиб при испытании ТБ-7 под Магаданом. Это случилось на Калыме, на реке Лабуя при выполнении государственного задания. Самолёт он испытывал знаменитый. Ни в одной стране мира в ту пору подобных машин не было. Эти гигантские самолёты бомбили Берлин ещё в сорок первом, а в сорок втором на таком самолёте Вячеслав Михайлович Молотов летал в США. Есть и доля труда моего двоюродного брата в том, что ТБ-7 вошёл в боевой строй советской авиации.
Терентий Трофимович Маламуж занесён в историю Колымы и Чукотки. На месте падения самолёта в 1973 году жители села Лабуя и учащиеся профтехучилища поставили на общественных началах обелиск. На именной плите написано: «Герою гражданской войны, отважному лётчику Терентию Трофимовичу Маламужу (15.03.1901 – 12.09.1938) погибшему в авиационной катастрофе». Городская школа № 17 носит имя лётчика Т.Т.Маламужа.
Впрочем, я уже несколько забежал вперёд. Разумеется, перед наступлением думал я более простые и ясные думы – вспоминалось родное село, вспоминались отец и мать, с которыми простился я перед войной, ещё не ведая, что грянет гром.
Вернёмся же в то майское утро 1942 года, когда мы после девятичасового сна, что на фронте чрезвычайная редкость, подняли нас с первыми залпами артподготовки. Мы спокойно, без суеты, позавтракали и приготовились к атаке. И вот ровно в 7.30 в небо взмыли ракеты. Прозвучала короткая команда «Вперёд», и наш командирский танк двинулся чуть позади боевого порядка батальона. Так начался мой первый наземный бой. На фронте, как уже упоминал, был я не новичком, но прежде воевал в воздухе.
Враг сразу же оказал ожесточённое сопротивление. Признаться, я мало понимал, что происходит на поле боя. Понимание пришло позже, когда вник в тактику действий танковых войск. Впрочем, в тот первый боевой день на земле, всё мое внимание было сосредоточено на обеспечение связи командира батальона с командирами танковых рот и с вышестоящим штабом. Наш танковый батальон был придан одному из стрелковых полков дивизии и поддерживал атаку пехоты.
Поле было затянуто дымом от разрывов. Снаряды рвались и вокруг нас. Были попадания и в наш танк, к счастью, не причинявшие нам вреда. Когда стальная болванка подкалиберного снаряда врезается в броню, впечатление не из приятных. Броня в месте удара накаляется порою до красна, и от неё летит окалина. При таком скользящем ударе снаряд уходит рикошетом, и броня постепенно принимает свой обычный вид.
К весне 1942 года у гитлеровцев уже появились противотанковые средства, способные поражать наши тяжёлые танки, правда, при попадании лишь в наиболее уязвимые места.
За первую половину дня мы продвинулись от одного до трёх километров. От утреннего приподнятого настроения вскоре не осталось и следа. Мы несли потери. Врагу удалось подбить несколько тридцатьчетвёрок, немало полегло и наших солдат – пехоты-матушки.
Во время короткой передышки комбат в сердцах сказал, что внезапности не получилось – гитлеровское командование, судя по хорошо организованной обороне, знало о нашем наступлении.
В то время я не придал особого значения этим словам, но теперь, спустя годы, когда появились описания той операции, сделанные и нашими и зарубежными исследователями, невольно задумался всё о том же – в чём всё-таки причина того, что случилось под Харьковом: в заурядной бездарности Тимошенко и Хрущёва или в прямом предательстве?
Безусловно, исследователи ответят на этот вопрос, который ещё недавно казался невероятным. Тогда, в 1942 году, будучи радистом командирского танка, я не мог оценить происходящее, которое вряд ли до конца оценивали даже командиры частей и соединений. Значительно позднее, на завершающем этапе своей службы, будучи преподавателем высших офицерских курсов «Выстрел», являвшихся кузницей командиров мотострелковых и танковых полков, я по иному осмысливал «случайности» на войне, поскольку, при подготовке к занятиям со слушателями использовал колоссальное количество исторической литературы.
Меня поразили резкие, весьма нелицеприятные оценки, которые, к примеру, дал Фёдор Маренков в своей книге, названной: «Государь и погань. Непроизнесённая речь адвоката в защиту И.В.Сталина». (Москва. Палея, 1995 год. Стр. 118).
«На обвинение И.В.Сталина в трагедии наших войск под Харьковом следует остановиться подробнее:
В своих мемуарах Хрущёв признаёт:
1. В конце 1941 года – начале 1942 года они с Тимошенко разработали и предложили Ставке Верховного Главнокомандования провести наступательные операции в районе Барвенкова по окружению Харькова. Никто им этого плана не навязывал и не приказывал против их воли.
2. Для проведения операции в распоряжении Тимошенко и Хрущёва находились:
– 6-я армия,
– 57-я армия,
– две танковые бригады,
– две противотанковые бригады,
– три кавалерийских корпуса.
Войск у них было 500 тысяч…
3. Тимошенко и Хрущёв, прорвав на узкой полосе фронт противника, ввели 500 тысяч войск, не позаботившись о расширении участка прорыва и закреплении. Этим дали возможность немцам закрыть введённые войска в котле.
4. Тимошенко и Хрущёв не заботились о технике, не обеспечили горючим и боеприпасами, т.е. сами обезоружили свою армию.
По существу это был преднамеренный ввод огромной группировки войск в кольцо врага, для сдачи врагу без боя.
Что это было именно так, свидетельствует сам Хрущёв в своих мемуарах: «Всё было кончено. Городнянский, командующий 6-й армией, не вышел, весь штаб погиб. Командующий 57-й армией Подлас – погиб. Штаб тоже погиб. Погибло много генералов и полковников, командиров и красноармейцев. Вышли очень немногие, потому что расстояние между краями в этой дуге было небольшим. Окружённые войска были на большой глубине впереди. Технику они не могли использовать, не было горючего, не было боеприпасов, а пешком идти – велико расстояние.
Я летел в Москву. Мы потеряли много тысяч войск, много тысяч. И мы эту операцию закончили катастрофой. Инициатива наступления была наша с Тимошенко.
Я… ехал, летел и шёл к Сталину, как говорится, отдаваясь на волю судьбы, что будет – не знаю! Когда поздоровались, Сталин мне говорит:
– Немцы объявили, что они столько-то тысяч наших солдат взяли в плен. Врут?
Я говорю:
– Нет, товарищ Сталин, не врут. Эта цифра, если она объявлена немцами, довольно точна. У нас примерно такое количество войск там было. Даже чуть больше».
И.В.Сталин чувствовал измену Тимошенко и Хрущёва, о чём свидетельствует сам Хрущёв:
«За обедом он (Сталин) завёл разговор довольно монотонным и спокойным тоном. Смотрит на меня и говорит:
– Вот, в Первую мировую войну, когда наша армия попала в окружение в Восточной Пруссии, командующий войсками генерал, кажется, Мясников, Царём был отдан под суд. Его судили и повесили.
Сталин дальше свои мысли не развивал. Но и этого для меня было достаточно».
Из всего того, что признаёт Хрущёв, даже не будучи военным, любой здравомыслящий человек не может отрицать измену Родине командующего фронтом Тимошенко и члена военного совета – Хрущёва.
Объяснения Хрущёва, что в трагедии виноват И.В.Сталин, лживы и преступны.
Если Хрущёв и Тимошенко боялись Сталина, и поэтому сдали Гитлеру 500 тысяч войск с техникой и вооружением, имея возможность их вывести из окружения, то как же они не боялись Сталина, сдав без боя 500 тысяч войск Гитлеру, бежать к И.В.Сталину, грубо говоря, даже без штанов?
О том, что Тимошенко и Хрущёв изменили Родине, свидетельствует сам Хрущёв.
Были преданы:
– командующий 6-й армией генерал Городнянский,
– командующий 57-й армией генерал Подлас,
– командующий конной группой и его сын покончили жизнь самоубийством.
Возвращаясь к обвинению, не могу не признать И.В.Сталина виновным в том, в чём обвинил его Хрущёв. В том, что разгадав измену, пошёл на поводу и Молотова и не расстрелял Хрущёва и Тимошенко.
За это он ответит сам лично перед погибшими».
Здесь нужно ещё добавить, что, по словам В.В.Карпова, «На участке прорыва сосредоточили 22 дивизии, 2860 орудий и 5600 танков. Кроме того, в прорыв должны были вводить два танковых корпуса, три кавалерийские дивизии и мотострелковую бригаду. Да ещё в резерве у командующего фронтом оставались две стрелковые дивизии, один кавкорпус и три отдельных танковых батальона. Кроме того, соседний Южный фронт выделял на усиление три стрелковые дивизии, пять танковых бригад, четырнадцать артиллерийских полков РГК и 233 самолёта».
Хрущёв и Тимошенко не могли не знать, что противник уже сосредоточил у основания будущего прорыва мощную группировку сил и средств для проведения операции под кодовым названием «Фридерикус I». Эта группировка подрезала под корень Барвенковский выступ. Разыгралась небывалая после июня – июля сорок первого года трагедия. В той был виновен изменник Павлов, в этой – Тимошенко и Хрущёв. Кстати, именно Хрущёв реабилитировал после смерти Сталина изменника Павлов.
После всего этого становится вполне понятно, почему немцы ждали нашего удара и ответили на него контрударами ещё более мощными.
Они обошли нашу группировку с двух сторон, и мы под Харьковом оказались в котле до 60 километров.
Недавно в одной из книг я прочитал отрывок из летописи противостоявшей нам 71-й пехотной дивизии противника:
«16 мая, вскоре после 4 часов, батальон занимает исходное положение для наступления в направлении Весёлое – Липцы (В районе этих пунктов прорвались советские 169-я и 244-я стрелковые дивизии – ред.). В 7 часов, после непрерывного продвижения, были достигнуты высоты перед указанным местом. Оба фланга врага (очевидно, речь идёт о 244-й сд Истомина и 169-й сд Рогачевского) были уже охвачены танками и мотострелками, поэтому большой работы для батальонов не было. Однако, в одном месте у Бабки враг образовал предмостное укрепление. Поэтому батальон получает приказ отправиться для использования туда. Плацдарм должен быть ликвидирован».
Я помню этот бой, помню, что немало гитлеровцев полегло перед позициями наших стрелковых подразделений, прикрываемых нами. Особенно нам в те дни досаждали вражеские бомбардировщики и в первую очередь пикировщики юнкерсы. Бомбы засыпали наши боевые порядки, а советская авиация появлялась редко – мало её ещё было тогда.
Мы наносили гитлеровцам солидный урон, их атаки на предмостные укрепления захлёбывались, но после авиаударов и артиллерийской подготовки враг снова бросался на наши позиции.
Я снова касаюсь именно приведённых выше описаний боевых действий:
«Сначала был 8-км марш. Батальон проходил Петровской, которая была полностью разрушена. Ночью, после вечернего марша, батальон остановился. Очевидно, противник заметил его, так как по только что занятым позициям был открыт сильный огонь. Тяжёлые вражеские танки, которые находились перед позициями, накрыли их снарядами. Появилось много убитых и раненых. Был ранен и командир батальона, гауптман Ганн (Hahn). Его заменил обер-лейтенант Штальманн (Stahlmann)».
Да, гитлеровцам наши тяжёлые танки доставляли немало хлопот. Мы уничтожали их бронетехнику и живую силу, несмотря на то, что числом боевых машин и личного состава не только не превосходили, но значительно уступали врагу.
Читаю далее: «С началом великолепного дня 18 мая «Штуки» (имеются в виду пикирующие бомбардировщики Ю-87 – ред.) и бомбардировщики выли над позициями батальона и атаковали врага непрерывно. Весь день продолжались эти налёты авиации, но под вечер содрогнулась земля, и крупные массы противника начали наступление на широком фронте (началось наступление 28-й и 38-й армий). Всё покрылось дымом и пылью, утонуло во вражеской канонаде. Своя артиллерия беспрерывно дубасила по рядам атакующих, ей помогали «Штуки» и бомбардировщики. Наступающий враг был полностью разбит. То, что осталось ещё от врага и могло бежать, искало спасения в бегстве. Враг был успокоен и на левом фланге. Это нападение было для него уничтожением».
Действительно, 18 мая нам пришлось жарко. Уже стало сказывать численное превосходство врага, которое постоянно увеличивалось. А ведь перед наступлением мы были уверены в победе, нам говорили о том, что скоро будет освобождён Харьков. Но уже многим нашим, командирам, судя по разговорам, стало ясно, что наступление не удалось. И многие недоумевали, почему старшее командование упорствует, почему нас по-прежнему гонят на Харьков, хотя враг уже оправился от наших первых ударов и оказывает всё более организованное и сильное сопротивление.
Вот строки из гитлеровских документов: «Утром 19 мая жестокая борьба продолжается. Русские снова переходят к атаке, сначала – на участке батальона, затем – атакуют соседнюю часть справа. В течение первой половины дня нападение становится всё более массируемым. Противник использует большие силы, он пытается всеми средствами прорваться в Харьков. Все имеющиеся в распоряжении собственные силы и тяжёлое оружие должны были быть задействованы, чтобы отразить этот удар. При изматывающей жаре пехотинцы лежат в своих окопах и отражают эти продолжающиеся уже в течение нескольких дней нападения. Сразу после обеда русские атакуют по всей линии снова. Вызванные «Штуки» быстро появляются в назначенном месте и выдалбливают противника. Всё же вмешиваются самолёты неприятеля и как граблями чистят наши позиции своим бортовым оружием. После того как около 17.00 вражеское давлением ослабло, много танков противника продолжало перемещаться в сумерках. Однако ночь прошла спокойно.
20 мая в 03.00 начался русский ураганный огонь, на который ответила собственная артиллерия. Воздух дрожал от грохота выстрелов и разрывов. В 5 часов вражеское давление усилилось – самолёты противника атакуют позиции батальона бомбами, бортовыми пушками и пулемётами и создают много сложностей. В 6 часов в борьбу вмешиваются «Штуки», что приносит ощутимое облегчение. В наземном бою участвуют и два зенитных орудия. Вражеские танковые соединения осыпаются бомбами и снарядами и несут сильные потери. Вплоть до полудня продолжается борьба. Наконец, наступательная сила врага сломлена, и это приносит спокойствие на участком батальона. Однако с севера ещё долго доносился шум танковой битвы (очевидно, имеется в виду танковое сражение, в котором участвовали наша танковая группа в составе 6-й гвардейской, 57-й и 84-й танковых бригад и немецкая танковая группировка из состава 3-й и 23-й танковых дивизий)».
Радисту танка, пусть даже командирского, трудно со всею полнотою прокомментировать происходящее. Можно сказать одно, приведённые выше строки передают тот накал борьбы, который я не только наблюдал, но и испытывал на себе в те дни.
Далее в летописи гитлеровской дивизии даётся скупое описание происходящего в последующие дни. Да, это был перелом в сражении на Барвенковском плацдарме, перелом, который стоил нам очень дорого. Впоследствии, не раз говорилось, что только сумасбродство могло заставить командование фронтом продолжать операцию в котле, из которого, исходя из здравого смысла, надо было немедля выводить войска.
Вот что говорит летопись противника: «С рассветом 21 мая, после спокойной ночи, начинает бить собственная артиллерия. Затем подключаются немецкие истребители, «Штуки» и бомбардировщики. Инициатива с районе Харькова перешла на сторону немцев. Хотя русские продолжают отчаянно защищаться, наступление соседней слева дивизии является успешным.
На участке батальона преобладает в этот день незначительная боевая деятельность, которая затухает 22 мая. Теперь сражение бушует на других участках фронта. На ближайшую ночь для батальона предусмотрена смена, которая была проведена с наступающей темнотой. Батальон марширует в населённый пункт Непокрытая и переходит там к отдыху. Населённый пункт разрушен полностью, что свидетельствует о произошедшем здесь тяжёлом сражении. Теперь батальон снова объединён с полком и дивизией и немного наслаждается заслуженным спокойствием после весьма жестоких и полных лишений усилий последних недель.
25 мая враг приостанавливает свои многочисленные и связанные с большими жертвами атаки перед общим фронтом дивизии и ведёт только лишь незначительную местную подрывную деятельность.
28 мая ослабло давление противника и перед ХVII. A.K. (17-м армейским корпусом), стоящим к северу от LI.A.K. (51-го армейского корпуса). Назначенная от этого XVII. A.K. боевая разведка наблюдает отход противника. Подразделение дивизии, назначенное в разведку, тоже выявляет отход.
29 мая разведка доносит, что Большая Бабка не занята противником. 30 мая туда переносится HKL (передний край обороны). После спокойного последующих дней 4 июня дивизия была сменена частями 294-й пехотной дивизии».
Повторяю, я не случайно выбрал этот отрывок. Противостояли этому немецкому батальону наши подразделения и в частности на некоторых участках против него действовали и танки нашего батальона. Бои были манёвренными, и потому это случалось не всегда, однако, хотя я, занятый обеспечением связи и не слишком вникал в происходящее, читая приведённые выше записи, узнаю теперь некоторые ситуации, складывавшиеся на поле боя.
Наших военных мемуаров, посвящённых тем событиям, практически нет. Харьковскую трагедию принято было обходить стороной. А уж если и касались её иные мемуаристы, то спешили писать по-своему, так как им выгодно. При изучении многих важнейших этапов Великой Отечественной войны, особенно этапов трагических, историку придётся иметь дело, как это точно выразил мыслитель Русского Зарубежья И.Л.Солоневич, с «самооправдывающимися мемуаристами». Историк С.Мельгунов писал в своё время: «Несколько искусственная и вызывающая поза какой-то моральной непогрешимости, которую склонны без большой надобности занимать самооправдывающиеся мемуаристы» вытекает из того, что «каждый из современников видит то, что он хочет», а потому «самооправдывающиеся мемуаристы становятся в благородную позу и обличают других».
Радисту танка не в чем оправдываться, поскольку он, как и все его товарищи, отвечал в той операции за своё, конкретное боевое дело. То же и механик-водитель, который должен был вести танк с таким расчётом, чтобы не подставить бортовую броню под огонь противотанковой артиллерии, то же и наводчик, от которого во многом зависела живучесть танка. И весь этот маленький коллектив как бы собирал воедино и цементировал командир, от правильных решений и команд которого зависела жизнь каждого члена экипажа.
Не буду описывать все бои – они для радиста в общем-то однообразны. Я не мог не видеть, как мрачнел командир батальона, каждый день, подсчитывая всё новые и новые потери. А сопротивление врага всё усиливалась, и мы всё чаще отражали сильнейшие его контратаки.
И вдруг, приказ на отход, и первые пугающие фразы об угрозе окружения.
Помню, как в контратаке под селом Грушевка наш полк, назначенный в арьергард, перешёл к обороне, чтобы остановить немцев и дать возможность отойти нашим главным силам дивизии, то есть пехоте-матушке. Задачу выполнили, но в полку осталось всего 9 танков, которые вскоре пришлось взорвать, так как не было снарядов и горючего. Вот так, вполне исправные танки, танки, которые врагу было подбить не под силу – и взорвать. Кто же виновен в этом?!
Однажды, уже в сорок четвёртом, мне пришлось вспомнить о тех подрывах прекрасных боевых машин, когда меня вызвали в отдел контрразведки «Смерш», чтобы спросить за танки, не взорванные просто так, а подбитые в бою… Но об это в своё время.
Взорвав танки, мы превратились в пехоту и отступали пешком до самого Дона.
На пути отступления всё кругом горело – деревни, колхозы, поля. Кругом лежали трупы, убитый скот. Беженцы и военные – всё перемешалось. Кое где началась паника. Но главное – еды никакой. Короче говоря, спасайся, кто может… Ну а бравых хрущёвских политработников и след простыл.
Кто виноват во всём этом? Как получилось, что хорошо, казалось бы, подготовленное наступление, завершилось такой трагедией, тогда я понять не мог. Да и не до размышлений было.
Подошли мы, измученные и оборванные к Дону, где была организована переправа, которую бомбила немецкая авиация. Переправляли только штабы, раненых и матерей с детьми.
Постояли мы, посмотрели на всё это, и поняли, что надо спасение утопающих – делом рук самих утопающих. Куда подевались организаторы наступления, возглашавшие поход на Харьков?
Хорошо природа Дона. Было бы чем полюбоваться, когда б не горькое горе войны, обрушившееся на эти края.
Я с небольшой группой командиров и красноармейцев отправился вверх по течению Дона. Прошли около полутора километров, разделись и поплыли через реку. Я в палатку положил красноармейскую книжку, комсомольский билет, фотографии родных, взял пилотку в зубы и поплыл. Спасло меня то, что я хорошо плавал и почти полуживой доплыл до противоположного берега в районе села Вёшки, где мне помогла выбраться из воды казачка, а многие из моей группы не доплыли. Село Вёшки связано с именем писателя Михаила Александровича Шолохова. В те дни от бомбёжки погибла мать писателя.
Недавно, вспоминая те горькие дни, я открыл «Тихий Дон», прочитал: «Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше – перекипающее под ветром воронёной рябью стремя Дона».
Да, сколько же молодых жизней унесло это стремя, скольких замечательных, уже обстрелянных, видавших виды солдат и командиров не досчитались мы после той переправы через Дон. Жара стояла в те дни, но, по-моему, более соответствовали тем впечатлениям другие Шолоховские строки: «Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дымах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой». Нет, не туман, а гитлеровские части уже через несколько дней начали сползать серыми гадюками к Дону, чтобы форсировав его, идти дальше и дальше, пользуясь подаренным им Хрущёвым и Тимошенко грандиозным успехом, какого, по мнению современных исследователей, они не знали даже в сорок первом…
Теперь, знаю всю подноготную той операции, я считаю, что какое-то чудо спасло меня, ведь в плен в те дни попало народу больше, нежели в сорок первом. Враждебные России средства массовой информации стократно преувеличили количество пленных в сорок первом, а вот в мае июне сорок второго действительно случилась трагедия. Причём под Харьковом попали в плен или погибли уже хорошо сколоченные части и соединения.
Мне удалось переправиться и избежать самого страшного, что могло случиться. И вот на противоположном берегу нас собирали в группы, кое-как одевали, кормили и отправляли в сторону Сталинграда. Главное, что я снова был в строю и готов был защищать Отечество.
Спустя много лет я прочитал документ, который рисует картину происшедшего под Харьковом. Позволю себе привести его полностью.
Директивное письмо И.В.Сталина
Военному совету Юго-Западного фронта с оценкой командования фронта по результатам Харьковской операции и о дальнейших задачах войск фронта.
26 июня 1942 года
Мы здесь, в Москве, члены Комитета Обороны и люди из Генштаба, решили снять с поста начальника штаба Юго-Западного фронта тов. Баграмяна. Тов. Баграмян не удовлетворяет ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет Ставку даже и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в Ставку о положении на фронте. Более того, т. Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на Юго-Западном фронте. В течение каких-либо трёх недель Юго-Западный фронт благодаря своему легкомыслию не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел ещё отдать противнику 18 – 20 дивизий.
Это катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильна катастрофе с Ренненкампфом и Самсоновым в Восточной Пруссии. После всего случившегося тов. Баграмян мог бы при желании извлечь урок и научиться чему-либо. К сожалению, этого пока не видно. Теперь, как и до катастрофы, связь штаба с армиями остаётся неудовлетворительной, информация недоброкачественной, приказы даются армиям с запозданием, отвод частей происходит также с запозданием, в результате чего наши полки и дивизии попадают в окружение теперь так же, как и две недели тому назад.
Я считаю, что с этим надо покончить. Правда, Вы очень сочувствуете и высоко цените т. Баграмяна. Я думаю, однако, что Вы здесь ошибаетесь, как и во многом другом.
Направляем к Вам временно в качестве начальника штаба заместителя начальника Генштаба тов. Бодина, который знает Ваш фронт и может оказать большую услугу.
Тов. Баграмян назначается начальником штаба 28-й армии. Если тов. Баграмян покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я поставлю вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться дальше.
Понятно, что дело здесь не только в тов. Баграмяне. Речь идёт также об ошибках всех членов Военного совета и прежде всего тов. Тимошенко и тов. Хрущёва. Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе – с потерей 18 – 20 дивизий, которую пережил фронт и продолжает ещё переживать, то я боюсь, что с Вами поступили бы очень круто. Поэтому Вы должны учесть допущенные Вами ошибки и принять все меры к тому, чтобы впредь они не имели места.
Главная задача фронта на сегодняшний день состоит в том, чтобы прочно удерживать в своих руках восточный берег р. Оскол и северный берег р. [Северский] Донец, удерживать во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. За целость и сохранность всех наших позиций на восточном берегу Оскола, на северном берегу [Северского] Донца и на других участках фронта будете отвечать все вы, члены Военного совета, своей головой.
Мы решили оказать Вам помощь и дать Вам шесть истребительных бригад (без дивизионных управлений), один танковый корпус, два полка РС, несколько полков противотанковой артиллерии, 800 противотанковых ружей.
Стрелковых дивизий не можем дать, так как нет у нас готовых к бою.
Желаю Вам успеха
И.Сталин
ЦАМО, ф.3, оп. 11556, д.8, л. 212 – 214 (копия). Публикуется по ВИЖ № 2 – 1990 г.
Рененкампф… Не он открыл тот порочный путь предательств. Долгое время считалось, что в сражении при Гросс-Егерсдорфе в 1758 году в ходе Семилетней войны, одержать победу над Фридрихом помешала бездарность генерала Апраксина, но ныне военными историками уже доказано, что вовсе не бездарность, а прямая измена этого генерала привела к такому исходу. Тоже самое можно сказать и относительно кампании 1807 года, когда генерал Беннигсен трижды в одном сражении при Прейсиш-Эйлау предал русскую армию, а самое гнусно предательство совершил под Фридландом. Изменниками в годы Первой мировой войны оказались генералы Ренненкамф и Рузский. А как оценить то, что натворил генерал Павлов в июне 1941 года? Неужели тоже случайность? И вот я сам стал свидетелем, да что там свидетелем, я сам вот уж действительно случайно уцелел в трагедии под Харьковом, унесшей жизни тысяч и тысяч отважных советских бойцов и командиров, которые непременно победили бы, если бы одно только мужество могло дать победу. Кстати, эти слава сказал о сражении под Фридландом английский лорд, состоявший при штабе Беннигсена.
С каким приподнятым настроением мы шли в бой в самом начале операции! Сколько было надежд на то, что перелом наступил в войне и мы пойдём вперёд, только вперёд, что скоро будет освобождён Харьков… И вдруг такая трагедия. Рядовые участники операции видели только то, что перед ними. Они не могли сопоставить то, что происходило на острие главного удара и на флангах, но как же это не могло оценить и сопоставить командование фронтом? Враг словно заманивал наши части и соединения, идущие на Харьков, одновременно, жёстко обороняя фланги и срывая там продвижение наступающих группировок. Он затягивал в котёл всё новые и новые ударные соединения, и командование фронтом послушно вбрасывало их в горловину, обрекая на неминуемую гибель.
События под Харьковом имели колоссальное политическое значение. Весной 1942 года войска Красной Армии были уже хорошо отмобилизованы, оснащены, сколочены, они избавились от синдрома сорок первого года, они научились побеждать. Нужно было сломить боевой дух и волю к победе. Эта цель и ставилась под Харьковом. Недаром одна из книг, посвящённая этой трагедии, названа «Харьков – проклятое место Красной Армии».
Но война продолжалась, и нужно было воевать даже в тех невероятно тяжёлых условиях, в которых оказались мы после Харькова.
Итак, я вышел к своим. То, что сохранил свою красноармейскую книжку, несмотря на тяжелейшую переправу через Дон, стоившую жизни многим бойцам и командирам, помогло быстро вернуться в строй. Меня и ещё четырех человек вернули в свой танковый полк. Командир батальона при отступлении пропал без вести. Командир 3 роты стал командиром батальона, а меня назначили командиром танка и, как говорят, пеше по танковому, ушли мы на переформирование в Сальские степи за Волгу.
Июль и август формировались, получали технику, сколачивались и в начале октября 1942 года ночами выдвинулись в район Красноармейска, переправились через Волгу в районе Сталинграда, и с ходу вступили в бой.
В середине октября и начале ноября по Волге плыло столько трупов, что, казалось, по ним можно было бы перебежать на левый берег Волги.
Переправа была страшная. Воздушного прикрытия с нашей стороны не было. Баржи с техникой и личным составом немцы бомбят, люди тонут, нас грузят и переправляют.
Там на переправе я видел Н.Хрущёва (главного организатора всех этих бед и несчастий – ред.), который был членом Военного совета фронта. Но он никаких мер не принимал. Постоял, посмотрел на происходящее, обругал ни за что начальника переправы и уехал. Бои под Сталинградом были страшные. Мы за день отбивали по 6 – 7 атак немцев. Нас одновременно бомбило по 250 самолётов «Юнкерс-88». Одни отбомбятся, другие подлетают и так волнами. Пехотинцы и артиллеристы гибли тысячами. Мы по 2 – 3 дня воевали без еды, так как все баржи с продовольствием немцы топили.
Периодически мы переходили в контратаки, чтобы дать возможность перегруппироваться пехоте и получить подкрепления. В одну из ночей 13 ноября 1942 года мы во время атаки продвинулись на 900 – 1300 метров и наткнулись на организованный огонь артиллерии немцев. Мой танк подбили, он загорелся. Мы стали выбираться из танка. Кто-то успел, а я начал выбираться из башни и тут же получил сильный удар в грудь и снова упал в горящий танк. Правой рукой закрыл глаза, чтобы они не сгорели, хотя мелькнула предательская мыслишка: «Зачем они нужны, если уже погибаю». Почувствовал, что левая рука оторвана, так как я её не ощущаю. Вдруг ощущаю в полузабытьи, что меня кто-то тянет за шиворот комбинезона. Оказывается, когда выскочил экипаж, а меня нет, то наводчик орудия влез наполовину в люк и, нащупав меня в горящем танке, вытащил.
Дотащили меня до Волги, упросили моряков Волжской флотилии, и те на катере перевезли меня на противоположный берег, где подобрали медики и в палатке медсанбата обработали рану, перевязали, завернули в конверт. Несколько человек погрузили в машину и отвезли в Энгельс (в эвакогоспиталь). Через два дня отправили в госпиталь, в Саратов. Оказалось, что рука была цела, а отнялась от удара немецкой пули в плечо навылет. Вес после Сталинградских боёв по прибытии в госпиталь у меня был 56 килограммов.
Когда лежал в госпитале, то уже по радио услышал, что стала Волга, то есть замёрзла, и 19 ноября наши войска перешли в контрнаступление.
Жаль, что шесть дней я не довоевал до наступления. Наступать – это не тяжело. Изнурительно обороняться.
Только находясь в госпитале, понял, почему у нас обороняющихся так мало было танков, самолётов, артиллерии. Оказалось, что Верховное Главнокомандование копило силы и средства для контрнаступления, которое завершилось полным окружением и разгромом гитлеровских войск.
Это было великое сражение в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне.
И ещё… В 1942 году случилось большое горе в семье. Это я узнал уже в 1944 году. Мои родители остались в городе Макеевке, в оккупации. В рабочем шахтёрском городе им было не выжить. Отец продал весь домашний скарб, купил лошадку и телегу, погрузил личные вещи, одежду, маму и повёз на родину в село Аджамку – только там было возможно выжить.
В дороге отец надорвался, помогая лошади на трудном подъёме. Еда-то была – одни семечки и чёрствый хлеб. В деревне между Днепродзержинском и Днепропетровском ему стало плохо. Мать по рекомендации сельчан пригласила румынского фельдшера, который сделал ему укол и ушёл. Когда мать зашла в комнату, где лежал отец, он был мёртв. Пропали деньги, золотые карманные часы и кольцо. За тряпки сколотили гроб, погрузили на телегу, и один мужчина согласился довезти мать и тело отца до села Аджамки, а за это взять лошадь и телегу. Мать согласилась. Похоронили отца старшие братья Сергей Иванович и Павел Иванович на Аджамском кладбище, где покоились все наши пращуры. Отцу было 53 года. С его богатырским здоровьем и физическим развитием он прожил бы не меньше 90 лет.
В конце декабря 1942 года выписали из госпиталя и направили в учебный полк Юго-Западного (бывшего Сталинградского) фронта. В этот полк прибывали из госпиталей, тыловых частей и училищ командный состав и красноармейцы, а из полка нас по заявкам направляли в боевые части на фронт.
Начальник штаба предложил мне, как боевому старшине, пока покомандовать взводом связи девчат и я… согласился. Это были самые чёрные дни за всю войну. Занятий с ними проводить я и специалисты не могли, так как ближе к ночи приезжали адъютанты начальства из политуправления и разбирали практически всех, так что мы с заместителем командира взвода оставались почти всегда одни. Утром девушек возвращали. Они, разумеется, ложились спать и спали так, что их разбудить было невозможно. Утром на подъёме в землянку к ним зайти не мог. Заместитель командира взвода, женщина 34 лет, говорит:
– Товарищ старшина, я сама выведу их на занятия.
Выводили. Но заниматься строевой подготовкой они не могли. Я спросил:
– Почему?
А они в ответ:
– Вам показать, почему?
Я не знал, «что показать». Сам был пацаном.
Однажды меня вызвал комиссар полка подполковник Орлов и говорит:
– Вот что, сынок, ты повоевал, хлебнул солдатского лиха. Мы тебя отправим учиться в танковое училище.
Я ответил ему:
– Старший брат у меня офицер и пусть служит, а я уже в одном учился и хватит. Довоюю старшиной. Бог даст, останусь живым, вернусь к одинокой матери.
А он говорит:
– В училище в городе Горьком. Поучишься и поживёшь в человеческих условиях.
– В Горький я согласен.
А он:
– А почему в Горький согласен?
Пояснил, что там служит в Горьком в зенитном училище мой брат.
Итак, я очутился в 1-м Горьковском танковом училище в начале февраля 1943 года. В училище было процентов сорок фронтовиков, и мы учились по отдельной ускоренной программе.
Буквально перед выпускными экзаменами нас – 20 человек – вызвали к начальнику училища, который поставил задачу под командованием капитана (фамилию не помню) убыть на Сормовский завод на Горьковский танковый завод, получить 20 танков Т-34, сопроводить их на фронт, после чего вернуться в училище. Когда мы прибыли эшелоном на фронт, то очутились в 26-й гвардейской танковой бригаде 2-го гвардейского танкового корпуса. Думали, что сдадим танки и уедем, но не тут то было. Командир бригады гвардии полковник Нестеров сказал:
– А воевать, кто будет?
Нас оставили в бригаде, а бригаду и корпус ввели в состав 5-й гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова и бросили в бой, в самое пекло, где мы во встречном бою с главными танковыми силами немцев столкнулись под населённым пунктом Прохоровкой. Это было страшное побоище двух стальных громад. Немцы впервые применили новые танки – «Королевские тигры» и тяжёлые самоходные орудия «Фердинанды». В лоб «тридцатьчетвёрка» с 76-мм пушкой их не брала. Надо было умудряться зайти и выстрелить в борт, но не всем это удавалось, в том числе и моему танку. На третий раз поймался и я. Снаряд 105 мм английской пушки «Тигра» угодил под башню. Выскочили из горящего танка только я и наводчик…
А после 11 дней боёв нас, оставшихся в живых 8 человек, отправили с характеристиками в училище. 12 человек были убиты и ранены.
В училище встретили с почётом.
Молодые необстрелянные курсанты расспрашивали нас о том, как там на фронте, страшно? Мы отвечали, мол «на войне, как на войне».
Экзамены выпускные уже окончились. Начальник училища генерал-майор Бурдов сказал:
– Экзамены вы успешно сдали в бою!
И тут же были направлены документы в Москву на присвоение первичного офицерского звания (с февраля 1943 года командный состав стал именоваться офицерским составом – ред.).
По присвоении нам лейтенантских званий нас отправили на Урал в Нижний Тагил, на танковый завод. Получив там танки Т-34-85 (орудия которых пробивали все немецкие танк насквозь), волею судьбы попали снова во 2-й гвардейский танковый корпус, но не в 26-ю, где воевали на Орловско-Курской дуге, а в 4-ю гвардейскую танковую бригаду полковника О.Лосика и пошли в наступление по Белоруссии. Освободили Минск, за что бригада получила наименование Минской, а я орден, затем повернули на северо-запад, на Литву овладели Вильнюсом, подошли к границе Германии – Восточной Пруссии и остались без танков и 80% личного состава. До октября пополнялись личным составом и техникой и готовились первыми в действующей Советской Армии перейти границу Германии.
Ни командование, ни тем паче мы не знали, что делается в Германии: какая оборона, какие укрепления и так далее. До боёв провели ряд рекогносцировок по выдвижению на рубеж ввода в бой корпуса и бригад, по карте и на макете местности по ту сторону границы…
Поскольку наш корпус был рейдовым и ходил по тылам противника, для нас готовилось девять участков прорыва обороны противника, в один из которых предполагалось ввести корпус, но прорывали оборону противника на десятом участке, где никто и не ожидал. На рассвете корпус вошёл в брешь, и каждая бригада пошла по своему направлению. Наша 4-я танковая бригада двинулась на Гумбинск, успешно продвигаясь вперёд, так как противник не ожидал прорыва, и к исходу дня остановилась перед Каукеменом для дозаправки и пополнения боеприпасами. Командир батальона поставил мне задачу прикрыть вводом правый фланг батальона, а с рассветом, когда бригада возобновит наступление, занять своё место в боевом порядке.
Я решил занять позицию на высоте с немецким кладбищем. Послал два танка на высотку с расстояния 150 метров танк от танка, но они не успели дойти и до середины высоты, как оба загорелись и покатили вниз. Кто стрелял, и откуда не засекли. Что делать? Задача поставлена. Надо выполнять.
На высоте виднелся большой дуб, а кладбище освещалось луной – октябрь.
Говорю механику водителю:
– Дуй к дубу!
А сам дрожу, как бобик зимой – жду удара, но тихо. Стал под дубом. Тихо. Задаю себе вопрос, почему не стреляли?
Вдруг докладывает наводчик орудия, что впереди уступом стоят два Т-34 фронтом на батальон, а к нам бортом, а на башне сидят танкисты.
Что делать? Бить по своим – расстреляют. Почему же они подожгли мои два танка, если свои? Если свои, то почему стоят фронтом на своих? Почему не подожгли меня? Сто почему, и ни одного ответа. Докладываю по радио – комбат молчит.
Решаю сам пройти пешком метров 500 – 600 по кладбищу, подкрасться к этим танкам и разобраться, что к чему. Экипажу приказываю зарядить орудие бронебойным снарядом. Если после моего окрика танкисты спрячутся в танк, то стрелять по танкам без моей команды.
Подкрадываюсь к танкам и «ласково» окликаю их. Они прячутся в танки, и тут же мой наводчик выстрелил. Один из танков загорелся. А пока я добежал до своего танка, были сожжены оба немецких танка. Оказалось, что это были две немецкие «Пантеры», которые были с виду почти точной копией нашей тридцатьчетвёрки, скопированной гитлеровцами.
Докладываю командиру батальона – опять молчит. Потом уж я узнал, что танкисты сгоревших танков взвода, оставшиеся в живых, доложили командиру батальона, что сгорели все, в том числе и командирский танк, а командир взвода Маламуж, то есть я, погиб. Когда же я утром вернулся в батальон, то вся моя рота кричала «Ура!». Все любили меня за доброту, юмор и балагурство.
Вот такие бывают случаи на войне. В этой же Гумбининской операции был и такой случай.
Часа через два наступления, в очередной атаке мой танк подбило, танк не сгорел, но был не боеспособен, и меня пересадили на другой танк, где погиб лейтенант Шишов Коля.
Около 16 часов, встретив ожесточённое сопротивление Герингской дивизии немцев, мы остановились. Подъехал командир бригады полковник Лосик, остановился возле меня и говорит:
– Ну ка, атакуй ка на большой скорости впереди лежащую рощу.
А я ему:
– А немцы там есть?
Он:
– Вот я тебя и посылаю, чтобы узнать, есть ли они, и разведать огневые точки противника.
Я на танке проскочил метров 100 – 150 и получил два снаряда – один в лоб, другой в гусеницу. Выскочили из башни все, но механик-водитель Горбушин остался в танке. Танк с механиком-водителем сгорел.
К вечеру дали третий танк. Даже не знаю, вместо кого.
У нас в бригаде была такая поговорка:
– Танкист, чего смеёшься?
– Танк сгорел?
– А почему плачешь?
– Другой танк дали!
Так и со мной случилось. Не успел убыть в тыл бригады, как получил очередной танк. На следующее утро сложилась критическая обстановка. Немцы закрыли брешь, в которую корпус вошёл в прорыв.
Уже потом выяснилось, что штаб корпуса послал в штаб фронта оперативное донесение, в котором сообщалось положение бригад, что захвачено, сколько осталось боеприпасов, горючего, потери…
Донесение повёз на виллисе с охраной офицер связи капитан Гомберг. Ночью он случайно пристроился к немецкой колонне, которая шла к линии фронта. Немцы, судя по всему, не знали, на каком участке мы прорвались в их тыл и где находимся. Мы же оказались в их глубоком тылу.
Когда рассвело, немцы обнаружили русскую машину и, разумеется, схватили офицера связи с портфелем. Вскрыв карту, они поняли, где мы и где вошли в брешь. Ну и конечно тут же закрыли её. Гамберга расстреляли, так как он был Тацинец, а Гитлер приказал Тацинцев в плен не брать, да и к тому же еврей.
Таким образом, 2-й гвардейский танковый корпус оказался в окружении, но командованию фронта стало ясно, что в тылу немцев нет никаких оборонительных сооружений и укреплений. Нам было приказано немедленно выйти к своим и занять оборону.
Мы начали собираться в кулак, чтобы принять соответствующий боевой порядок и выходить из окружения. Я выполнял задачу по поддержке пехоты нашей мотострелковой бригады. Получив распоряжение возвратиться в свою роту, повёл взвод кратчайшим путём и попал под минометный огонь врага. Одна из мин упала на трансмиссию танка, разворотила защитную сетку и пробила правый радиатор. Вентилятор двигателя гнал воду, но я до роты добрался.
Я доложил командиру роты, что дальше двигаться не могу. Танк можно было только буксировать или взорвать. Ротный послал к комбату, который выслушал, но ничего не решил, а направил к заместителю командира бригады по бронетанковой технике.
Все разводили руками, а колонна, между тем, уже приготовилась к движению, так как вся авиация фронта уже начала бомбить немцев, обеспечивая наш выход. Вижу, что всем не до меня, все отводят виновато глаза и уходят на прорыв, оставив мой танк с экипажем. В танке осталось 7 снарядов, 3 пулемётных диска, автомат и 5 гранат Ф-1.
Ситуация же для меня сложилась такая: если танк подобьют немцы, а я как-то выйду из окружения, то меня расстреляют, а остальных членов экипажа отправят в штрафбат, посчитав, что мы взорвали танк. Оставалось одно – драться до последнего снаряда и умереть, к животу приложив гранату.
Страшно не было, а было обидно, что так обошлись со мной. Но командиров моих тоже можно было понять – каждый спасал свою жизнь, а война ожесточила сердца, многих сделав бессердечными.
В голове промчалась короткая жизнь, промелькнули лица родных и близких. Так, наверное, и у членов экипажа. Вдруг докладывает наводчик оружия:
– В прицел вижу пехоту противника.
Я командую:
– Осколочным! Без колпачка!
Это чтобы больше поразить пехоты.
А, между тем, уже тщательно прицелившись, наводчик докладывает, что это наша пехота.
К танку подошли 6 человек автоматчиков и спрашивают:
– Товарищ лейтенант, вы ждёте нас?
Оказалось, что они ночью были в боевом охранении, а когда роты и батальон ушли, их забыли – потом спишут, как боевые потери.
В это время мой взгляд остановился на бидонах для молока, которые стояли у коровника, так как у каждого фольварка были у местных хозяев коровы, гуси, свиньи и озеро.
Мелькнула дельная мысль… Приказал пехотинцам взять каждому по бидону и бегом к озеру, чтобы набрать воды и к танку, а наводчику развернуть башню и открыть люк над мотором. Залили 3 бидона воды в радиатор и заполнили бидоны снова по три на каждый борт. Автоматчики сели на броню, и мы двинулись вперёд, догонять бригаду. Механику-водителю приказал, как будет 100 градусов воды сразу останавливать машину.
Так, непрерывно подливая воду, и ехали, пополняя бидоны водой по пути в попадающих ручейках, болотцах. По дороге встретили несколько подбитых танков противника и раздавленных орудий и миномётов. Немного оживились. Каждую минуту готовы были открыть огонь из пушки. Десант тоже приготовился для ведения огня из автоматов. Так ко второй половине дня я и догнал свои главные силы, которые готовились к прорыву закрытой немцами нашей бреши.
Увидев у меня на танке чёрных и мокрых автоматчиков, командир роты капитан Белезий поприветствовал меня сжатием рук, а потом показал большой палец. Остальные экипажи роты виновато приветствовали меня, так как для них я уже был покойник.
В прорыве я уже не участвовал. Позже танк отбуксировали в ремонт, и на следующее утро я уже занял свой боевое место в обороне. Но противник нас не беспокоил. Дня через два за мной приехал на мотоцикле старшина из особого отдела бригады (СМЕРШ) и повёз меня в тыл за 6 километров к «контрикам».
Помнится, захожу в землянку и вижу: сидят три морды и девка писарь. Спрашивают:
– Ну, лейтенант, доложи нам, как ты умудрился за пять дней сжечь три танка? А один танк ведь стоит полмиллиона рублей!
Меня этот вопрос взмутил до глубины души, и я вспылил. Заявил:
– Прежде чем такие вопросы задавать, надо побывать там, где бой идёт и умирают люди, а не прятаться за 5 – 6 километров в землянках. Я горел на глазах у командира бригады.
Высказав всё это, послал их, этих «вояк», на три буквы, с пристуком повернулся и пошёл к выходу. Этот короткий путь для меня показался вечностью, так как я ожидал пулю в спину – от этой сволоты можно было ожидать, что угодно, но обошлось, и я пешком потопал до района обороны батальона.
Дело в том, что «контрики» искали виновных, то есть стрелочников, так как задачу корпус и бригады не выполнили, а технику и личный состав потеряли. Всего в корпусе расстреляли человек двенадцать, в том числе и моего товарища лейтенанта Гришу Закордонца. Его танк подбило, но танк не сгорел, а экипаж и раненый Закордонец его покинули.
Вскоре после «встречи» с «контриками» во фронтовой газете «За славу Родины» появилась статья Ильи Эренбурга – фронтового в ту пору корреспондента: «Как воюет комсомольский экипаж», и ещё спустя некоторое время за эту операцию мне вручили орден Отечественной войны.
Ноябрь, декабрь 1944 года оборонялись и пополнялись танками и личным составом, готовясь к последней Кенигсбергской зимней операции. Мы чувствовали, что скоро конец войне. Но как остаться живым, никто не знал. Война никого не щадила, и мы пели… «А коль придётся в землю лечь, так это ж только раз».
13 января 1945 года после двухчасовой артиллерийской подготовки в полной темноте – было 6 часов утра – прозвучал сигнал атаки. Как назло пошёл густой снег, и мы почти на ощупь пошли в атаку на глубокоэшелонированную оборону противника. Так началась последняя операция Великой Отечественной войны, в которой мне довелось участвовать. А последний бой, как точно подметил в песне Михаил Ножкин, он трудный самый.
В этой зимней и последней операции погиб наш командующий 3-м Белорусским фронтом дважды Герой Советского Союза генерал армии Иван Данилович Черняховский. Погиб командир соседней 26-й гвардейской танковой бригады полковник Нестеров. После войны его именем назвали город Гумбиннич, а Инстербург – именем Черняховского.
На подступах к крепости и столице Восточной Пруссии Кенигсбергу захватили населённый пункт Каукемен, и вышли на его северную окраину.
И тут вижу, бортом ко мне идёт метрах в 700 – 800 «Королевский тигр». Я поспешил и поплатился за свою спешку. Тигра поджёг. Вслед за ним – второй. Поджёг и его. А в сарае стоял третий тигр. Он прикрывал отход. Я впопыхах, не осмотревшись, начал бить отходящих, а надо было бить тот, который был в укрытии. Но поздно. Он первую болванку всадил прямо в лоб. Убил радиста Пятолова и оторвал ноги механику-водителю Бантикову, а вторую – в мою башню и если бы я, наводчик оператор и заряжающий не выскочили, то было бы три гроба.
Механик водитель вытолкнул себя из горящего танка руками, так как ног у него уже не было. Когда мы подползли к горящему танку, Бантиков лежал и просил пристрелить его, но я отрезал ножом болтавшуюся на жилах левую ногу, сделал жгуты и потащил раненого в так называемый тыл, где мне с ходу, вроде ждали, вручили второй танк с ремонта, и снова послали догонять своих. На этом танке я и закончил войну на побережье Финского залива. 10 апреля 1945 года взяли штурмом Кенигсберг, а 26 апреля у меня сгорел последний танк, и я больше не воевал.
Итак, для 3-го Белорусского фронта, то есть и для нас, война окончилась 26 – 28 апреля.
Наш танковый батальон расположился в большом господском фольварке Роззенау, в 30 километрах к юго-западу от Кенисберга. Это был господский домсестры фельдмаршала Гаумоса с садом, прудом, и домом для прислуги.
В батальоне осталось 16 офицеров из 41 и 34 солдата и сержанта. При штурме и взятии и Кенигсберга погибли командир батальона и все три командира роты…
Мы навезли и натащили много трофеев. Несколько машин, мотоциклов и велосипедов, разной еды, ящики и бочки с вином, мебель и множество разных тряпок. Наслаждались миром и спокойными ночами около 30 дней.
Меня назначили помощником начальника штаба батальона. В конце мая мы своим ходом, то есть на танках и автомобилях, отправились в Польшу, в город Сувалки, хороший зелёный городок с рестораном и кафе.
У меня было две грузовых машины, на одну из которых погрузили сейф с документами, а всё остальное имущество составили трофеи. Часть мы спустили за 40 дней в Польше, а остальное в городе Острове Псковской области, куда тоже передислоцировались своим ходом. На пополнение из училищ пришли юнцы-лейтенанты, начали жениться на местных девицах и мы им на свадьбы раздарили все свои трофеи.
В Острове мне с капитаном И. Рогаченко дали хорошую комнату с удобствами. Мы обставили её, создали уют и жили себе поживали. Вечерами ходили в Дом офицеров на танцы и играть в бильярд. Меня в партнёры по танцам взяла Мария Захарова, «списанная» из Маринки балерина, и мы стали чемпионами по бальным танцам гарнизона. Я же ещё стал чемпионом и по бильярду, что позволяло мне ходить бесплатно в клуб. Любая девушка считала за честь станцевать со мной, а ребята – поучиться играть в бильярд.
В начале 1947 года наш 2-й гвардейский танковый корпус сделали кадрированным, и я попал на станцию Песочная под Ленинградом, на базу хранения танков и САУ. А в сентябре 1947 года был направлен в Эстонию командиром танковой роты.
Однажды на танцах я познакомился с красавицей девушкой Зинаидой. Танцевали с ней весь этот вечер и следующий. А вскоре я понял, что это непростая встреча. Так я был влюблён серьёзно и навсегда. К радости своей почувствовал, что это взаимно. Мы встречались больше года, а затем поехали в Рязань и поженились раз и навсегда.
Вскоре появился сын Сережа, и мы уже стали колесить втроём. Служил я в Эстонии, в Польше, затем учился в Москве, в академии, служил в Белоруссии, Германии и, наконец, осели мы в Солнечногорске, на высших офицерских курсах «Выстрел» имени Маршала Шапошникова, где я семь лет проработал старшим преподавателем тактики. Учил командиров танковых полков.
В 1979 году в возрасте 56 лет уволился в запас.