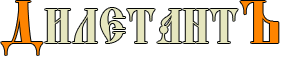Любовь. История. Потёмкин
Очаковский роман Потёмкина
Очаковский роман Потёмкина
«Время ли башмачки для любовницы в Париже заказывать?»
В июльский день 1788 года в лагере русской армии, осаждавшей Очаков, произошло некоторое оживление в общем-то рутинной осадной жизни. Войска готовились к штурму. Работы было много. Возводились всё новые и новые осадные батареи, роты и батальоны поочерёдно отправлялись в тыл на тактические занятия.
Там они учились преодолевать различные укрепления, взбираться на крепостные стены, вести рукопашный бой. А егеря ещё и тренировались в меткой стрельбе, при действиях в рассыпном строю. Именно егеря Бугского егерского корпуса Михаила Илларионовича Кутузова предназначались для того, чтобы не позволять туркам стрелять по нашим солдатам штурмующих крепости колонн.
Работы много, но вся она была обычна и привычна. Скучновато. Войска рвались на штурм, но Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический почему-то не спешил, хотя и из Петербурга торопили – кабинетные стратеги и на Императрицу давили, распуская слухи о медлительности Князя, да и самому Князю при удобном случае старались намекнуть, мол, пора бы уже бросить войска на приступ. А потери? Кабинетным стратегам людей не жалко.
И вдруг среди будничных забот такое происшествие! За обедом в большом шатре, где присутствовали не только приближённые к Князю особы, но и военные агенты, и посланники иностранные, он вдруг обратился к французскому посланнику графу Филиппу де Сегюру, как раз в то время прибывшему в лагерь:
– А скажите мне, граф, правда ли, что в Париже башмачки для барышень отменные шьют, всем на зависть?
Сегюр подтвердил. И похвастал, что в мире нет лучше обуви, нежели французская.
– Ну, так вот что! – решительно заявил Потёмкин, повернувшись к своему адъютанту подполковнику Боуру. – Ехать тебе немедля в Париж за башмачками для Прасковьи Андреевны… Закажешь там всяких – и на лето, и на осень, и на зиму, и на весну… Не скупись! Мне для такой красавицы ничего не жалко.
Прасковья Андреевна Потёмкина присутствовала при сём разговоре, не вступая в него, и лишь скромно склоняя голову в знак согласия. Хотя и на её лице можно было прочесть некоторое недоумение такой щедростью. Точнее не самой щедростью – Светлейший был щедр всегда и во всём, да и умел быть щедрым на широкую ногу, тем более и возможности на то имел основательные. Но тут случай особый. Армия, ему подчинённая, крепость осаждает, а главнокомандующий о башмачках для возлюбленной размышляет, да ещё во всеуслышание… Не лучше ли о пушках, да ружьях говорить, не лучше ли за боеприпасами гонцов слать?!
К вечеру весть лагерь знал о том, что произошло на обеде. Судачил народ беззлобно, скорее даже с лёгкой, доброй иронией, мол, чудак наш князь, то в Калугу за тестом посылает, то в Сибирь за огурцами, а тут «в самую энту Хранцию».
За каким таким тестом или за какими такими огурцами посланцы князя ездили в Сибирь и Калугу, к делу не относится, а вот о башмачках есть смысл поговорить.
Пока и наши в лагере, и иностранцы, что облепили главную квартиру Светлейшего, судачили о поручении, данном адъютанту, адъютант этот получал подробнейший инструктаж Светлейшего перед срочным своим выездом в Париж. А поручение не простым было? Как всё учесть, как предусмотреть, какие конкретно «башмачки» для штурма понадобятся? Слушал адъютант да запоминал – записывать-то нельзя было, дело секретное! Уж слишком необычны и разнообразны были эти самые башмачки, которые так князю понадобились.
Отправить-то срочно Светлейший своего адъютанта отправил, да в дороге особо поспешать не велел. Пояснил, что слухи о таковом вот поручении должны бы в Париж прежде него самого добраться. Пусть и там порадуются, пусть и там посудачат, да языки свои змеиные европейские почешут.
Выехал Боур поутру, а гонцы от военных агентов, да посланников давно уж скакали к своим дворам, дабы потешить начальство своё сообщением о новом чудачестве всесильного Потёмкина. Оно, конечно, может и пустяшное, да ведь в политике и дипломатии нет мелочей. Кстати, Потёмкин не раз говорил, что и в военном деле нет мелочей, а потому всё старался учитывать, перед тем как очередное дело начинать.
Вот отчего он со штурмом не спешил? Что только не придумали злопыхатели! И нерешительный, и неспособный… Да что там перечислять – все свои недостатки клеветник обычно тому, на кого клевещет, приписывает.
Ну а уж судачили сплетники, кто как мог, да с таким возмущением, более на зависть походящим: «Время ли башмачки для любовницы в Париже заказывать? Очаков, Очаков брать надо!»
Что же? Или Светлейший и сам не знал, что крепость сокрушить необходимо, и сокрушить чем скорее, тем лучше, да ведь с умом надо к любому делу подходить, наперёд всё видеть и понимать…
Но ведь никто из критиканов и злопыхателей не учитывал, какова реальная обстановка, никто не интересовался тем, что Екатеринославская армия насчитывала к началу кампании 1788 год 82 464 человека, а порта собрала против неё свыше 300 тысяч. И главная задача порты – битва за Крым. Турки собиралисьнанести главный удар на Кинбурн и Херсон, овладев которыми, посадить у Очакова десант на корабли и перевезти его на полуостров. В этих сложных условиях Потёмкину предстояло выбрать наиболее целесообразный способ противодействия многочисленному противнику.
Обвиняя Потёмкина в том, что он слишком долго двигался со своей Екатеринославской армией к Очакову, дабы осадить его, историки не учитывали немаловажную деталь. Дело в том, что 60 вражеских судов направлялись к Днепровско-Бугскому лиману, готовясь атаковать и захватить Кинбурн, Глубокую Пристань и Херсон, разрушить главные базы русского флота в лимане. Именно поэтому Потёмкин не спешил удаляться от Херсона, чтобы своевременно принять меры для защиты важных опорных пунктов.Нельзя будет осаждать Очаков, имея в тылу крупные силы врага, захватившие выгодные пункты.
К концу мая под Очаковом сосредоточились крупные морские силы порты: 13 линейных кораблей, 15 фрегатов, 47 галер и множество мелких судов. Лишь после разгрома этих сил в лимане и уничтожения вражеских кораблей Суворовым, расстрелявшем их из пушек, замаскированных на берегу Кинбурнской косы, можно было двинуться к Очакову с целью его осады.
Весной 1788 года в Петербурге бытовало мнение, что с падением Очакова окончится война. Потёмкин же, объективно оценивая состояние вооруженных сил Османской империи, не сомневался, что воевать придётся ещё не один год. В этих условиях он не мог пойти на штурм, который неизбежно должен был принести потери в унтер-офицерском и офицерском составе. Для войны нужна была армия, которую ещё предстояло пополнить новыми подразделениями. Для этого требовались офицеры и унтер-офицеры.
Суворову, торопившему его, Потёмкин обещал приложить все силы к тому, чтобы Очаков достался дешево. Суворов понял замысел Светлейшего, понял, обещанияне были пустословием. Далеко не все жители Очакова приветствовали войну. Потёмкин знал о том и стремился использовать антивоенные настроения. Создав в крепости сильную агентуру, он рассчитывал добиться с её помощью добровольной сдачи Очакова. Вот одна из главных причин неторопливости действий и задержки сильной бомбардировки крепости вначале.
Обложив Очаков 1 июля, Потёмкин начал построение осадных батарей лишь со второй половины июля. И только после того, как стало известно о провале агентуры – головы казнённых, надетые на колья, турки выставили для обозрения на крепостных стенах, – Потёмкин открыл мощную бомбардировку крепости, при которой огонь уже вёлся на уничтожение.
Была и ещё одна причина. Как известно, в сентябре 1787 года Севастопольская эскадра сильно пострадала от бури. Документы свидетельствуют, что активно действовали в первые месяцы кампании 1788 года, то есть в мае – июне, лишь военно-морские силы в лимане. Севастопольская эскадра находилась на ремонте, для завершения которого требовалось определённое время. Пока турецкие корабли стояли у стен Очакова, они не могли мешать починке русских кораблей в Севастопольской гавани. Турки сами задерживали свой флот у Очакова, боясь оставить без него крепость. Вообразим теперь, что она бы пала в первых числах июля. Турецкий флот сразу бы двинулся к Севастополю и предпринял атаки на русскую эскадру.
«Медление» Потёмкина раздражало в основном тех, кто завидовал князю, но одновременно надеялся на награды, которыми были бы осыпаны и те, кто далековато находился от линии огня. Но Потёмкин пользовался полным доверием своей законной, венчанной супруги, своей Государыни.
Императрица Екатерина всегда была на его стороне. Михаил Гарновский, управитель дел Потёмкина в Петербурге, отметил: «Она нимало Очаковым не беспокоится, и всё, что его светлость предпринимать изволит, произносит с хвальбою. Досадует на одно только, что его светлость подвергает себя опасности. Какую пользу принесёт Очаков, если виновник приобретения его постраждет?»
А беспокоиться были причины. Потёмкин отличался необыкновенной, безудержной храбростью. В молодости он сражался с врагом в первых радах своих воинов. Так было 4 января 1770 года при Фокшанах, так было во время осады Силлистрии осенью 1773 года, когда он едва не погиб. Так было после Кинбурнской победы Суворова в 1787 году, когда он отправился на небольшой шлюпке на обозрение Очаковских укреплений и внимательно изучал их, несмотря на огонь врага, падающие неподалёку ядра и шлёпающиеся в воду пули. Так было и во время рекогносцировки Очаковской крепости после осады её в начале лета 1788 года.
Потёмкин провёл тщательную рекогносцировку крепости, во время которой приближался на дистанцию не только артиллерийского, но и ружейного огня противника. Очевидцы вспоминали, что был он во время рекогносцировки в своём расшитом золотом мундире, при орденах, словно дразня вражеских стрелков.
Одно из ядер разорвалось поблизости от него. Был убит наповал казак и смертельно ранен генерал Синельников. Получил контузию и Потёмкин. Она затем стала предметом самой безобразной сплетни, распускаемой о Григории Александровиче его врагами. Злопыхатели придумали, что образованнейший человек своего времени, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, необыкновенный красавец и любимец женщин, Потёмкин страдал ужасной привычкой – при всех, в любом, в том числе и женском, обществе он якобы грыз ногти... Представьте себе мужчину, страдающего такой привычкой и одновременно обожаемого женщинами. Нужно учесть, что обожательницами были не так называемые нынешние «телки», любимицы псевдорусских «князей из грязи», которым, быть может, это и по вкусу, а представительницы лучших домов и дворянских родов России.
Однако обратимся к письму Екатерины II, написанному 14 августа, то есть спустя полтора месяца после злополучной рекогносцировки. Императрица упрекала Потёмкина за небрежение к опасности, упоминала и о так называемой «дурной привычке»: «Беспокоит меня твоя ногтоеда, о которой ты меня извещаешь письмом от 6 августа после трехнедельного молчания; мне кажется, что ты ранен, а оное скрываешь от меня. Синельников, конечно, был близок к тебе, когда он рану получил; не тем ли ядром и тебе зацепило пальцы?»
После контузии Потёмкин часто подносил болевшие пальцы к губам, но не выгрызал ногти, а просто дул на них, что вошло в привычку. На эти боли он и пожаловался Императрице. Не хвастался же он перед ней, в самом деле, тем, что грызет ногти! Чего только не напридумывали о князе... Бездельники, которых он не выносил, не могли простить ему презрения к ним и в то же время любви и чуткости, с которыми он относился к солдатам. Очевидцы вспоминали, что, часто бывая на передовых позициях, Потёмкин говаривал солдатам:
– Слушайте, ребята, приказываю вам однажды и навсегда, чтобы вы предо мною не вставали, а от турецких ядер не ложились на землю.
И «медление» в действиях под Очаковом тоже объясняется желанием сохранить жизни русских воинов, а вовсе не боязнью ответственности. Ответственности Потёмкин не боялся, но это не означает, что он мог пуститься на серьёзное дело, не продумав его деталей.
Вот мы и подошли к основной цели направления адъютанта в Париж.
Да… Он ехал за башмачками для любимой женщины Светлейшего князя, официально за башмачками, уж больно модными – такими, что прямо всем на зависть.
Эх, Париж, мечта прогейропезированного люда всех времён. Да, вот только сам Светлейший в Париже никогда не был, да и адъютант его подполковник Боур вряд ли бывал там. Тем не менее, Светлейший строго настрого повелел ему – никаких светских развлечений не чураться, да о башмачках почаще речь заводить на балах и приёмах – расспрашивать, где и какие пошить лучше… И средств не жалеть. Всё, всё должно быть на широкую ногу и на «радость» змеиных языков сплетников.
А дорога до Парижа в ту пору долгая, да и ехал в ту сторону Боур медленно. А слухи о цели его поездки уже достигли провонявших от выливаемых на них из окон домов содержимого ночных ваз парижских улиц, столь обожаемых нашими либерастами. Впрочем, теперь вазы в прошлом. Эмигранты из России отучили от этого. Эмигранты первой волны. Ну а эмигранты волн недавних рассказали ещё и о том, что оказывается не обязательно смешивать воду для мытья физиономий в раковине, что существуют этакие вот приборы, что смесителями называются…
Но в ту пору ещё в Париже приличные дамы вполне могли отойти в сторонку и, особенно не стесняясь, и без ваз обойтись, освободив себя от излишней жидкости и прочего в шикарных залах, к примеру, Версальского дворца. Что естественно – то не безобразно!
А вот то, что адъютант Светлейшего князя мчится в их провонявший град за башмачками для любовницы своей – это столь достопочтенную публику возмутило до крайности.
Так кто же, в конце концов, эта дама? Кто она – Прасковья Потёмкина?
Прасковья Андреевна, по отзывам современников, славилась своей красотой и была фавориткой светлейшего князя Г. А. Потемкина.
В частности, действительный тайный советник, член Государственного Совета, мемуарист Александр Васильевич Кочубей писал, что «она была женщиной взбалмошной и безнравственной, имела много связей, прежде чем вышла второй раз замуж за офицера Измайловского полка, который также ещё до свадьбы, был у неё на содержании»
После же развода с мужем, внучатым племянником Светлейшего, Прасковья Андреевна, отправилась в лагерь под Очаковом к Григорию Александровичу Потёмкину, с которым, видимо, окончательно не прерывала связей с давних пор.
Итак, подполковник Боур спешил в Париж. Ещё даже в восемнадцатом веке приближение к европейским городам путники ощущали издалека, когда и городов-то ещё видно не было. Вонь в окрестностях распространялась неимоверная. Всё это было следствием изливания содержимого ночных ваз и прочих нечистот прямо через окна на улицы, на тротуары, ну попадись нерасторопный прохожий, могло с лихвой достаться и прохожему. Недаром в парижские моды вошли широкополые шляпы – защита от неожиданных «душевых» излияний, ну и обувь на высокой подошве, чтоб не замочить ног в зловонных лужах на тротуарах и мостовых.
Впрочем, всё это достаточно хорошо, полно и главное достоверно описано в книгах Владимира Мединского.
Ну а адъютанту Потёмкина предстояло все эти прелести вкусить непосредственно.
Когда прибыл в Париж, там его ждали с нетерпением. Кто-то потому что не поверил в этакое вот невоенное поручение в дни войны, кто-то хотел насытиться конкретными деталями, что бы понести дальше благодарным слушателям.
Тамошние шелкопёры, веками страдающие патологической ненавистью к России и ко всему русскому, уже навострили перья, чтобы сочинить что-то этакое хлёсткое.
Ну а Боур, не скупясь, удовлетворял всеобщее любопытство, посещая не только мастерские по пошиву модной женской обуви, но и светские салоны, балы, даже театры.
Делал это широко, открыто, шумно, одновременно, уже без шума и показухи, находя время тайно посетить адреса, которые дал ему Светлейший Князь, строго настрого приказав, выучить наизусть и записи уничтожить.
Прежде всего, он получил необходимые средства для своей, мягко говоря, совсем не открытой всеобщим взорам деятельности. Вести с собой такие суммы было рискованно – Европа славилась бандитами и правительственными, и уличными. Каждый грабил по своим возможностям. Кто целые страны, именуемые колониями, вытрясал, а кто путников на дорогах подлавливал.
Начал адъютант Светлейшего с посещения любовницы министра иностранных дел Франции. Вручил её крупную сумму и получил целый пакет документов, касающихся международной политики, веками направленной против России. Потёмкин выбрал удачное время. Франция кипела и бурлила, но ведомства-то работали, куда ж без них. Революции революциями, но есть направления государственной деятельности, где без специалистов никак не обойтись.
В мастерских шили башмачки для русской неотразимой красавицы, возлюбленной Потёмкина, а Боур продолжал свои визиты.
Ещё одно дело наиважнейшее. Светлейший не спешил со штурмом Очакова по целому ряду причин, некоторые из коих мы уже разобрали. Была и ещё одна, немаловажная.
Очаков был опутан подземными минными галереями, построенными французскими инженерами по последнему слову той ещё фортификационной техники.
Для чего они нужны, эти галереи? Очень просто, французские инженеры, за деньги, конечно, строили их, чтобы русские колонны, начиная приступ, уничтожались взрывами мощных зарядов.
Эти заряды устанавливались на наиболее вероятных направлениях движения колонн, с таким расчётом, чтобы можно было уничтожить как можно больше солдат России, с которой, кстати, Франция в ту пору вовсе как будто бы и не воевала.
Собственно, она не воевала и во время пугачёвского бунта. Да вот только в организации бунта, как мощного удара в спину, приняла самое деятельное участие.
А парижские графоманы из кожи лезли вон, желая написать броские, убийственные и, конечно, талантливые, как им казалось пьесы.
И написали… И уже репетировали спектакли.
А Боур посетил кое-кого в ведомстве военного министра и, вручив крупную сумму, получил столь необходимые карты и схемы.
Башмачки между тем шили разные. Не напрасно мы упомянули об огромных высоких подошвах. Самые ценные документы прятали именно в этих вот постаментах для ног.
Наконец, дело было сделано. А тут и приглашения на премьеры спектаклей подоспели. Каждому хотелось, чтобы адъютант загадочного для них русского князя посмотрел именно их спектакль, а потом поведал князю, как оценили его поступок в Париже.
Боур всех благодарил и всем обещал непременно быть. Но именно в час начала спектаклей сел в свою дорожную карту, в которой были уже уложены многочисленные башмачки, да и скомандовал: «Трогай!»
И только ветер в ушах. Отъехали на приличное расстояние и остановились. Решил Боур отмыть в небольшом пруду обувь свою, да копыта лошадей, ну и привести в порядок ходовую часть кареты, тоже запачканную на парижских улицах.
И вот, наконец, домой, в Россию, прямо в лагерь под Очаковом.
Ну а что же в Париже? Там, конечно, в конце концов, разгадали, в чём тайный смысл визита за башмачками. Да было уже поздно. Боур был уже в лагере, а башмачки, те которые не с секретом, поочерёдно занимали свои места на прелестных ножках Прасковьи Андреевны Потёмкиной на радость ей и Светлейшему князю.
Прасковья Андреевна Потёмкина, супруга троюродного брата Григория Александровича, Павла Сергеевича Потёмкина была не единственным увлечением Светлейшего.
Григорий Александрович был статным красавцем, женщины сходили по нему с ума.
Его племянник Александр Николаевич Самойлов, который присутствовал при венчании Потёмкина с Императрицей, а в последствии воспитывал их дочь, так описал в своих мемуарах наружность своего дядюшки:
«Была какая-то очаровательная привлекательность в его наружности. Редко удачное сочетание женской мягкости и мужской твёрдости. Изящный, тонкий характер всей фигуры, до зрелого возраста сохранявший молодую свежесть. Лицо продолговато-овальной формы отличалось чистотой, ровным румянцем, белизной и оттенялось светло-каштановыми, вьющимися шелковистыми волосами. Тонкая, приятная улыбка красиво очерченных полных губ, и рот при детском, звонком смехе обнажал ряд ровных зубов как бы из молодой слоновой кости. Всё это освещали глаза цвета бирюзы, которую он так любил. Из них один погиб, отсюда прозвище князя "Полифем". Энергичный вид придавали ему брови, приподнятые к концам, разделенные правильно очерченным, несколько крупноватым орлиным носом. Широкая выпуклая грудь и округлые плечи при высоком росте и пропорциональности всего постава напоминали сложением античную статую. Сходство с нею усиливал наклон головы и стройный стан. Наружность его отдаляла от созерцателя мысль об искусственной гордости или властности, сквозившей в нем на общественных собраниях или перед фронтом. И даже угловатость решительных движений, опрокидывавших гостиные предметы, напоминала в нем «богатыря-смолянина», каким и величала его Екатерина».
Поклонниц было много. Гавриил Романович Державин писал: «Многие почитавшие Потемкина женщины носили в медальонах его портреты на грудных цепочках»
И, несмотря на всё это о связях его до переворота, данные почти не сохранились. Но об одном увлечении того времени мы всё же расскажем в следующей главе…
Продолжение следует.