Николай Шахмагонов. Куприн в любви и о любви
«Пока не будет готова… глава, домой не приходи…»
Страницы жизни великого писателя
Давным-давно я услышал о Куприне такую вот историю.
Рассказывали, что его жена, желая принудить писателя к более плодотворной работе, впускала его к себе в дом только с новой главой книги.
Порою ему приходилось подсовывать эту главу, напечатанную на машинке, под дверь или в приоткрытую щёлочку. Жена забирала рукопись, читала, и если находила, что он с задачей справился, впускала к себе. Это рассказал кто-то из моих приятелей-литераторов на Всеармейском семинаре молодых военных литераторов в Пицунде. Мы тогда буквально ловили что-то новое, интересное о классиках русской литературы.

И трудно было понять, правду ли рассказал мой приятель или всё это выдумка, которую он просто озвучил в нашем жаждущем подобных историй коллективе.
А ведь это правда!!!
Происходило же всё вот как…
Куприн работал над своей в будущем знаменитой повестью «Поединок». Это – его стихия, армейская стихия – плохая ли, хорошая ли, но родная ему. Ведь он был до мозга кости военным. Окончил 2-й Московский кадетский корпус, Александровское юнкерское училище в Москве, служил в войсках, испытал на себе все тяготы офицерской жизни в захолустном гарнизоне.
Прошли годы, и настал час выплеснуть все свои впечатления и переживания на страницы книги.
Работу начал с энтузиазмом, но потом что-то не пошло. Бывает ведь так. Не идут очередные главы и всё тут.
И тогда за писателя взялась его супруга Мария Карловна. Она заявила твёрдо, что до завершения повести они не могут быть вместе, что до той поры, пока «Поединок» не будет завершён, она ему не жена.
Что же оставалось делать? Куприн снял комнату и засел за работу. И каждую новую главу приносил жене.
Сама же жена Александра Ивановича – Мария Карловна Куприна-Иорданская – так описала всё это в своей книге «Годы молодые»:
«Приблизительно с середины «Поединка», главы с четырнадцатой, работа у Александра Ивановича пошла очень медленно. Он делал большие перерывы, которые беспокоили меня.
– Опять не удалось сесть за работу, – жаловался Куприн.
– Ты пропустил много времени, и тебе всё труднее и труднее приняться за работу. Мириться с этим я больше не могу. И вот моё твердое решение: пока не будет готова следующая глава, домой не приходи.
И повелось так, что домой, «в гости», Александр Иванович приходил отдыхать, когда у него была написана новая глава или хотя бы часть её.
– Пишу очень медленно, Маша. Как я закончу повесть – ещё не знаю, и это мучает меня. Могу приносить тебе не более двух-трех страниц новой главы.
Но написать даже две-три страницы ему не всегда удавалось. И вот однажды он принёс мне часть старой главы. Утром я сказала Александру Ивановичу, что так обманывать меня ему больше не удастся.
После его ухода я распорядилась на внутренней двери кухни укрепить цепочку.
Теперь, прежде чем попасть в квартиру, он должен был рукопись просовывать в щель двери и ждать, пока я просмотрю её. Если это был новый отрывок из «Поединка», я открывала дверь.
Прошло некоторое время, и опять случилось так, что нового у Александра Ивановича ничего не было, а побывать в семье ему очень хотелось, и он опять принёс мне несколько старых страниц, надеясь, что я их забыла.
Я читала и удивлялась: «Ведь это ещё балаклавский кусок «Поединка»?»
Александр Иванович ждал на лестнице
– Ты ошибся, Саша, и принёс мне старьё, – сказала я, просунув ему рукопись. – Спокойной ночи! Новый кусок принесёшь завтра.
Дверь закрылась.
– Машенька, пусти, я очень устал и хочу спать. Пусти меня, Маша…
Я не отвечала.
– Какая ты жестокая и безжалостная.., – говорил Александр Иванович на лестнице.
Я поставила на плиту табурет, взобралась на него и через круглое окно с железной решеткой смотрела вниз.

Александр Иванович сидел на ступеньке, обхватив голову руками. Его плечи вздрагивали. Я тоже плакала: мне было бесконечно жаль его. Впустить? Тогда он решит, что меня можно разжалобить, перестанет работать, запьёт… Нет, дверь не открою.
Александр Иванович поднялся и медленно пошёл вниз».
«Поединок» принёс писателю необыкновенную славу. Им зачитывались в России, его читали в Европе и, возможно, даже в соединённых штатах, где в то время не все ещё превратились в псако-обамовцев.
В 1915 году Куприн написал о героях своей книги в Биржевых ведомостях, номере от 25 мая:
«Немного времени я провёл в военной службе, но вспоминаю её с удовольствием. Как иногда встречаешь после многолетнего перерыва человека, которого помнил ещё ребенком, и не веришь своим глазам, что он так вырос, так и на службе я не узнал ни солдат, ни офицеров. Где же офицеры моего «Поединка»? Все выросли, стали неузнаваемыми. В армию вошла новая, сильная струя, которая тесно связала солдата с офицером. Общее чувство долга, общая опасность и общие неудобства соединили их. То, чего добивались много лет, теперь совершилось».
Да, «Поединок» принёс широкую известность, даже мировую славу, но путь к этой славе был необыкновенно тернистым и, порою, полным драматизма.
Жестоко или не жестоко поступала с ним жена? Наверное, у неё не было иного выхода. И не сделала бы она так, как сделала, как знать, увидели ли бы мы удивительную повесть.
Жёны в жизни и творчестве писателей всегда играли и играют, если, конечно, теперь есть писатели, важнейшую роль. Конечно, не всем повезло так, как Достоевскому, но первая жена Куприна, не у всех была такая жена, о которой даже Лев Толстой выразился с нескрываемым восхищением, хотя его супруга – Софья Андреевна – помогала ему в работе очень и очень много. Но Анна Григорьевна Достоевская (в девичестве Сниткина), по его мнению, превзошла всех.
Первая жена Куприна… Раз сказано первая, значит, была вторая… Впрочем, об этом и повествование, а потому не будем забегать вперёд – достаточно и одного эпизода.
«Слезами… не насытишь… горя».
Тяжёлым было его детство. Александр Иванович Куприн родился 26 августа 1870 года в Наровчате Пензенской губернии. Городок небольшой, уездный. Но, может всё сложилось бы иначе, если бы через год после рождения будущего писателя не умер от холеры его отец. Потеря главы семьи, кормильца в ту пору была тяжела и в моральном, конечно, и в материальном плане. Мать помыкалась в захолустье и решила отправиться в Москву. Переезд состоялся в 1874 году, когда Куприну едва исполнилось четыре годика.
Отца он совсем не помнил – да и что может запомниться в годовалом возрасте? Но мать Александра Ивановича – Любовь Алексеевна Куприна, урождённая княжна Куланчакова – была женщиной необыкновенной, сохранившей даже в постигшей её нищете благородство, достоинство.
Уже на склоне лет Александр Иванович вспоминал о ней:
«Расскажешь ли или прочтёшь ей что-нибудь – она непременно выскажет своё мнение в метком, сильном, характерном слове. Откуда только брала она такие слова? Сколько раз я обкрадывал её, вставляя в свои рассказы её слова и выражения...»
Дочь Куприна Ксения Александровна описала историю своего рода по материнской линии, именно по материнской, потому что Куприн «очень гордился своим татарским происхождением материнской линии».

Итак, слово дочери писателя, ссылавшейся в своих воспоминаниях на рассказы отца:
«Он считал, что основоположником их рода был татарский князь Кулунчак, пришедший на Русь в XV веке в числе приверженцев казанского царевича Касима...
Касим получил в 1452 году от Василия Тёмного в удел город Мещерский, переименованный в Касимов… Несколько поколений Кулунчаков жили в Касимове. Во второй половине XVII века прадеду Александра Ивановича были пожалованы поместья в Наровчатском уезде Пензенской губернии. Согласно семейным преданиям, разорение предков произошло из-за их буйных нравов, расточительного образа жизни и пьянства. Дед Александра Ивановича приобрёл в Пензенской губернии две захудалые деревеньки – Зубово в Наровчатском уезде и Шербанку в Мокшинском. Но разорение продолжалось.
Последним потомком Кулунчаковых была мать Куприна Любовь Алексеевна, вышедшая замуж за Ивана Ивановича Куприна, канцелярского служащего, а впоследствии, письмоводителя Спасской городской больницы.
Первая дочь, Софья, родилась в 1861-м, вторая, Зинаида, – в 1863 году. Потом родилось трое мальчиков, умерших младенцами, и последним Александр, мой отец, в 1870 году. 22 августа 1871 года Иван Иванович Куприн умер от холеры, оставив свою жену, двух старших дочерей и годовалого Сашу совсем без средств. Гордой и вспыльчивой Любови Алексеевне пришлось унижаться перед чиновниками, чтобы устроить своих девочек в казённые пансионы. А сама она переехала во Вдовий дом в Москву. Сашу ей пришлось взять с собой, и он жил три года в совсем неподходящей обстановке для ребёнка, среди старушечьих интриг, сплетен, подхалимства к богатым, и презрения к бедным.
Куприн боготворил свою мать, но часто стыдился унижений, которые ей приходилось терпеть ради детей, когда она обращалась к благодетелям учреждений. Я думаю, что тогда и зародилось у Куприна бешеное самолюбие. Он никогда не мог потом забыть её унизительных фраз, обращённых к высокопоставленным лицам. Но что могла она сделать? Ей же нужно было вырастить троих детей. Потом ей удалось поместить Сашу в Разумовский сиротский пансион.
С шести лет началось для мальчика детство, которое он впоследствии назовет «поруганным» и «казённым».
Прервём цитирование дочери Куприна и обратимся к его воспоминанием об этом периоде жизни. В 1904 году в очерке «Памяти Чехова» Куприн неожиданно коснулся воспоминаний о своём детстве, видимо, найдя в детстве Чехова, много общего со своим… Он писал:
«Бывало, в раннем детстве вернёшься после долгих летних каникул в пансион. Всё серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день – ещё крепишься кое-как... Но когда настанет вечер и возня в полутёмной спальне уляжется, – о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызёшь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и «знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя».
Всё это, казалось бы, далеко от творчества, ведь ступил на писательскую стезю Куприн гораздо позже. Но… На всю жизнь оставили отпечаток те годы, и этот отпечаток не мог не отразиться на творчестве, как не могло отразиться и на тематике и на содержании произведений и то, что довелось испытать Куприну в последующие годы.
Кадетство Куприна
В 1880 году матери удалось добиться зачисления маленького Александра Куприна во 2-ю Московскую военную гимназию. Через два года военные гимназии были преобразованы в кадетские корпуса.
Кадетская форма резко отличалась от той, что носил он в пансионе – красивая форма. Так и вспоминается стишок из детской книжки:
А с ней был маленький кадет,
Как офицерик был одет,
И хвастал перед нами
Мундиром с галунами…
Не помню, о чём книжка – стихи о детстве детей пролетариата, кажется, ну а тот, кто «как офицерик был одет», стало быть, вроде классового врага. Но запомнилось это четверостишие не случайно – и мне в детские годы довелось – нет, посчастливилось – одеть такую вот военную форму с галунами на высоком стоячем воротнике, алыми погонами и алыми лампасами на брюках.
Созданные Иосифом Виссарионовичем Сталиным в 1943 году суворовские военные училище образовывались «по типу старых кадетских корпусов», и форма была учреждена кадетская… Тем более, к тому времени уже в Красной Армии были введены погоны.
Ксения Александровна, опять же по рассказам отца, повествует о его кадетских годах:
«В своей повести «На переломе. (Кадеты)» Куприн описывает, как за незначительный проступок его приговорили к десяти ударам розгами. «В маленьком масштабе он испытал все, что чувствует преступник, приговорённый к смертной казни». И кончает он рассказ словами: «Прошло очень много лет, пока в душе Буланина (Куприна. – К.К.) не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана.
Да полно — зажила ли?»
В этом рассказе описывается штатский воспитатель Кикин, по доносу которого Буланин был приговорён к розгам: «Безличное существо, одинаково робевшее и заискивавшее как перед мальчиками, так и перед начальством».
Когда повесть была опубликована вторично в «Ниве» в 1906 году, Куприн получил невероятно грубое и ругательное письмо от Кикина, который был возмущён, что отец не изменил его фамилии. Кикин угрожал судом.
Отец с чувством удовлетворённой мести хранил это письмо. Рана так и не зажила!»
Несмотря на то, что главной темой книги является повествование о любовных трагедиях и драмах русских писателей, давайте всё же немного отклонимся от центрального направления, и коснёмся «кадетства» Куприна. Я написал «кадетство» по аналогии с недавнем сериалом, снятом в моём родном Калининском (ныне Тверском) суворовском военном училище. Это необходимо хотя бы потому, что при чтении повести может создать не совсем правильное впечатление о кадетском обучении и воспитании в России вообще. Перед нами частный пример, причём, пример вполне объяснимый…
В аннотации к современному изданию повести «На переломе. (Кадеты)» говорится: «Мальчики в военной форме… «Белая кость» российской армии. Будущие воины Первой мировой. Будущие герои Белой гвардии… Как они росли? Как взрослели эти мальчишки и становились офицерами, людьми долга и чести? Это – основная тема романа Куприна «На переломе (Кадеты)».
Впрочем, то, что увидел маленький Саша Куприн, переступив порог тогда ещё не кадетского корпуса, а военной гимназии, являло собой пародию на кадетские корпуса. И неудивительно, ведь военные гимназии были плодом либеральных реформ военного министра Милютина, действовавшего примерно так, как в наше время действовал его преемник Сердюков. Отличие одно… Милютин имел военное образование, окончил Императорскую военную академию, участвовал в боевых действиях по разгрому Шамиля на Кавказе, был ранен. Затем был назначен профессором Императорской военной академии по кафедре военной географии и статистики. Ещё во время службы на Кавказе, написал «Наставление к занятию, обороне и атаке лесов, строений, деревень и других местных предметов», а позднее «Историю войны 1799 г. между Россией и Францией в царствование императора Павла I». Трудно понять мотивы деятельности заслуженного генерала. Наверное, вмешалась политика, вмешались какие-то силы, воздействовавшие в то время на многих государственных деятелей – не все могли противостоять этим тайным силам, и иный сгибались под их натиском. Не нам их судить после того, что на наших глазах и при нашем молчаливом созерцании был разрушен могучий Советский Союз и разгромлена без войны его действительно непобедимая армия. Сколько времени и силы потребовалось, чтобы её возродить!
Последним разрушителем был известный всем специалист мебельных дел Сердюков. Он, в отличии от Милютина, службу в армии (срочную) окончил ефрейтором, а затем, до «удачного поворота судьбы» торговал мебелью, и ни к тактике, ни к оперативному искусству, ни тем боле к стратегии отношения никакого не имел. Ничего не понимал он и в Военном образовании. Недаром, придя к власти в армии, тут же сместил заслуженного боевого генерал-лейтенанта Олега Евгеньевича Смирнова с должности начальника управления Военного образования и назначил туда одну их своих «амазонок». Смирнов окончил Ленинградское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба, в которой впоследствии служил под началом генерала армии Игоря Родионова. Сменившая же его мадам командовала не то детсадом, не то яслями, где едва усидела на должности, а потом сразу по-сердюковски взлетела на такой пост. Сия кичливая амазонка, упивавшаяся властью, начала уничтожение суворовских военных училищ. Суворовцев лишили права участвовать в парадах, офицеров-воспитателей – кадровых военных – убрали из училищ. А тем, кто остался там работать, уже в запасе, запретили ходить в военной форме, чтобы «не травмировать души воспитанников». Прислали «дядек» и «тёток» уборщиками, да и много ещё жутких «чудес» натворили. Словом калечили суворовские военные училища, как когда-то калечили кадетские корпуса милютинцы. «Амазонка» же собирала непрерывные совещания и оглашала премудрости – мол, кормить в училищах только обедами. Завтракать и ужинать суворовцы и курсанты должны дома. Ей возражали, мол, не все же местные, есть и из других городов. «Не брать из других городов – требовала мадам – Москвичи пусть учатся в Москве, Петербуржцы – в Петербурге и так далее. А если в городе нет училища – «от винта». Опытные, убелённые сединами начальники училищ её не устраивали. Началась чистка. Достаточно сказать, что начальником Московского суворовского военного училища она успела назначить своего приятеля физрука не то детсада, не то яслей, который вылетел как пробка из бутылки, едва Министерство обороны возглавил генерал Армии Сергей Шойгу.
Ну а что получилось из милютинской реформы, Куприн описал достаточно подробно в повести «На переломе. (Кадеты)»
Словом, получается, что действия умного разрушителя столь же опасны, сколь и действия разрушителя безумного.
Я могу сравнить обстановку ярко и безусловно талантливо описанную Александром Ивановичем Куприным с той, что была в суворовских военных училищах, созданных Сталиным. Точнее, мне легче говорить о той, что сложилась в 60-е годы, когда я был суворовцем Калининского СВУ, и в 90-е годы, когда суворовцем Тверского (в прошлом Калининского СВУ) был мой сын.
Рассказ о любовных коллизиях в жизни Александра Ивановича Куприна, как бы там ни было, придётся начать с тех лет, когда он носил военную форму. Много страниц посвящено любовным приключениям в романе «Юнкера», много в повести «Поединок». Но начало начал жизненных университетов писателя всё же лежит в повести «Кадеты». Куприн не раз указывал, что не надо задавать вопросов о его жизни, всё это описано в «Кадетах», «Юнкерах», «Поединке».
В 1937 году, уже находясь в России, Александр Иванович рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» о «Кадетах»:
«В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести – Буланина и то, как мучительно тяжело переживал он незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин – это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь…» («Москва родная», «Комсомольская правда», 1937, № 235, 11 октября).
Интересно, что вместе с Куприным во втором Московском кадетском корпусе учился будущий композитор Александр Николаевич Скрябин. Л.А. Лимонтов вспоминал о том времени:
«Я был тогда таким же «закалой», грубым и диким, как и все мои товарищи кадеты. Силы и ловкость были нашим идеалом. Первый силач в роте, в классе, в отделении – пользовался всевозможными привилегиями: первая прибавка «второго» за обедом, лишнее «третье», даже стакан молока, назначенный врачом слабосильному кадету, нередко передавался первому силачу. Про нашего силача, Гришу Калмыкова, другой наш товарищ, А.И. Куприн, будущий писатель, а в ту пору невзрачный, маленький, неуклюжий кадетик, сочинил:
Наш Калмыков, в науках скромный,
Был атлетически сложен,
Как удивительный – огромный Парфен.
Он глуп, как Жданов первой роты,
Силён и ловок, как Танти.
Везде во всём имеет льготы
И всюду может он пройти».
Далее Лимонтов поясняет, что Парфен – это: «Повар-квасник в нашем корпусе. Очень большой и сильный мужчина», а Танти – «Клоун в цирке Соломонского».
В комментариях к повести «На переломе. Кадеты», помещённой во втором томе 6-томного Собрания сочинений А.И. Куприна (произведения 1896 – 1901 годов), изданного в 1957 году, читаем:
«В газете и в «Ниве» повесть была напечатана со следующими примечаниями автора:
«Вся гимназия делилась на три возраста: младший – I, II классы, средний – III, IV, V класса, и старший VI-VII»; «Курило» – так назывался воспитанник, уже умеющий при курении затягиваться и держащий при себе собственный табак».
В тексте «Жизни и искусства» в повести было шесть глав; заканчивалась VI глава словами:
«Говорят, что в теперешних корпусах нравы смягчились, но смягчились в ущерб хотя и дикому, но всё-таки товарищескому духу. Насколько это хорошо или дурно – Господь ведает».
В «Ниве» VI глава заканчивалась по-другому: «Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, что между кадетами и их воспитателями создаётся мало-помалу прочная родственная связь. Так это или не так – это покажет будущее. Настоящее ничего не показало».
К счастью, как уже упоминалось, Александр Третий вернул корпусам их былое значение. Ну а теперь Шойгу, став Министром обороны, разогнал весь смердяковский гарем, и суворовцев мы снова видим на парадах, а во главе парадных расчётов не физруков в спортивных подштаниках, а офицеров в военной форме!
Но как такие реформы отражаются на военном образовании? На кадетском и суворовском образовании? Не лучшим образом. Да и не нужны реформы. Традиции, славные боевые традиции – вот что главное!
Достаточно существует материалов о том, какое образование было в те времена, когда Александр Васильевич Суворов посещал занятия в кадетском корпусе – кадетом он как таковым не был, просто получил разрешение ходить на занятия, поскольку в Семёновском полку, где была организована подготовка офицеров, знаний, таких как в корпусе, не давали.
А чуть позже, во времена Екатерины Великой был такой случай – Пётр Александрович Румянцев во время русско-турецкой войны попросил на пополнение армии выпускников кадетского корпуса. Вскоре прибыли двенадцать молодых офицеров – тогда из корпуса офицерами выпускали. Румянцев побеседовал с каждым из них и тут же отписал Императрице, благодаря её за присылку «вместе двенадцати поручиков – двенадцати фельдмаршалов», настолько его поразила высокая подготовленность выпускников.
Очень сильной была подготовка в корпусах, программы составляли выдающиеся педагоги своего времени. Кутузов был кадетом, а позднее и начальников кадетского корпуса.
Аракчеев закончил Инженерный и Артиллерийский кадетский корпус. Мало того, будучи первым в науках, получил на старших курсах задачу заниматься с артиллеристами, которых присылали из действующей армии, с целью разработки новых приёмов и правил тактики действий артиллерии. Затем он создавал Гатчинскую армию Цесаревича Павла Петровича, которая была вовсе не потешными войсками, а разработки военные, проводимые в которой оказались впоследствии очень полезными. Кстати, именно Аракчеевым в Гатчине была основана конная артиллерия, блестяще показавшая себя в наполеоновских войнах.
Кадетские корпуса готовили прекрасных офицеров, из них выходили настоящие профессионалы… И вдруг Милютинские реформы. Благодаря «Кадетам» Куприна, мы знаем, что это были за реформы, и какие порядки насаждались посторонними для армии людьми, порой, ненавидящими военное дело и военных, так называемыми воспитателями. Одно из них ярко показал Александр Иванович Куприн во всём тупоумии и звероподобии этого ничтожества.
Но не пора ли сравнить, как было при Куприне, и как в наше время – я имею в виду золотое время суворовских военных училищ, когда даже несмотря на подлые действия Хрущёва, сохранялись порядки, установленные Сталиным и взятые и почерпнутые из лучших образцов кадетского образования Российской Империи.
Перечитываю Куприна «Кадеты».
Тяжёлое, гнетущее впечатление. Со всем своим мастерством Александр Иванович показал тяжёлую обстановку в корпусе – в год его поступления ещё называвшимся военной гимназией. Кстати, в интернете даже сказано в защиту кадетских корпусов, что время было такое. Корпуса кадетские реформировались в военные гимназии, многое было испорчено и разрушено. И уже потом восстанавливалось – во все времена были вредители в Русской армии, как в Советской, так и ныне в Российской. Были и другие порядки – отличные от тех, что показал Александр Иванович Куприн. Достаточно прочитать Н. Лескова «Кадетский монастырь».
Но мы ведём разговор о конкретном произведении Куприна, о «Кадетах» (На переломе).
Особенно тяжёлыми были первые дни, когда главный герой воспитанник Буланин только что переступил порог учебного заведения, в то время ещё военной гимназии.
Старшие сразу стали обижать…
«– Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?
Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его сонным, скучающим взглядом».
Итак, первое знакомство с тем пороком, который впоследствии, уже в наше время, наименовали «дедовщиной».
Старший начинает придираться к новичку:
«– Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие, – сказал он, трогая одну из них пальцем.
– О, это такие пуговицы... – суетливо обрадовался Буланин. – Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!

Старичок захватил между своими двумя грязными пальцами пуговицу и начал вертеть её. Но пуговица не поддавалась. Курточка шилась дома, шилась на рост, в расчёте нарядить в неё Васеньку, когда Мишеньке она станет мала. А пуговицы пришивала сама мать двойной провощённой ниткой.
Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал:
– Крепкая пуговица!.. Эй, Базутка, – крикнул он пробегавшему мимо маленькому белокурому, розовому толстяку, – посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!
Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа…
(…) Но пуговица держалась по-прежнему крепко.
– Позовите Грузова! – сказал кто-то из толпы.
Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.
Пришёл Грузов, малый лет пятнадцати, с жёлтым, испитым, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года, – один из первых силачей возраста. Он, собственно, не шёл, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сиплым басом:
– Что у вас тут, ребята?
Ему рассказали, в чём дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился».
Поиздевавшись над фамилией Буланина, спросил:
«– А ты Буланка, пробовал когда-нибудь маслянка?
– Н... нет... не пробовал.
(…)– Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?
И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом дробно костяшками всех остальных, сжатых в кулак.
– Вот тебе маслянка, и другая, и третья?.. Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, ещё хочешь?
Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслянками накормил».
Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трёх маслянок ему было так больно, что невольно слёзы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал её с ожесточением крутить. Однако, несмотря на то, что он прилагал всё большие и большие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своём месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он упёрся одной рукой в грудь Буланина, а другой изо всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол.
…Как он ни старался удержаться, слёзы всё-таки же покатились из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке…»
Таково знакомство с детищем Милютина, военной гимназией, преобразованной из кадетского корпуса, путём разрушения военных порядков и превращения их в нечто полугражданское, полутюремное. А ведь ещё недавно корпуса готовили блистательных выпускников, сильных духом, твёрдых в своих убеждениях.
По иному всё устроено в суворовских училищах – подобного мракобесия, во всяком случае, в Калининском СВУ, не встречал. Возьмём, к примеру, гостинцы, которые Грузов велел Буланину приносить из дому, когда будут отпускать в город. И тот принёс, но ребята успели разобрать и съесть всё до появления Грузова. В результате Грузов снова избили новичка.
Во время учёбы в Калининском СВУ я часто бывал в увольнении. В Калинине (ныне Тверь) в ту пору жила моя мама с новой семьей – с отцом моим они были в разводе.
Так вот и мама, и её муж были не только очень гостеприимными и хлебосольными – они вообще были добры к окружающим. А муж мамы, Юрий Александрович Гарбузов – до войны учился в авиационной спецшколе. Наверное, в какой-то мере это было что-то вроде военной гимназии, предшествовавшей кадетскому корпусу. То есть, спецшколы некоторым образом предшествовали суворовским военным училищам.
Но речь не о том. Пройдя спецшколу, Юрий Александрович с особым теплом относился к суворовцам. Когда заканчивалось моё увольнение в город, меня нагружали мамиными пирожками, плюшками, крендельками – готовила она очень вкусно.
Я приходил в училище, докладывал о прибытии дежурному по училищу, затем спешил в роту, что бы доложить дежурному офицеру воспитателю, поскольку именно время доклада считалось прибытием… По пути открывал дверь спального помещения своего взвода и бросал на ближайшую кровать пакет. Гостинцы тут же разбирали. И никто по пути не нападал, не отбирал их, хотя путь от комнаты, где в то время находился дежурный по училищу, до расположения моей роты проходил через роту старшекурсников.
Мои товарищи настолько привыкли к этому, что уже в Московском высшем общевойсковом командном, где оказались многие из тех, с кем мы учились в СВУ, тоже первое время ждали моего прихода. Но, увы, носить уже было нечего… Мама была в Калинине… А в Москве – отец и старенькая бабушка. Бабушка только на свои именины пекла много пирогов, и тогда я, если отпускали в город, брал их с собой, а так… ничего приносить уже не удавалось.
Отец же присылал посылки ещё в суворовское – фруктовые посылки. Яблоки, груши, что-то ещё, что могло дойти по почте.
За посылками нас отпускали в город, на почту. Конечно, в первый год учёбы приходилось прорываться в роту с боем. Старшие, как говорили, могли отнять. Но я не помню ни одного случая, чтобы отняли у кого-то посылку. Ну а во взводе тоже установился особенный порядок.
Обычно посылки мы получали уже после самоподготовки или, в крайнем случае, отпускали за ними с последнего часа. Приносили в класс в личное время и тут же всё делили поровну между суворовцами. Хозяину дозволялось взять себе побольше, хотя, для чего? Ведь никто бы не стал есть что-то в одиночку, никого не угощая. Присланным делились с товарищами все без исключения. Делились с удовольствием – таков был настрой, таковы традиции. Никакие старшие, никакие силачи-гузовы ничего не отнимали и себе не забирали. Присылали посылки практически всем, ну разве что не получали посылок те, кто поступил в училище из детдома или воспитывался без родителей, ну, то есть у кого не было родственников, способных что-то прислать. Но никто и не интересовался, кому присылают, кому нет – единая суворовская семья!
Как-то осенью, когда я уже учился в Московском ВОКУ на втором курсе (мы, суворовцы, поступали сразу на второй курс высших общевойсковых училищ), приехал навестить отец. Дело было в субботу вечером или в воскресенье. Рота ушла в кино, а я отправился в комнату посетителей. Ну и потом принёс в класс целый пакет фруктов.
В суворовском мы обычно раскладывали гостинцы по столам, всем поровну. Но здесь я сел за свой стол, взял, что хотелось, а всё остальное высыпал на преподавательский стол, чтобы взяли все, кто хочет.
И вот в коридоре послышался шум – рота вернулась из клуба. Зашёл в класс первым Петя Никулин и с удивлением уставился на фрукты.
– Это что? Откуда?
– Отец привёз, – равнодушно ответил я.
– Так ты чего разложил? Спрячь в свой шкаф, а то сейчас налетят и расхватают.
– Для того и положил…
– А мне можно взять?
– Конечно, бери, только помни, что здесь на всех…
Впрочем, гостинцы – лишь одна сторона
Этой жизни… Есть и много другого, что хотелось бы сравнить с купринским кадетством. Но я и так позволил себе слишком удалиться от главной темы повествования.
Александров – юнкер-Александровец
Не случайно Александр Иванович Куприн дал герою своего романа «Юнкера» фамилию Александров. Это намёк на то, что Александров – это он сам, юнкер Александр Куприн, который осенью 1888 года после окончания кадетского корпуса поступил в Александровское юнкерское училище.
Учёба в кадетском корпусе не прошла даром. Корпус воспитал грамотного в науках, подтянутого в строевом отношении, развитого физически юношу. Это был образованный, культурный человек, прекрасный танцор – в кадетском корпусе танцам и правилам этикета отдавалось большое предпочтение. Это первые годы были тяжёлыми в непонятном учебном заведении, названном Военной гимназией, но постепенно положение выровнялось. Просто Куприн не довёл своего повествование до выпуска, а остановил его на ранившем душу эпизоде, связанном с розгами.
Прототипом матери юнкера Александрова стала и Любовь Алексеевна Куприна. Юнкер Александров называет её «обожаемой».
Вот строки из романа:
«Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алёша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии…»
Куприн не скрывал, что юнкера Александрова писал с себя и наделил его всеми своими проказами. Даже выдумывать ничего не требовалось – на шалости он был богат.
В юнкерские годы проявилась особенная наклонность будущего классика русской литературы – необыкновенная влюбчивость. Он сам признавался, что влюблялся в каждую новую партнёршу по танцам – в кадетские корпуса на уроки танцев приглашали гимназисток.
Но когда же пришла первая любовь к будущему писателю?
Ответ надо искать в романе «Юнкера»:
«Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пёстрых и благоуханных; вернее – их набрался целый чемодан, до того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!
И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зелёных рощ и садов – всегда на первом плане, всегда на главном месте она; непостижимая, недосягаемая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная – Юлия…»
И далее в книге:
«...С большим трудом удалось ему улучить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой, но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем, она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала:
– Забудем летние глупости, милый Алёша. Прошёл сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов».
Не первая ли эта любовная драма в жизни писателя? Ведь писал Куприн с себя самого и писал зачастую почти с документальной точностью, даже имена героям давал со смыслом. Он сам – Александр. Главный герой – юнкер Александров.
Куприн показывает своего героя и в первых его увлечениях таким, каким он был сам. Александров даже с шутливой иронией называет себя «господином Сердечкиным».
Куприн не раз прямо говорил о том, что юнкер Александров – это он сам. Вот и относительно увлечения Юлией сказано в интервью: «В то лето я был «безумно» влюблён в старшую из трёх сестер Синельниковых, в полную волоокую Юленьку – Юлию Николаевну».
Влюбчивость… В чём её причины? Только ли в характере человека? А почему мы не учитываем обстоятельства? Позади кадетский корпус. Годы ограничений – чтобы попасть в город, нужно получить увольнительную. Следовательно, встречи с девочкой или девушкой, которая тронула сердце, могут быть только тогда, когда юноша, на плечах которого погоны, получал увольнительную.
А у сверстниц этих самых юношей в погонах свобода полная. Каждая ли станет терпеливо сидеть дома, отказывая себе пусть даже в самых безобидных развлечениях?
Помню, один мой приятель курсант, когда мы учились в Московском ВОКУ, с огорчением поделился разговором со своей девушкой.
После окончания суворовского военного училища он пришёл в Московское высшее общевойсковое командное училище, ставшее наследником Александровского юнкерского училища. Девушка же его, с которой он встречался ещё суворовцем, несколько огорчилась – она рассчитывала, что он поступит в академию, что будет более или менее свободен – с увольнительными в академиях значительно легче. Не то что у кремлёвцев…
– Да, отпускать будут редко, – со вздохом сказал он. – Во всяком случае, на первом, может на втором курсе. Потом будет уже легче…
– Так что ж, – с раздражением заявила она. – Я, по-твоему, должна законсервироваться на это время?
Вот и приходилось и суворовцам, и курсантам учитывать этакие обстоятельства, учитывать, что не все их пассии готовы «законсервироваться», что многие из них не будут сторониться весёлых компаний – за забором училища жизнь будет продолжаться…
Продолжалась эта жизнь и за воротами Александровского юнкерского училища. Куприн рассказывает о первых пусть маленьких любовных трагедиях юнкера Александрова, но всё же трагедиях… Пока он учился, жизнь продолжалась.
Сначала: «А мне без вас так ску-у-чно. Ваша Ю. Ц.». Потом: «Забудем летние глупости, милый Алёша… А теперь прощайте…».
Но и это не всё… Он приглашён на бракосочетание Юлии… Серьёзно ли переживал юнкер? Переживал, но не очень серьёзно. Вероятно, так же, с налётом огорчения, но всё же более или менее спокойно встретил подобную трагедию, будучи юнкером, и сам Александр Иванович Куприн. Юлия не пожелала «законсервироваться»…
Что ж, такое бывало нередко…
А сколько подобных историй. Вот строки из письма моего однокашника, тоже Николая, а фамилия… Фамилию называть не буду, не в этом суть. Он прочитал мою повесть и тут же пошли воспоминания…
«Коля, привет. Да классно ты всё написал. Было время, как мы были молоды тогда. Да и не все смогли делать так, как хотелось. У меня практически получилась твоя история. Только девушка первая приняла решение выйти замуж за однокурсника – уж очень он ей вскружил голову. Тем более, я был в Москве, а она в Петрозаводске. Правда, потом она была дружкой у моей жены на свадьбе. С тех пор о ней ничего не знаю. Слышал только, что она через полгода после моей свадьбы развелась, уехала к родителям в Москву, родила сына. Но я был уже в Германии. А затем все следы затерялись, да и восстанавливать их вроде уже не стоит. Мы с женой вместе уже 43 года. Я ведь говорил тебе, что женился на зимних каникулах на 4-м курсе. Вот так и живём. А может, с той бы и жили лучше. Но не будем о грустном. У каждого своя история жизни. Будем жить. Пиши…»
Причина – он в Москве, она – в Петрозаводске. Не захотела «законсервироваться». Ну а что вышло, то вышло.
Меня поражает, сколько же общего между нами – кремлёвцами второй половины двадцатого века и александровцами конца девятнадцатого века. Ведь Куприн учился в Александровском юнкерском училище ещё в годы царствования Александра Третьего…
В какой-то степени это объяснимо – ведь Советская военная школа строилась на фундаменте Российской Императорской военной школы.
Снова вспоминается фраза о влюбчивости Куприна. Да только ли Куприна, если брать его военные годы. Особая влюбчивость характерна для военных вообще, разумеется, прошедших настоящую военную школу – я имею в виду военные училища, а не военные кафедры институтов. И в особенности училища строевые, где дисциплина много жёстче, нежели, скажем, в военных академиях, куда принимают на инженерные факультеты некоторое количество слушателей без офицерских званий – со школьной скамьи или со скамьи суворовской и кадетской.
И всё та же причина – неустойчивость отношений с прекрасным полом из-за острого дефицита свободного времени на такие отношения. Да и знакомства!? Как, каким образом суворовец или курсант может познакомиться с девушкой?
Лучшее место – танцевальные вечера. В училище… В дореволюционной России это были балы. Шикарные, торжественные балы… Теперь они возрождаются… В Путинской России возрождаются. В России ельциноидной эпохи ельцинизма вообще всё было предано забвению, что только можно забвению придать.
Куприн же не щадил недостатков военной системы, говорил о них прямо и открыто, но… Он показывал и блистательные стороны военной службы – почёт этой службы, её красоту…
В «Юнкерах» замечательно описание бала, на который были отправлены по шесть человек с каждой роты. Александров, у которого уже было назначено свидание, пытался упросить командира не отправлять его, но ничего не вышло. И вот он в прекрасном зале, где предстоит бал…
«Он уже… заторопился было к ближнему концу спасительной галереи, но вдруг остановился на разбеге: весь промежуток между двумя первыми колоннами и нижняя ступенька были тесно заняты тёмно-вишнёвыми платьицами, голыми худенькими ручками и милыми, светло улыбавшимися лицами.
– Вы хотите пройти, господин юнкер? – услышал он над собою голос необыкновенной звучности и красоты, подобный альту в самом лучшем ангельском хоре на небе.
Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо. Точно случайно, как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Чёткость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть, тысячу лет назад, и теперь сразу вновь узнал её всю и навсегда, и хотя бы прошли ещё миллионы лет, он никогда не позабудет этой грациозной, воздушной фигуры со слегка склонённой головой, этого неповторяющегося, единственного «своего» лица с нежным и умным лбом под тёмными каштаново-рыжими волосами, заплетёнными в корону, этих больших внимательных серых глаз, у которых раёк был в тончайшем мраморном узоре, и вокруг синих зрачков играли крошечные золотые кристаллики, и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах, такой совершенной формы, какую Александров видел только в корпусе, в рисовальном классе, когда, по указанию старого Шмелькова, он срисовывал с гипсового бюста одну из Венер…»
Удивительны описания самого бала, его участников и участниц. Не побывав на балу, так не напишешь.
Судите сами:
«Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед ёмкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило…»
Такое мог написать только человек, сердце которого, выражаясь языком Екатерины Великой «ни на час не может быть свободным от любви». Да, действительно, только человек, сердце которого способно любить, в состоянии написать такие строки, поскольку способен прочувствовать и осознать, что творится у него в душе…
Читаешь строки романа и невольно возвращаешься в необыкновенную обстановку вечеров и в суворовском, и в общевойсковом училищах. Конечно, они уступали великолепному балу, на который были приглашены юнкера Александровского училища и на котором, наверняка был сам Куприн в бытность свою юнкером – иначе бы не сделал столь блистательного описания.
Различна обстановка, но разве не такой же необыкновенный трепет испытывали и суворовцы, и курсанты 60-х, 70-х или 80-х лет девятнадцатого века?
Описания бала, которые сделал Куприн, буквально завораживают:
Юнкер Александров. Юный совсем и, как мы уже знаем, влюбчивый. Александров – то есть Александр. Александр Куприн сражён прекрасной пока ещё незнакомкой и мысли его восторженны – впрочем, разве не были и наши мысли, мысли суворовцев восторженными на вечерах, когда перед нами раскрывалась палитра красок в лице приглашённых в гости девушек…
А в романе «Юнкера» эти девушки показаны необыкновенно. Недаром юнкер Александров в восторге:
«Неужели я полюбил? – спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим: телу, крови и разуму, и решил твердо: – Да, я полюбил, и это уже навсегда».
Какой-то подпольный ядовитый голос в нём же самом сказал с холодной насмешкой: «Любви мгновенной, любви с первого взгляда – не бывает нигде, даже в романах». «Но что же мне делать? Я, вероятно, урод», – подумал с покорной грустью Александров и вздохнул. «Да и какая любовь в твои годы? – продолжал ехидный голос. – Сколько сот раз вы уже влюблялись, господин Сердечкин? О, Дон-Жуан! О, злостный и коварный изменник!»
И вот он, донжуанский список юнкера Александрова, который, надо думать, и является разве что немного изменённым донжуанским списком самого Александра Ивановича Куприна.
«Послушная память тотчас же вызвала к жизни все увлечения и «предметы» Александрова. Все эти бывшие дамы его сердца пронеслись перед ним с такой быстротой, как будто они выглядывали из окон летящего на всех парах курьерского поезда, а он стоял на платформе Петровско-Разумовского полустанка, как иногда прошлым летом по вечерам.
...Наташа Манухина в котиковой шубке, с родинкой под глазом, розовая Нина Шпаковская с большими густыми белыми ресницами, похожими на крылья бабочки-капустницы, Машенька Полубояринова за пианино, в задумчивой полутьме, быстроглазая, быстроногая болтунья Зоя Синицына и Сонечка Владимирова, в которую он столько же раз влюблялся, сколько и разлюблял её; и трое пышных высоких, со сладкими глазами сестёр Синельниковых, с которыми, слава Богу, всё кончено; хоть и трагично, но навсегда. И другие, и другие, и другие... сотни других... Дольше других задержалась в его глазах маленькая, чуть косенькая – это очень шло к ней – Геня, Генриетта Хржановская. Шесть лет было Александрову, когда он в неё влюбился. Он храбро защищал её от мальчишек, сам надевал ей на ноги ботинки, когда она уходила с нянькой от Александровых, и однажды подарил ей восковую жёлтую канарейку в жестяной сквозной, кружками, клетке.
Но унеслись эти образы, растаяли, и ничего от них не осталось. Только чуть-чуть стало жалко маленькую Геню, как, впрочем, и всегда при воспоминании о ней.
«О нет. Всё это была не любовь, так, забава, игра, пустяки, вроде – и то правда – игры в фанты или почту. Смешное передразнивание взрослых по прочитанным романам. Мимо! Мимо! Прощайте, детские шалости и дурачества!»
Но теперь он любит. Любит! – какое громадное, гордое, страшное, сладостное слово. Вот вся вселенная, как бесконечно большой глобус, и от него отрезан крошечный сегмент, ну, с дом величиной. Этот жалкий отрезок и есть прежняя жизнь Александрова, неинтересная и тупая. «Но теперь начинается новая жизнь в бесконечности времени и пространства, вся наполненная славой, блеском, властью, подвигами, и всё это вместе с моей горячей любовью я кладу к твоим ногам, о возлюбленная, о царица души моей».
Мечтая так, он глядел на каштановые волосы, косы которых были заплетены в корону. Повинуясь этому взгляду, она повернула голову назад. Какой божественно прекрасной показалась Александрову при этом повороте чудесная линия, идущая от уха вдоль длинной гибкой шеи и плавно переходящая в плечо. «В мире есть точные законы красоты!» – с восторгом подумал Александров.
Улыбнувшись, она отвернулась. А юнкер прошептал:
– Твой навек…»
В «Юнкерах» имена многих героев взяты из жизни и совсем не изменены. Значит, и «донжуанский список» взят из жизни и вовсе не является вымышленным.
А между тем, представления хозяйки окончились, и «тонкий, длинный офицер с аксельбантами» объявил:
– Полонез! Кавалеры, приглашайте ваших дам! Полонез! Дамы и господа, потрудитесь становиться парами.
Ну что ж, настал важный момент… Вспыхнуло сердце любовью! Так куда же направить эту вспышку, как не на предмет её. Куприн великолепно описывает начало бала:
«Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с лёгкой улыбкой, точно ожидая его приглашения.
– Позвольте просить вас на полонез, – сказал юнкер с поклоном.
Её улыбка стала ещё милее.
– Благодарю, с удовольствием.
Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией.
«Точно принцесса крови», – подумал Александров, только недавно прочитавший «Королеву Марго». Под руку они подошли к строящемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары..»
Бал продолжался, великолепный бал, впрочем, он великолепен потому, что рядом с юнкером удивительная, очаровательная партнёрша. За полонезом следовал вальс…
Конечно, в нашу бытность курсантами таких пышных и торжественных балов не было. Устраивались вечера танцев в новом клубе училища, прекрасно по тем временам клубе, с большим и просторным кинозалом, где проводились и важные училищные мероприятия и концерты, с музеем истории училища, с помещениями для разных занятий и, конечно, с танцевальным залом. Он сверкал паркетом, освещался ярко, празднично. Постамент для курсантского ансамбля, ряд стульев вдоль окна и противоположной окну стены. В танцевальном зале нас учили новым танцам, правда, в отличие от суворовского училища уже не всех, а желающих. Был организован кружок. Нельзя сказать, чтоб отбоя не было, ведь наступил век, когда правильно танцевали немногие. В основном топтались по медленную музыку, и скакали под ритмичные звуки без всякой системы. И только вальс оставался вальсом. Но белый вальс объявляли редко по простой при чине – девушки зачастую не умели вальсировать, а выбрать кавалера и потоптаться с ним под приятную музыку хотелось. Так и знакомства заводились.
В пышности балов, в мастерстве танцоров мы, конечно, уступали юнкерам, но в любви… Разве сердца курсантов бились иначе? Разве иначе действовала на нас притягательная сила наших русских красавиц, московских красавиц, которые с удовольствием приходили к нам на вечера. Мы так же любили, так же рвались в увольнения, чтобы встретиться с любимыми, и потому роман Куприна «Юнкера» особенно дорог тем, кто когда-то в юности носил или носит ныне курсантскую форму.
И легко читаются строки романа, и входит это роман в самое сердце:
«Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки штраусовского вальса… Ещё находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встаёт. Легко и доверчиво её левая рука ложится, чуть прикасаясь, на его плечо, а он обнимает её тонкую, послушную талию».
(…) В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалки, музыка Шопена, созерцание скромной, как бы не сознающей самоё себя женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой ручонки…»
И мысли, мысли в романе – мысли Александрова – это мысли самого Александра Ивановича, мысли о самой сущности жизни, о любви, о красоте, земной красоте, в которую писатель «инстинктивно так влюблён.., что готов боготворить каждый её осколочек, каждую пылинку...»
Куприн был превосходным танцором, он любил танцевать и сам признавался, что влюблялся во всех своих партнёрш в танцах поочерёдно. Эту свою любовь к танцам он подарил юнкеру Александрову и благодаря этому щедрому писательскому подарку, мы можем видеть эту любовь Куприна, восхищаться ею, потому что прекрасным нельзя не восхищаться…
В кадетских корпусах урокам танцев придавалось серьёзное значение. В суворовских училищах тоже были уроки танцев. Правда, когда учился я, девушек на эти уроки не приглашали, а танцевать друг с другом как-то нам не очень нравилось – мы ведь не какие-то зачуханные гейропейцы с извращённой психикой – мы нормальные мужики, хоть и совсем ещё юные. Учили нас танцевать вальс, танго и зачем-то какой-то липси, который, кажется, придумали в ГДР в 1958 году. Прорывалась уже бессмысленность. Прорывалась с запада сначала в страны народной демократии, а потом и к нам. Следование моде… причём, бессмысленность теперь очевидна – в суворовском нас учили, кроме классических танцев, этим самым липси, а в Московском высшем общевойсковом кружковцев обучали мэдисону. И весь этот западный бред был настолько временным, что курсантом я уже не помнил и не видел нигде липси, а офицером ни разу не слушал мэдисона.
И всё же классику не забывали, к счастью не забывали… Но далеко не все танцы, которые описал Куприн, знакомы нынешнему читателю. О некоторых знаем мы лишь так, понаслышке.
«Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать; об этом, во-первых, он знал сам, во-вторых, ему говорили товарищи, мнения которых всегда столь же резки, сколь и правдивы; наконец, и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его: «Недурно, господин юнкер, так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам и с субботы до воскресенья (если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище) он плясал до изнеможения, до упаду в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва».
Неистово танцевала вся Москва! Как это замечательно! И замечательно то, что неистово танцевали москвичи классические танцы, что не топтались как ныне на месте под медленную, порой, совсем даже не танцевальную музыку и не прыгали и скакали как оглашенные под музыку джунглей.
Суворовцы очень любили танцевать, практически все любили танцевать. Любили танцевать и курсанты и офицеры…
Но, конечно, помогало то, что в послевоенное советское время учили танцам – учили в суворовских военных училищах обязательно, учили во многих училищах офицерских факультативно или путём создания танцевальных кружков.
Танцевальные вечера, так же как и старые, давние балы всегда дарили и дарят столько надежд, столько неясных волнений. И как прекрасно, когда на балах или вечерах танцевальных кружатся пары, лёгкие, грациозные, стройные, когда зал сверкает огнями люстр, которые отражаются в золоте эполет и золотых погон нынешней уже более скромной парадной формы.
Курсантские погоны ещё не золотые, но с золотистой окантовкой. И на курсантских вечерах далеко не у всех, а точнее ни у кого практически из барышень нет уже пышных бальных платьев. Но это не мешает испытывать то же волшебное состояние, которое испытывал Александров и его однокурсники юнкера на прекрасном балу…
Разве не волнуют нынешних курсантов, как волновали когда-то юнкеров случайные взгляды, лёгкие прикосновения, вскользь брошенные фразы, заставляющие яростно биться сердца:
«Случалось так, что иногда её причёска почти касалась его лица; иногда же он видел её стройный затылок с тонкими, вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что её шея пахнет цветом бузины, тем прелестным её запахом, который так мил не вблизи, а издали.
– Какие у вас славные духи, – сказал Александров.
Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, раскрасневшееся от танца лицо.
– О нет. Никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл.
– Не позволяют?
– Совсем не потому. Просто у нас не принято. Считается очень дурным тоном. Наша maman как-то сказала: «Чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет».
Но странная власть ароматов! От неё Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь: его дама говорила так близко от него, что он чувствовал её дыхание на своих губах. И это дыхание... Да...
Положительно оно пахло так, как будто бы девушка только что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал…»
Но вот бал окончен, и когда юнкера спускались по широкой, «растреллиевской лестнице в прихожую, все воспитанницы облепили верхние перила, свешивая вниз русые, золотые, каштановые, рыжие, соломенные, чёрные головки.
– Благодарим вас! Спасибо, милые юнкера, – кричали они уходящим, – не забывайте нас! Приезжайте опять к нам на бал! До свиданья! До свиданья!
…Зиночка махала прозрачным кружевным платком, …её смеющиеся глаза встретились с его глазами и… он ясно расслышал снизу её громкое: – Пишите! Пишите!»
На как написать? Кто передаст письмо? И герой Куприна – то есть сам Куприн – находит выход. В субботу, получив увольнительную, он идёт в гости к сестре и там пишет «довольно скромное послание, за которым… нельзя не прочитать пламенной и преданной любви:
«Знаю, что делаю дурно, решаясь писать Вам без позволения, но у меня нет иного средства выразить глубокую мою благодарность судьбе за то, что она дала мне невыразимое счастье познакомиться с Вами на прекрасном балу Екатерининского института. Я не могу, я не сумею, я не осмелюсь говорить Вам о том божественном впечатлении, которое Вы на меня произвели, и даже на попытки сделать это я смотрю как на кощунство. Но позвольте смиренно просить Вас, чтобы с того радостного вечера и до конца моих дней Вы считали меня самым покорным слугой Вашим, готовым для Вас сделать всё, что только возможно человеку, для которого единственная мечта – хоть случайно, хоть на мгновение снова увидеть Ваше никогда не забываемое лицо. Алексей Александров, юнкер 4-й роты 3-го Александровского военного училища на Знаменке».
Когда буквы просохли, он осторожно разглаживает листик Сониным утюгом. Но этого ещё мало. Надо теперь обыкновенными чернилами, на переднем листе написать такие слова, которые, во-первых, были бы совсем невинными и неинтересными для чужих контрольных глаз, а во-вторых, дали бы Зиночке понять о том, что надо подогреть вторую страницу.
Очень быстро приходит в голову Александрову (немножко поэту) мысль о системе акростиха. Но удаётся ему написать такое сложное письмо только после многих часов упорного труда, изорвав сначала в мелкие клочки чуть ли не десть почтовой бумаги. Вот это письмо, в котором начальные буквы каждой строки Александров выделял чуть заметным нажимом пера.
Дорогая Зизи!
Помнишь ли ты, как твоя старая тётя
Оля тебя так называла? Прошло два го
да, что от тебя нет никаких пис
ем. Я думаю, что ты теперь вы
росла совсем большая. Дай тебе Бо
же всего лучшего, светлого
и, главное, здоровья. С первой поч
той шлю тебе перчатки из козь
ей шерсти и платок оре
нбургский. Какая радость нам,
ангел мой, если летом приедешь в
Озерище. Уж так я буду обере
гать тебя, что пушинки не дам сесть.
Няня тебе шлёт пренизкие поклоны.
Ее зимой все ревматизмы мучили.
Миша в реальном училище,
Учится хорошо. Увлекается
Акростихами. Целую тебя
Крепко. Вашим пишу отдельно.
Твоя любящая
Тетя Оля".
На конверт прилепляется не городская, а (какая тонкая хитрость) загородная марка. С бьющимся сердцем опускает его Александров в почтовый ящик. «Корабли сожжены», – пышно, но робко думает он.
Далее следует сцена расшифровки письма, затем описывается получение ответного письма с вложенной фотокарточкой.
И, наконец, назначение свидания. Зинаида Белышева написала:
…«На второй день масленицы, в два часа пополудни, приходите на каток Чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша 3. Б.».
Ваша! О, господи! Ваша! Это словечко точно горячей водою облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову.
Удивительная проницательность Куприна проявляется в каждом эпизоде, сквозит в каждой фразе. Это относится и к сценам на катке:
«И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческом есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствий. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные; им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое истинное блаженство для скромных влюблённых. «Любишь?» – спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки их чуть-чуть розовеют.
«Люблю, люблю, – отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой.
– «А ты меня любишь?»
– «Люблю».
– «Любишь». «Люблю»….
Самого скромного, самого застенчивого признания не смогли бы произнести их уста, но эти волнующие безмолвные возгласы: «Любишь.
– Люблю», – они посылают друг другу тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда, ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни пресыщения».
Когда Александра Ивановича Куприна попросили рассказать о его военной службе – о учёбе в кадетском корпусе, в Александровском юнкерском училище и о первых офицерских испытаниях, он ответил, что всё описано в «Кадетах», «Юнкерах» и «Поединке», словом, ещё раз подтвердил, что он повествовал о себе, о своей жизни, практически без вымыслов. Разве что фамилии героев сделал вымышленными, но как помни, обидчика по кадетскому корпусу вывел под истиной фамилией.
И только одно осталось тайной. Чем окончилась трепетная юнкерская любовь, волновавшая не одно поколение читателей и особенно читателей военных – во всяком случае меня и моих товарищей – курсантов роман не оставил равнодушными. «Юнкерами» зачитывались, потому что находили отражение и своей жизни, и своих первых любовных удач и неудач.
Удивительная сцена объяснения в любви. Удивительна и откровенна. Действительно, жизнь молодых офицеров не была легка. И оклады не высокие, и служба в гарнизонах.
И в Советской Армии не так уж легко было. Правда, даже у лейтенанта оклад был выше, нежели у инженеров в разных НИИ и прочих учреждениях. Впрочем, начинать жизнь всегда сложно. Строить семью, когда жене, порой негде работать, тоже не очень просто. Читая роман и повести Куприна, я, приверженец Самодержавия, не могу не сказать, что при Советской власти было легче чем-то необъяснимым. Наверное тем, что очень сильно декларировалось, а потому и вольно и невольно выполнялось и теми, кто был с двойным дном, правило – «человек человеку друг». Хотелось бы доказать, что это положение вещей в Императорской России было выше, да не всегда получается.
Но сейчас речь не о том. Перед нами юнкер, будущий офицер. Он делает предложение, но при этом вынужден сказать обо всех трудностях и невзгодах, которые неотвратимо возникнут на пути к семейному счастью:
«И вот Александров решается сказать… что давно уже собиралось и кипело у него в голове...
– Зинаида Дмитриевна… Я давно уже полюбил вас... полюбил с первого взгляда там... там, ещё на вашем балу. И больше... больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте мне... дайте высказаться. Я в этом году, через три, три с половиною месяца, стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия, и я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я также отлично знаю тяжёлое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц сорок три рубля с копейками. Поручик – а это уже три года службы – сорок пять рублей. На такое жалование едва-едва может прожить один человек, а заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его, как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготовляться к экзамену в Академию Генерального штаба. На это уйдёт ровно два года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни на капельку не сомневаюсь, ибо путеводной звездою будете вы мне, Зиночка.
Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом, и замолк было.
– Продолжайте, Алеша, – тихо сказала Зиночка, и от её ласки буйно забилось сердце юнкера.
– Я сейчас кончу. Итак, через два года с небольшим – я слушатель Академии. Уже в первое полугодие выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою и насколько значителен мой удельный вес, настолько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь – жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого. Если окажется моё начало счастливым – я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен – впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни. И вот тогда, Зиночка, позволите ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубокочтимому папе, и просить у него, как величайшей награды, вашу руку и ваше сердце, позволите ли?
– Да, – еле слышно пролепетала Зиночка.
(…)Маленькая нежная ручка Зиночки вдруг обвилась вокруг его шеи, и губы её коснулись его губ тёплым, быстрым поцелуем.
– Я подожду, я подожду, – шептала еле слышно Зиночка. – Я подожду. – Горячие слёзы закапали на подбородок Александрова, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слёзы возлюбленной женщины имеют солёный вкус.
– О чём вы плачете, Зина?
– От счастья, Алёша…»
Осталось тайной, кто прототип Зинаиды Белышевой, во всяком случае, мне эту тайну разгадать не удалось. Может, кому-то повезло больше. Интересно было бы прочитать.
Ну а первая попытка жениться у Куприна была позже, в годы офицерской службы.
10 августа 1890 года состоялся торжественный выпуск из Александровского училища и производство в подпоручики. Училище Куприн окончил «по первому разряду».
В романе «Юнкера» прекрасно описана сцена прощания и главное, напутственные слова начальника Александровского училища, который пригласил к себе выпускников:
«Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келия схимника. Украшали её только большие, развешанные по стенам портреты Тотлебена, Корнилова, Скобелева, Радецкого, Тер-Гукасова, Кауфмана и Черняева, все с личными надписями.
Анчутин холодно и спокойно оглядел бывших юнкеров и начал говорить (Александров сразу схватил, что сиплый его голос очень походит на голос коршевского артиста Рощина-Инсарова, которого он считал величайшим актёром в мире).
– Господа офицера, – сказал Анчутин, – очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнёте новую, далеко не лёгкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее семидесяти пяти господ офицеров – большое, очень большое общество. Но уже давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, как, например, на кораблях в кругосветном рейсе, в полках, в монастырях, в тюрьмах, в дальних экспедициях и так далее, и так далее, – там, увы, неизбежно заводится самый отвратительный грибок – сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна. Так вот вам мой единственный рецепт против этой гнусной тли. Когда придёт к тебе товарищ и скажет: «А вот я вам какую сногсшибательную новость расскажу про товарища Х.» – то ты спроси его: «А вы отважитесь рассказать эту новость в глаза этого самого господина?» И если он ответит: «Ах нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет» – тогда громко и ясно ответьте ему: «Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу её слушать».
Закончив это короткое напутствие, Анчутин сказал сиплым, но тяжёлым, как железо, голосом:
– Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте.
Господа офицеры поневоле отвесили ему ермоловские глубокие поклоны и вышли на цыпочках.
На воздухе ни один из них не сказал другому ни слова, но завет Анчутина остался навсегда в их умах с такой твердостью, как будто он вырезан алмазом по сердолику».
Это правда жизни, потому что правду эту показал тот, кто прошёл и кадетский корпус, и юнкерское училище, кто писал не понаслышке, не выдумывал неведомо что, не стремился, подобно бессовестному племени «косил» от армии, опорочить ненавистное военное ремесло, ненавистных офицеров, а значит и будущих офицеров – кадет и юнкеров. А таковых хоть отбавляй – сравните образ начальника Александровского военного училища, блестяще созданный Куприным, с кукольным образом начальника неведомого юнкерского училища в «Сибирском цирюльнике». Здесь настоящий генерал, прошедший, как и все в его ранге, суровую школу войн по защите Отечества, в «цирюльнике» комедийный образ прохвоста, пьяницы и бабника – образ явно вымышленный, неправдоподобный, незаслуженно порочащий великое русское воинство.
Недаром Куприн показывает, что его герой Александров с грустью расстаётся с училищем – так и он расставался с грустью с юнкерской своей юностью. Выпуск. И всё. И начало офицерской жизни.
Ещё недавно – пора надежд, пора, когда каждый юнкер, а ныне курсант может представить себя суровым и волевым командиром, а в дальнейшем – командующим… Но вот время грёз позади – впереди взвод солдат, которых надо учить, которых надо воспитывать, от которых зависит – от их подготовленности – многое, очень многое в службе. Теперь всё ясно, всё реально, и всё не просто…
Дочь Куприна Елена Александровна отметила:
«Позднее он описал свои впечатления детства и юности в таких произведениях, как «На переломе», «Храбрые беглецы», «Юнкера», «Святая ложь». Поэтому, когда его попросили написать свою биографию, он ответил, что почти все его произведения автобиографичны…»
На пути к «Поединку»
В 1890 году подпоручик Александр Иванович Куприн получил назначение в 46-й Днепровский пехотный полк и отправился в Проскуров. Свою жизнь в гарнизоне и службу он впоследствии описал в своей повести «Поединок».
Уезжал, как и подавляющее большинство выпускников, холостым. К женитьбе же относился весьма своеобразно. Ему принадлежит такое изречение: «Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя». Впрочем, это написал гораздо позднее. А в те замечательные дни, когда ещё не притёрлись к плечам офицерские погоны, когда ещё гордость переполняла душу от осознания себя офицером, он, возможно, и не думал о том.
Но, во время службы своей он влюбился.
Марья Кирилловна Куприна-Иорданская, написавшая книгу об Александре Ивановиче, утверждала, что девушка, ставшая предметом страсти, характером своим напоминала Шурочку Николаеву из повести «Поединок».
В «Поединке» невозможность союза Ромашова и Шурочки имела вполне понятную причину – Шурочка была замужем. Но что же в реальной жизни? Марья Кирилловна вспоминала:
«Рассказывая по вечерам эпизоды из повести, Александр Иванович попутно сообщал мне с большими подробностями о своей жизни в полку, потому что действие в повести развивалось в той последовательности, в какой протекала его полковая жизнь.
Подробно рассказал он мне о связи с женщиной, значительно старше его. Госпожа Петерсон (под этой фамилией она фигурирует в «Поединке») была женой капитана. Сошёлся Куприн с ней только потому, что было принято молодым офицерам непременно «крутить» роман. Тот, кто старался этого избежать, нарушал общепринятые традиции, и над ним изощрялись в остроумии.
Третий год Куприн служил в Проскурове, когда на большом полковом балу в офицерском собрании познакомился с молодой девушкой. Как её звали сейчас, не помню – Зиночка или Верочка, во всяком случае, не Шурочка, по повести – жена офицера Николаева.
Верочке недавно минуло 17 лет, у неё были каштановые, слегка вьющиеся волосы и большие синие глаза. Это был её первый бал. В скромном белом платье, изящная и лёгкая, она выделялась среди обычных посетительниц балов, безвкусно и ярко одетых.
Верочка – сирота, жила у своей сестры, бывшей замужем за капитаном. Он был состоятельным человеком, и неизвестно по каким причинам оказался в этом захолустном полку.
Было ясно, что он и его семья – люди другого общества.
– В это время, – рассказывал Александр Иванович, – я мнил себя поэтом и писал стихи. Это было гораздо легче, чем мучиться над повестью, которую я никак не мог осилить. С увлечением я наполнял разными «элегиями», «стансами» и даже «ноктюрнами» мои тетради. В эту тайну я никого не посвящал. Но к Верочке я с первого взгляда почувствовал доверие и, не признаваясь в своём авторстве, прочёл несколько стихотворений. Она слушала меня с наивным восхищением, и это нас сразу сблизило. О том, чтобы бывать в доме её родных, нечего было и думать.
Однако подпоручик «случайно» всё чаще и чаще встречал Верочку в городском саду, где она гуляла с детьми своей сестры. Скоро о частых встречах молодых людей было доведено до сведения капитана. Он пригласил к себе подпоручика и предложил ему объяснить своё поведение. Всегда державший себя корректно с младшими офицерами, капитан, выслушав Куприна, заговорил с ним не в начальническом, а в серьёзном, дружеском тоне старшего товарища.
На какую карьеру мог рассчитывать не имевший ни влиятельных связей, ни состояния бедный подпоручик армейской пехоты, спрашивал он. В лучшем случае Куприна переведут в другой город, но разве там жить на офицерское жалованье – сорок восемь рублей в месяц – его семье будет легче, чем здесь?
– Как Верочкин опекун, – закончил разговор с Куприным капитан, – я дам своё согласие на брак с вами, если вы окончите Академию Генерального штаба и перед вами откроется военная карьера.
Куприн засел за учебники и с лихорадочным рвением начал готовиться к экзаменам в Академию.
– С мечтой стать поэтом я решил временно расстаться и даже выбросил почти все тетради с моими стихотворными упражнениями, оставив лишь немногие, особенно нравившиеся Верочке, – рассказывал Александр Иванович.
Летом 1893 года, Куприн уехал из Проскурова в Петербург держать экзамены в Академию».
И поступил бы, но приказом командующего Киевским военным округом был отозван в полк перед самым последним экзаменом. Обидно, ведь все, кроме последнего, он сдал успешно. Оказалось, что по пути в столицу он остановился в Киеве и зашёл пообедать в плавучий ресторан на Днепре. А там оказался свидетелем того, как пьяный пристав стал приставать к молоденькой девушке-официантке. Куприн схватил его и выбросил за борт. Пристав подал жалобу в штаб Киевского военного округа, ну и решение оказалось, как видим, весьма плачевным для Куприна, который, если бы поступил в академию, вполне мог стать военным высокого ранга. Но событие это оказалось благоприятным для Куприна, как будущего писателя. Словно невидимая рука направляла его на литературный путь.
Правда, с невестой пришлось расстаться – условие, которое ему было поставлено, он не выполнил.
В полку теперь ничего не задерживало, и Александр Иванович подал прошение об отставке. В 1894 году оно было удовлетворено. Куприн стал свободным как ветер. Но… Что делать? Куда деваться? Во все времена офицер, покидающий службу, оказывается перед решением подобного вопроса. Проблема возникает даже тогда, когда офицер имеет семью, обеспечен жильём. У Куприна же ничего не было – недаром он показался опекуну его возлюбленной весьма и весьма бесперспективным женихом.
Ксения Александровна Куприна рассказала в книге:
«И с тех пор началась его бродячая, пёстрая жизнь. В течение семи лет он был и грузчиком, и актёром, и суфлёром, и землемером, работал на литейном заводе, был журналистом и даже продавцом в лавке санитарных принадлежностей.
В Киеве он начал по-настоящему писать. Там были созданы произведения «Молох», «Киевские типы», «Олеся» и др».
Отзываясь о военной службе отца в традиционном непрезентабельном духе, дочь писателя всё же отмечала, что армейское «воспитание не могло подсознательно не влиять на его мировоззрение. В нём иногда прорывалось некое армейское рыцарство».
И на том, как говорится, спасибо...
Кстати, прошение об отставке было вызвано вовсе не тяготами военной службы – Куприн был вынослив и стоек, трудности его закаляли, и он не склонялся перед ними. Желание прервать службу объяснялось тягой к литературному творчеству. Ведь ещё в кадетском корпусе Александр Иванович начал свои литературные опыты. Конечно, они были самыми первыми и не слишком заслуживающими внимания. Он писал стихи, что неудивительно, если принять во внимание его влюбчивый характер.
Сам же он впоследствии утверждал, что началу начал его литературного творчества способствовало великолепное преподавание литературы в кадетском корпусе. Преподавателя Цуханова он впоследствии сделал в «Кадетах» литератором Трухановым. Показал, как тот «замечательно художественно» читал кадетам стихи Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Фёдора Ивановича Тютчева, повести и романы Николая Васильевича Гоголя, Ивана Сергеевича Тургенева.
Александр Иванович вспоминал впоследствии: «Кадетом я писал стихи. Надо признаться теперь, что были они подражаниями Г. Гейне в переводе Михайлова и были очень плохи. О последнем я не сам догадался, а мне сказал молодой, довольно известный поэт Соймонов, когда меня к нему привёл почти насильно мой шурин вместе с моими стихами. Нет! Мне не пришло в голову, что поэт зол или завистлив. Я просто перестал писать стихи, и – навсегда».
Во всяком случае, до службы в дальнем гарнизоне, где снова начал писать стихи, но скрывая их ото всех, кроме своей возлюбленной, да и то не признавался, что он автор.
Творчество начиналось, как это часто бывает, с некоторого подражания уже известным поэтам, в частности, так называемым «восьмидесятникам». Немногие из опытов 1883-1887 годов сохранились.
Публиковаться начал уже юнкером Третьего Александровского училища.
И первая публикация была в журнале «Русский сатирический листок» в 1889 году, где напечатали рассказ «Последний дебют».
Юнкерам публиковаться запрещалось, и Куприн был строго наказан. Но свершилось главное – он испытал неповторимое чувство авторства, когда держал в руках номер журнала со своей фамилией под рассказом. Об этом впечатлении он впоследствии, в 1897 году, поведал в рассказе «Первенец». Об этом же вспомнил и позднее, в 1929 году, уже в эмиграции, где был написан рассказ «Типографская краска».
Вот как рассказал Куприн о первом своём опыте публикаций произведений:
«С нетерпением ожидал я появления моей новеллы, которую принял для просмотра «Русский сатирический листок» Н. Соедова. Ждать пришлось довольно долго. Наконец наступил вечер одного воскресенья, в которое я был наказан без отпуска за единицу по фортификации. Юнкера приходили один за другим и являлись к дежурному. Пришёл, наконец, и мой товарищ Венсан, которого я попросил заглянуть в два-три журнальных киоска. В руках у него был толстый сверток.
– Поздравляю! Есть!
Я развернул два номера «Листка», и каждый с моей напечатанной новеллой.
О, волшебный, скипидарный резкий запах свежей печати! Что сравнится с ним в самых лучших, в самых драгоценных воспоминаниях писателя? Он пьянее вина и гашиша, он ароматнее всех цветов и духов, он сладостнее первого поцелуя… В душу мою вторгнулся такой ураган радости, что я чуть было не задохнулся. Чтобы утишить бурное биение сердца, я должен был перепрыгнуть поочередно через каждую койку в моем ряду туда и обратно. Я пробовал читать мою новеллу товарищам вслух, но у меня дрожал и пресекался голос, черные линии букв сливались в мутные пятна. Я поручал читать ближайшему юнкеру, но мне его чтение казалось совсем невыразительным, и я отнимал от него журнал.
О, незабвенный вечер! На другой день я познал и шипы славы. Не знаю, каким образом узнал о моем триумфе ротный командир Дрозд (юнкера не были болтливы). После утренней переклички он скомандовал:
– Юнкер Куприн!
– Я, господин капитан.
– До меня дошло, что ты написал какую-то там хреновину и напечатал ее?
– Так точно, господин капитан.
– Подай ее сюда!
Я быстро принёс журнал. Я думал, что Дрозд похвалит меня.
Он поднёс печать близко к носу, точно понюхал её, и сказал:
– Ступай в карцер! За незнание внутренней службы. Марш…
Ах, я совсем позабыл тот параграф устава, который приказывает каждому воинскому чину всё написанное для печати представлять своему ротному, тот передает батальонному, батальонный – начальнику училища, а одобрение, позволение или порицание спускается в обратном порядке к автору…»
Первый рассказ – есть первый рассказ. Немного мы можем вспомнить писателей, которые сразу достигали высот творчества, едва брались за перо. Феномены Пушкина, Лермонтова… практически неповторимы.
Но без первого рассказа, без боевого крещения в литературе невозможны новые победы.
Первая супруга Александра Ивановича Мария Карловна Куприна-Иорданская в своей книге привела рассказ Куприна о том памятном эпизоде. Он вспомнил его во время поездки в Москву, когда потянуло взглянуть на здание родного юнкерского училища.
«В Москву мы приехали рано утром в среду на страстной неделе и остановились в «Лоскутной гостинице».
– К маме мы поедем в четыре часа, – сказал Александр Иванович. – Утром она будет до двенадцати в церкви, потом ранний обед, после которого она отдыхает, а в четыре часа пьёт чай. В это время она бывает в самом лучшем расположении духа…
День был тёплый и солнечный – чувствовалось приближение весны, и мы отправились бродить по Москве, которую я знала только по редким наездам. Александру Ивановичу доставляло громадное удовольствие водить меня по своим любимым улицам и кривым переулкам, в глубине которых стояли старые, покосившиеся дворянские особняки с мезонинами и облупленными, похожими на пуделей, львами у ворот.
– А вот здесь, в третьем этаже, – указал мне Александр Иванович на один дом, – жил Лиодор Иванович Пальмин. Ты не можешь себе представить, с каким трепетом я поднимался в его квартиру по грязной крутой лестнице. Бедный терпеливый старик, как я надоедал ему, еженедельно притаскивая мои стихи и прозу, которые он добросовестно читал и пытался куда-нибудь протиснуть. Сейчас пройдём на Знаменку, там ты увидишь Александровское военное училище, где впервые я предавался «творческому вдохновению» и наконец достиг и литературной славы – в «Русском сатирическом листке» был напечатан мой рассказ, за который, как тебе известно, меня посадили на двое суток в карцер и под угрозой исключения из училища запретили впредь заниматься недостойным будущего офицера «бумагомаранием».
Между тем, после выхода в отставку, литературное творчество стало основным в жизни Куприна. Он работал много и увлечённо. Постепенно набралось публикаций на сборники – в 1896 году вышел сборник очерков «Киевские типы», а в 1897 году сборник рассказов «Миниатюры».
Настоящая любовь пришла позже. Вот как рассказывает о своём знакомстве с Александром Ивановичем Мария Карловна Куприна-Иорданская:
«В одно из ноябрьских воскресений 1901 года я усиленно готовилась к семинару профессора С.Ф. Платонова. Дверь в комнату была закрыта, и звонка из передней не было слышно.
– Пришли гости, мамаша приказали вам принять, сами они к гостям не выйдут, – скороговоркой проговорила, входя ко мне, молоденькая горничная Феня.
Появление гостей меня удивило.
Моя приёмная мать, Александра Аркадьевна Давыдова – издательница журнала «Мир Божий» – последние месяцы часто хворала. После смерти Лидии Карловны Туган-Барановской, старшей дочери, которую она страстно любила, у неё обострилась болезнь сердца. Она перестала заниматься делами журнала, никуда из дому не выезжала, отменила вечера и воскресные приемы. Кроме близких друзей, у неё никто не бывал.
Я вышла в гостиную. Среди комнаты стоял Иван Алексеевич Бунин и рядом с ним незнакомый мне молодой человек.
Приходу Бунина я обрадовалась. Мы давно не видались – последние два года он редко приезжал в Петербург, да и то ненадолго. Всегда, когда мы встречались после значительного перерыва, Иван Алексеевич, чтобы рассеять натянутость первой встречи, с пугливой почтительностью приветствовал меня и начинал разговор с какой-нибудь забавной выдумки. Так было и на этот раз.
– Здравствуйте, глубокоуважаемая, – обратился он ко мне. – На днях прибыл и спешу засвидетельствовать Александре Аркадьевне и вам своё нижайшее почтение. – Он преувеличенно низко поклонился, затем, отступив на шаг, ещё раз поклонился и продолжал торжественно серьёзным тоном: – Разрешите представить вам жениха – моего друга Александра Ивановича Куприна. Обратите благосклонное внимание – талантливый беллетрист, недурён собой. Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прошу любить и жаловать.
Довольный своей выдумкой, Бунин лукаво посмеивался. Куприн сконфуженно переминался с ноги на ногу и, смущённо улыбаясь, мял в руках плоскую барашковую шапку.
В синем костюме в серую полоску, мешковато сидевшем на его широкой в плечах, коренастой фигуре, низком крахмальном воротничке (таких в Петербурге уже давно не носили) и большом жёлтом галстуке-«пластроне» с крупными ярко-голубыми незабудками, Куприн рядом с корректным, державшимся свободно и уверенно Буниным казался неуклюжим и простоватым провинциалом.
– Так вот, почтеннейшая, – продолжал Бунин, когда мы сели, – сядем, посидим, друг на дружку поглядим. У вас товар, у нас купец, женишок наш молодец…
И как деревенский сват, выхваляя жениха, Бунин в то же время рассказывал о Куприне различные смешные анекдоты.
Этот фарс, неожиданно придуманный Иваном Алексеевичем, был очень забавен. И на его вопрос: «Так как же, глубокочтимая, нравится вам женишок? Хорош?..»
Я поддержала шутку:
– Нам ничего… да мы что… как маменька прикажут… их воля…
Мы от души смеялись, придумывая всё новые и новые забавные диалоги.
Куприн молчал, и стало заметно, что он чувствует себя неловко и бунинская затея его не веселит. Шутку следовало прекратить…»
Далее Мария Карловна рассказала о реакции Куприна на эту шутку. Когда они уже стали мужем и женой, Александр Иванович признался:
– Когда мы вышли из подъезда мимо вашего великолепного швейцара, который с глубоким презрением смотрел на моё старое пальто, я был очень зол на Бунина. Зачем я согласился пойти с визитом к Давыдовым? Совсем не нужно было этого делать, говорил я себе, идя по улице. Сама издательница не нашла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная барышня… Очень она мне нужна… Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто позволит им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А ещё приглашала бывать… Покорнейше благодарю, ноги моей там не будет. Но в редакцию к Богдановичу я, конечно, на днях зайду.
Должен признаться тебе, Маша, больше всего я сердился на самого себя, на свою застенчивость и ненаходчивость. И вот что, в конце концов, вышло из шутки Бунина, которую теперь я нахожу очень удачной и за которую теперь искренне ему благодарен…».
Знакомство продолжилось. Куприн стал бывать в гостях, а потом и включился в работу журнала.
Мария Карловна рассказала в книге:
«Куприн всё чаще и чаще начал бывать у нас. Моя мать особенного значения его посещениям не придавала. Александра Аркадьевна не всегда выходила вечером в столовую, но у нас жила моя тетушка, Вера Дмитриевна Бочечкарева, вдова артиста московского Малого театра М.А. Решимова, которая обычно разливала чай; поэтому отсутствие Александры Аркадьевны общепринятых тогда правил не нарушало. Незаметно все привыкли к Куприну, и он стал у нас своим человеком. Моей матери он нравился… Она охотно слушала его рассказы о военной службе, различных эпизодах его жизни, знакомых писателя… Когда я сказала матери, что стала невестой Куприна, она была изумлена и даже шокирована этой неожиданной новостью.
– Что ж это такое? Знакома с ним без году неделю – и вдруг невеста, – сказала она. – Ни узнать, как следует человека не успела, ни спросить у матери… совета… Что же, раз советы мои тебе не нужны, делай как знаешь.
Она махнула рукой и заплакала.
Предложение было сделано в сочельник 24 декабря, а в канун Нового года, вечером, Александр Иванович принёс мне обручальное кольцо, на внутренней стороне которого было выгравировано: «Всегда твой – Александр. 31. XII. 1901 года».
По поводу тех событий Александр Иванович говорил Марии Карловне:
«Какое глупое положение быть женихом. Все ваши знакомые приходят и с головы до ног оглядывают меня испытующим критическим взглядом. Женщины дают советы, мужчины острят. И всё время чувствуешь себя так неловко, как это бывает во сне, когда видишь, что пришёл в гости, а у тебя костюм не в порядке. Ваши подруги смеются, кокетничают и при мне спрашивают: «Ну, как ты себя чувствуешь, нравится тебе быть невестой?» Я кажусь себе дураком, над которым все, кому не лень, потешаются. Правда, я должен вам признаться, что иногда очень люблю, когда меня считают дураком, и нарочно веду себя так, чтобы поддержать это мнение, а сам думаю: «Нет, Саша совсем не дурак». Вот как-нибудь я вам это докажу. А сейчас мне не хочется… Знаете что, не будем мы долго тянуть эту дурацкую петрушку. Вас, может быть, это и забавляет, но, уверяю вас, жениховство – очень нелепая канитель».
А.И. Богдановичу, который был «фактическим редактором журнала «Мир божий», пытался отговорить Марию Карловну от замужества. Она вспоминала:
«Я пригласила Богдановича в мою комнату. Он сел глубоко в кресло и долго молча протирал очки, прежде чем приступить к разговору.
– Мне сообщила Александра Аркадьевна, что вы выходите замуж за Куприна, – начал он. – …Подумайте о том, что вы делаете, на что решаетесь. Вы совсем не знаете Куприна, для вас могут открыться крайне неожиданные стороны его характера и прошлого. Не скрою от вас, слухи о нём ходят разные и не все для него благоприятные… Куприн долго жил в Киеве, и мы можем там навести о нём справки…
– Я не намерена собирать сплетни, – перебила я Ангела Ивановича.
– Во всяком случае, мой вам совет, – продолжал он, – со свадьбой лучше не торопитесь. Но главное не в этом. Я готов согласиться с вами, что всегда передаётся много сплетен, много неверных сведений. Главное, я считаю, вот в чём. Что представляет собой Куприн? Бывший армейский офицер с ограниченным образованием, беллетрист не без дарования, но до сих пор не написавший ничего выдающегося, автор мелких, по преимуществу газетных рассказов. В доме вашей матери вы привыкли видеть выдающихся людей и крупных писателей. Бывая в их семьях, вы не могли не заметить, как ревниво относятся жены к литературным успехам своих мужей. И это жены крупных писателей. А жены небольших, средних литераторов? Ведь их жизнь отравлена непрерывно гложущими их завистью и неудовлетворённым честолюбием. Такие примеры вы, конечно, знаете. Боюсь, что будет сильно страдать и ваше самолюбие. Куприн – талантливый писатель, но только талантливый, не больше. Выше среднего уровня он не поднимется. Другое дело, например, Леонид Андреев. Можно сказать безошибочно, что ему предстоит большое будущее. Даже Михайловский сразу обратил на него внимание.
– Думаю, Ангел Иванович, что вы ошибаетесь, – возразила я. – И то, что Куприну в течение нескольких лет приходилось размениваться на мелкую монету в газетной работе, совсем не доказывает отсутствие у него крупного таланта. Вспомните о Чехове. Вы сожалеете о том, что Куприн не Леонид Андреев. А что об Андрееве вы знали год назад? Да ровно ничего, как не знал и никто, пока в прошлом месяце не появилась статья Михайловского. Поэтому судить о том, кому какое будущее предстоит, мне кажется, ещё преждевременно…»
Не очень радовалась предстоящей свадьбе и мать Марии Карловны. Она опасалась, что Куприн увезёт её дочь в Москву, поскольку знала, что он не любил Петербург.
А вот мать Александра Ивановича была обрадована его женитьбой и тем, что закончится его «бродячая и скитальческая жизнь». В конверт Любовь Алексеевна вложила и письмо для Марии Карловны, в котором писала: «Перед свадьбой я пришлю Саше и Вам моё родительское благословение – икону святого Александра Невского, по имени которого назван Саша. Когда я вышла замуж, у меня родились две девочки. Но моему мужу и мне хотелось иметь сына. И вот тут нас стало преследовать несчастье. Один за другим рождались мальчики и вскоре умирали. Только один дожил до двух лет и тоже умер. Когда я почувствовала, что вновь стану матерью, мне советовали обратиться к одному старцу, славившемуся своим благочестием и мудростью.
Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила – в августе. «Тогда ты назовёшь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней – точно по мерке новорожденного – образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь над изголовьем ребёнка. И святой Александр Невский сохранит его тебе».
Этот образ будет моим родительским вам благословением. И когда Господь даст, что и вы будете ждать, младенца, и ребёнок родится мужского пола, то вы должны поступить так же, как поступила я».
Постепенно всё улаживалось. Дело шло к свадьбе, и ни единой тучки не показывалось на горизонте отношений Александра Ивановича и Марии Карловны. Даже мать невесты изменила своё отношение к Куприну.
Венчание было назначено 3 февраля, затем обед, который затянулся до позднего вечера. Но Александру Ивановичу и Марии Карловне удалось вырваться домой, на съёмную квартиру около десяти вечера. Собственно, то была не квартира, а небольшая комната, снятая неподалёку от дома матери невесты.
В книге Марии Карловны о нём рассказано так:
«Наш хозяин – одинокий старик лет шестидесяти – днём был занят в какой-то мастерской, а в свободное время работал на себя. Он был краснодеревец, любил своё дело и дома ремонтировал различную старинную мелкую мебель красного дерева, а на заказ делал шкатулки, рамки, киоты. Проходить в нашу комнату надо было через его помещение.
Старик приветливо встретил нас и тотчас же предложил поставить самоварчик.
– Небось притомились. Свадьба – дело нелёгкое… Покушайте чайку, – добродушно сказал он.
– А, правда, Машенька, стыдно признаться, – я зверски голоден. А ты как?... Сейчас сбегаю в магазин на углу и принесу чего-нибудь поесть.
Вернулся Александр Иванович с хлебом, сыром, колбасой и бутылкой крымского вина. Но чая у нас, конечно, не было, и пришлось на заварку занять у хозяина. Александр Иванович взял гитару и запел:
Нет ни сахару, ни ча-аю,
Нет ни пива, ни вина,
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена…»
Прапора, в смысле, прапорщика. В то время это был первый офицерский чин.
И потекла семейная жизнь. Мария Карловна так описывала её:
«Утром после чая Куприн садился читать и править рукописи для «Журнала для всех», а я уходила к матери и проводила в моей семье весь день. К шести часам из редакции приходил Александр Иванович, мы обедали, а после обеда возвращались к себе домой, и вечер был уже наш.
Только теперь мы могли говорить без помехи, ближе подойти друг к другу. И здесь, в нашей маленькой комнате в квартире столяра, Александр Иванович впервые начал делиться со мной своими творческими замыслами и говорить о себе, своих прошлых скитаниях и о том, что близко его затрагивало и волновало».
Однажды вечером Куприн показался Марии Карловне очень взволнованным и озабоченным. Она так описала разговор с ним, который имел большие последствия:
«– Слушай меня внимательно, Машенька… Думай только о том, что я говорю, и, пожалуйста, смотри только на меня, а не по сторонам… Я скажу тебе то, чего никому ещё не говорил, даже Бунину. Я задумал большую вещь – роман. Главное действующее лицо – это я сам. Но писать я буду не от первого лица, такая форма стесняет и часто бывает скучна. Я должен освободиться от тяжёлого груза впечатлений, накопленного годами военной службы. Я назову этот роман «Поединок», потому что это будет поединок мой…»
Так впервые Куприн заговорил о будущем знаменитом своём романе. Собственно, роман уже был начат, и Александр Иванович в тот вечер прочитал несколько страниц, пояснив:
– Вот пока глава, которую я наметил для моего будущего романа. Понравилась она тебе, Машенька? Но роман, Маша, это ещё дело будущего. Прежде чем серьёзно приступить к этой работе, я должен ещё многое обдумать. А пока у меня несколько хороших тем для рассказов, которые надо написать, чтобы к будущей зиме подготовить материал для сборника.
Жизнь протекала в работе, постоянной работе. Случались, конечно, размолвки и ссоры.
Мария Карловна поведала в книге об одной такой нелепой ссоре:
«На день моего рождения, 25 марта – праздник благовещенье – Александр Иванович решил сделать мне подарок. Перед тем он совещался с моим братом, Николаем Карловичем, который сказал, что хочет подарить мне небольшие дамские золотые часы, «Нет, часы подарю я, – сказал Александр Иванович, – а ты купи красивую цепочку». На этом они и порешили.
Утром в спальню поздравить меня вошёл Александр Иванович.
– Посмотри, Машенька, мой подарок, как он тебе понравится, – сказал он, вынимая из хорошенькой голубой фарфоровой шкатулки часы. – Я не хотел дарить тебе обыкновенные золотые часы и нашёл в антикварном магазине вот эти старинные.
Часы были золотые, покрытые тёмно-коричневой эмалью с мелким золотым узорным венком на крышке.
– Обрати внимание на тонкую работу узора на крышке, с каким замечательным вкусом сделан рисунок, – говорил Александр Иванович.
Я молча разглядывала подарок, он, стоя рядом со мной, нетерпеливо переступал с ноги на ногу.
– Что же ты ничего не говоришь? – наконец, спросил он.
– Часы очень красивы, но они совсем старушечьи. Должно быть, их носила чья-то шестидесятилетняя бабушка, – засмеялась я.
Александр Иванович изменился в лице. Ни слова не говоря, он взял у меня из рук часы и изо всей силы швырнул их об стену. И когда отлетела крышка и по всему полу рассыпались мелкие осколки стекла, он наступил каблуком на часы и до тех пор топтал их, пока они не превратились в лепёшку. Всё это он делал молча и так же молча вышел из комнаты».
А через несколько минут брат вручил ей цепочку для уже разбитых вдребезги часов.
Так началась семейная жизнь, в которой, на первых порах, было всё же неизмеримо больше хорошего, доброго.
Узнав о том, что жена ждёт ребёнка, Куприн сделался особенно внимательным и предупредительным с ней. Старался как можно чаще бывать дома, выводить Марию Карловну на прогулки. Она вспоминала:
«Куприн был полон предстоящим рождением ребёнка.
– Конечно, это будет мальчик, сын, мой сын. Какое таинственное явление – рождение ребёнка. Мы назовем его Алешей. Алексей – «Божий человек».
… В другой раз Александр Иванович говорил:
– Вот, Маша, если бы мы жили не в Петербурге, а в деревне Казимирке, где я подвизался в качестве псаломщика, и ты бы мучилась родами, я бы отправился в церковь открыть царские врата. Это делается при трудных родах. Представь себе обстановку Маша; ночь, тёмная маленькая церковь, горит только несколько тоненьких восковых свечей, и старенький попик (я вижу его таким, как тот, у которого я в первый раз исповедовался в детстве) тихим, проникновенным голосом читает молитвы. И какие замечательные молитвы! На коленях стоит и истово молится отец, верящий, что чрево родильницы в это время раскроется так же легко, как царские двери. Правда, хорошо, Маша?!
– Ты, Сашенька, очень хорошо и трогательно рассказываешь, но меня такая возможность мало радует… Твоя мечта исполнится в том случае, если у меня роды будут очень тяжёлые…»
И вот, наконец, 3 января 1903 года у Куприных родилась девочка. Назвали её Лидией.
Мария Карловна так описала это событие:
«Несмотря на то, что Александр Иванович ожидал рождения сына, а на свет появилась дочь, он был счастлив и доволен.
– Девочки добрее и ласковее мальчиков, – говорил он. – Я не раз наблюдал, с какой материнской заботливостью старшие сёстры относятся к малышам в больших семьях. «Это необыкновенный ребёнок. Он уже всё понимает. А какой он красивый!» – говорят все любящие родители и вытаскивают своего ребёнка напоказ гостям, которые в высокой степени равнодушно созерцают бессмысленно таращившего глаза младенца, но с фальшивой улыбкой восклицают: «Да, да, замечательный ребёнок». Мы, Маша, так делать не будем. Мы никому нашу Лидочку не будем показывать, хотя, – засмеялся Куприн, – наша Лидочка необыкновенный ребёнок, не то, что все дети. Но говорить об этом мы будем только друг с другом. Ты знаешь, конечно, я совсем не суеверен. Но… я боюсь недоброжелательного, дурного взгляда. «Ребёнка недолго и сглазить», – предупреждала мамаша».
Не забывал Александр Иванович и о работе, в том числе и над романом, для которого всё ещё не было фамилии главного героя. Найти её помог случай, причём не последнюю роль сыграла жена. Мария Карловна вспоминала:
«Александр Иванович всегда обедал дома и старался не опаздывать. А если иногда и запаздывал, то ненамного, и в этих случаях приводил с собой кого-нибудь. Однажды Соня Ростовцева позвонила мне по телефону. Она сообщила, что у её родителей собралась целая компания приехавших на несколько дней в Петербург, нижегородцев.
– Если вам будет приятно с ними повидаться – вспомнить лето, когда вы гостили у нас на даче около Нижнего, то приезжайте скорее».
И Мария Карловна отправилась в гости. И как-то вышло само собой, что задержалась там довольно долго, о чём впоследствии написала в книге:
«Время летело незаметно, и когда я спохватилась, что пора домой, то оказалось, что уже седьмой час. Я забеспокоилась: вдруг Александр Иванович пригласил кого-нибудь к обеду, а меня ещё нет. Выйдет неловко, и я поспешила домой.
У нас в столовой никого не было, но стол был накрыт. Я заглянула в комнату Александра Ивановича – там было пусто. Но когда я открыла дверь в нашу спальню, то увидела Александра Ивановича, который сидел боком у моего письменного стола и даже не повернул голову в мою сторону. Со стола был сброшен на пол его большой портрет, рамка была разбита, портрет залит чернилами, а хорошая фотография, сделанная в Коломне зятем Александра Ивановича С. Г. Натом, была разорвана в клочки. Металлическую пепельницу, которая стояла у меня на столе, Александр Иванович мял в руках, вдавливая её высокие края внутрь. Пепельница была массивная, и было заметно, что, несмотря на большую физическую силу, эта работа давалась ему нелегко.
От изумления я остолбенела. Он не произносил ни слова.
– Саша, что за погром? Что случилось?
– Где ты была? – отрывисто спросил он.
– Я была у Сони и засиделась у неё…
– Ага… Засиделась… Там был, конечно, Сонин родственник, гвардейский офицер… Соня мне рассказывала – раньше он за тобой ухаживал.
– Что за вздор, никакого там офицера не было, а были приезжие нижегородцы. Ты же знаешь, что четыре года назад я гостила у Кульчицких в Нижнем…
– Ах, вот как, нижегородцы… А кто там был?
– Могу тебе перечислить, но ведь ты никого из них не знаешь. Были старики-нотариусы, а из молодежи Рукавишниковы и бывший Сонин поклонник Ромашов – он теперь уже женат.
Александр Иванович внезапно поднял голову, уставился на меня и, ещё продолжая держать в руках изуродованную пепельницу, переспросил:
– Кто, кто?
– Но я же сказала тебе – кто.
– Нет, повтори ещё раз последнюю фамилию.
– Мировой судья Ромашов. Ромашов, мировой судья. Понял, наконец? – повторила я сердито.
Александр Иванович вскочил, отшвырнул пепельницу.
– Ромашов, Ромашов, – вполголоса произнёс он несколько раз и, подойдя ко мне, взял за руки. – Маша, ангел мой, не сердись на меня. Я всегда волнуюсь и злюсь, как дурак, ревнивый дурак, когда тебя долго нет дома. Я же знаю, что я смешной. Конечно, Ромашов. Только Ромашов… Да, именно Ромашов. Какая ты умница, Машенька, что поехала к Соне. Могло же так случиться, что никогда не узнал бы о существовании Ромашова. А теперь «Поединок» ожил, он будет жить… Будет жить!!»
«Любовь похожа на цветы…»
Мария Карловна очень осторожно и деликатно касается семейных драм и сцен, стараясь не бросить тень на Александра Ивановича. Лишь вскользь упоминала о пристрастиях к выпивкам, к загулам по ресторанам и поездкам к цыганам, что было модно в ту пору. И это наиболее верный подход – ведь иным шелкопёрам только волю дай…
По-другому у Марии Карловны.
«Двадцать второго февраля 1907 года в театре Комиссаржевской, на Офицерской улице, шла премьера «Жизни Человека» Л.Н. Андреева. Ф.Д. Батюшков и я поехали в театр. Александр Иванович остался дома: произведения Леонида Андреева ему не нравились.
…Когда я вернулась из театра, то сидевший у Куприна И.А. Бунин спросил меня с иронией:
– Ну как пьеса? Понравилась вам? Правда, что смерть сидит в уголке и кушает бутерброд с сыром?
Я ответила совершенно серьёзно, что вещь мне очень понравилась и у публики она имела большой успех.
Мой ответ взбесил Куприна. Он схватил со стола спички, чиркнул, дрожащей рукой прикурил и бросил горящую спичку мне на подол. Я была в чёрном газовом платье. Платье загорелось».
Эта ссора привела к серьёзной размолвке, Мария Карловна даже говорит, о том, что с той поры жизненные пути её и Александра Ивановича стали расходиться. Но наивно полагать, что всему виною только это ссора. Ссора могла стать разве что поводом. Причины крылись в другом, и были достаточно глубоки.
Вот что писала по этому поводу дочь писателя:
«Семейная жизнь Куприных была сложной. Мария Карловна – умная, светская, блестящая женщина – задалась целью обуздать буйный нрав Куприна и сделать из него знаменитого писателя. Александр Иванович вначале был очень влюблён в свою жену и нежно любил дочку Лидушу. Но он терпеть не мог светского общества и обязательств, принуждавших людей исполнять ритуалы, предписываемые средой и обычаями. Великосветским знакомым жены Александр Иванович предпочитал своих бесшабашных друзей, с которыми встречался в маленьких кабачках…»
И ещё одно немаловажное обстоятельство отталкивало Куприна. Об этом тоже в книге дочери писателя:
«Немало было тогда разговоров, что Куприн обязан признанием его таланта своей жене-издательнице и её высоким связям. Бешеное самолюбие Александра Ивановича не могло с этим мириться…
Куприну была чужда светская неискренность, кокетство, соблюдение правил салонного этикета. Я помню, как он выгнал какого-то несчастного молодого человека из нашего дома только за то, что, как ему показалось, он смотрел на меня «грязными глазами». Он всегда ревниво следил за мною, когда я танцевала.
Легко представить себе его бешеную реакцию, когда Мария Карловна намеками давала ему понять, кто и как за ней ухаживает. В то же время Куприн не мог постоянно находиться под одной крышей с нею. Если судить по воспоминаниям самой Марии Карловны, то создаётся впечатление, что отец совсем не мог работать дома. Странно подумать, что, живя в одном городе со своей женой и ребёнком, он снимал комнату в гостинице или уезжал в Лавру, в Даниловское либо в Гатчину, чтобы писать...»
А что же сам писатель говорил и писал о своей семейной жизни? Вот строки из его письма к Батюшкову:
«Теперь о любви. Я раньше всего скажу, что никаким афоризмом этого предмета не исчерпать…
Лучше всего определение математическое: любовь – это вечное стремление двух равных величин с разными знаками слиться и уничтожиться (прибавлю от себя – в сладком безумии). Когда Вы говорите + 1 и рядом думаете о –1, то не чувствуете ли Вы между ними какого-то неудержимого безумного тяготения? Но глубочайшая тайна любви именно и заключается в том, что в результате получается не 0, а 3.
Любовь – это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего Я.
Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность. Но в любви. Ибо вся вышеперечисленная бутафория только и служит что оперением любви…
Что же такое любовь? Как женщины и как Христос, я отвечу вопросом: «А что есть истина? Что есть время? Пространство? Тяготение?..»
Но для того, чтобы за одной из деталей скрыться от целого, и у меня есть афоризмы:
Любовь похожа на цветы: только что сорванные – они благоухают, но назавтра их надо выбросить.
Или: Больше, чем всё другое в мире, любовь заключает в себе полюсы уродства и красоты.
Или: В любви бесстыдство и стыдливость почти синонимы. И т. д.
(…)
Ваш душевно А. Куприн».
Это письмо написано незадолго до развода с Марией Карловной в 1806 году…
Мать Александра Ивановича не приняла развод. В мае 1909 года она писала Марии Карловне:
«Муся моя родная, дорогая!
Знаете ли Вы, что я над Вашими письмами горько плачу, и никогда я не перестану считать Вас не родным и дорогим мне человеком, особенно теперь. Вы после Ваших этих писем стали мне ещё милее и дороже. Мне почему-то кажется, что Вы одинока и воспоминания о прошедшем Вам делают жизнь нерадостной. Я за Вас тогда только успокоюсь, когда Вы найдёте человека, достойного Вас, и полюбите, и дай Бог, чтобы это скорее случилось. Если бы Вы знали, как дорога мне Люленька и что я должна скоро ломать свою душу при виде второй дочки моего Саши. Когда я была в прошлом году в Гатчине, я ненавидела этого ребёнка; в той комнате, где была помещена Ксения, висел портрет моего сокровища Люленьки, и когда мне приходилось подходить и покачать коляску, то я с со слезами просила прощения у Люленьки, клялась ей, что эта никогда не заменит тебя, мой ангел. Лиза попросила меня взять девочку на руки и хотела снять меня с ней, так я совсем забылась и вскочила положить ребёнка на подушку, говоря, что только с одной Люленькой из всех моих внучат я снялась в моей жизни и больше ни с кем не снимусь. Это видели и Саша и Лиза, но Саша меня понял и извинил, верно, в душе, да и девочке было только три недели. А вот теперь что мне делать. Я числа 12 еду в Житомир… Вот где и начинается моя душевная ломка…
Как Вы утешили меня, написав, что Люленька так хочет меня видеть, а я бог знает что дала бы, чтобы мне пожить с ней хоть две-три недели, на день-два дня невозможно наше свидание с ней, я стану без умолку реветь, и ей будет тяжело и нехорошо. Вот если на будущую весну я буду жива и здорова, то я приеду к Вам в Петербург. Если Вы этого захотите. Одним словом, до Вашего отъезда на дачу или за границу.
Когда я была в Гатчине, то там я видела В. П. Кранихфельда и попросила его журнал присылать мне прямо в Москву во Вдовий дом, так он и сделал, и я стала получать второе полугодие журнал сама. Спасибо Вам, дорогая, за это внимание ко мне. Моя жизнь так пуста, так одинока, что книга для меня все…
Обнимаю Вас и Люленьку. Горячо любящая Вас Л. Куприна.
Пишите мне, Муся моя дорогая, на имя Зины для передачи мне».
Лето 1909 года Любовь Алексеевна Куприна провела в Житомире, где Куприн писал первую часть повести «Яма». Ждала с нетерпением следующего лета, но весной 1910 года тяжело заболела. В таком состоянии ехать в Петербург не могла.
Она написала внучке 15 апреля из Москвы, куда привёз её сын:
«Христос воскрес.
Дорогая моя голубочка Люленька, посылаю тебе на этой карточке дом, где я живу. Поздравь маму, поблагодари за книжки и скажи ей, что я в лазарете. Напиши мне, моя родная, о себе побольше. Я очень, очень тебя люблю и молюсь за тебя. У меня было воспаление бока. Не забывай меня, твою родную любящую бабушку. Л. Куприна».
А уже 14 июня 1910 года она ушла из жизни.
Александр Иванович сообщил об это бывшей жене:
«Похоронили маму. А ты не могла приехать – занялась собачьей свадьбой со своим социал-демократом».
Мария Карловна действительно вышла замуж. 9-го июня 1910 года она обвенчалась с Н. И. Иорданским.
Но что же стало главной причиной их разрыва с Александром Ивановичем?
Конечно, то, что разладились отношения, вроде как и не причина. Во многих семьях проходит любовь, но остаются привычки, которые связывают крепко, связывают, конечно, и дети. Но… Раздал в отношениях приводит к тому, что сердца супруга или супруги, а то и обоих супругов как бы освобождаются для новых увлечений.
Вскоре после окончания русско-японской войны в доме Куприных появилась молодая женщина Елизавета Ротони. Её взяли в качестве няни для маленькой дочери, ну и для помощи Марии Карловне по хозяйству. Оклад установили 25 рублей в месяц. Ну что ж, няня и домработница… Прислуга одним словом. Но прислуга не из простых. Елизавета была дочерью обрусевшего венгра, которого судьба забросила в Оренбург. Там Мориц Гейнрих Ротони и осел, женившись на сибирячке. Старшая их дочь Мария Морицовна стала супругой писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.
Детей в семье было много. Мария была старшей, а Елизавета моложе неё на целых семнадцать лет. Но, несмотря на эту разницу, сёстры были необыкновенно дружны. Когда родители ушли из жизни, Мария забрала Елизавет к себе, но и её век оказался недолгим – умерла после родов, оставив Дмитрия Наркисовича с маленькой дочкой и сестрой ушедшей в мир иной жены. Писатель сошёлся с гувернанткой, из-за которой жизнь Елизаветы в доме стала невыносимой. Она нашла спасение в Евгеньевской общине сестёр милосердия, и добровольно отправилась на русско-японскую войну. В действующей армии она влюбилась в молодого врача, с которым работала в медучреждении. Собиралась замуж, даже обручилась и стала невестой врача. Но он – грузин по национальности – оказался человеком жестоким, издевался над солдатами, а одного избил на глазах невесты. Бить подчинённого, который не может ответить тебе тем же – не просто жестоко, но и подло. Елизавета была крайне возмущена, от её чувств не осталось и следа. Она рассталась с женихов и уехала в Петербург.
Дочь писателя проливает свет на то, каким образом в жизни Куприна появилась новая женщина – Елизавета.
«Когда Лиза вернулась с войны, Куприны отсутствовали. Их дочка Люлюша, оставленная на няньку, заболела дифтерией. Лиза, страстно любившая детей, день и ночь дежурила у постели Люлюши и очень к ней привязалась. Вернувшись в Петербург, Мария Карловна обрадовалась привязанности дочери к Лизе и предложила последней поехать с ними в Даниловское, имение Федора Дмитриевича Батюшкова. Лиза согласилась, так как чувствовала себя в то время неприкаянной и не знала, чем себя занять.
Впервые Куприн обратил внимание на строгую красоту Лизы на именинах Н. К. Михайловского. Об этом свидетельствует краткая записка моей мамы, где не указана дата этой встречи. Она вспоминает только, что молодежь пела под гитару, что среди гостей был молодой ещё Качалов.
В Даниловском Куприн уже по-настоящему влюбился в Лизу. Я думаю, что в ней была та настоящая чистота, та исключительная доброта, в которых очень нуждался в то время Александр Иванович. Однажды во время грозы он объяснился с нею. Первым чувством Лизы была паника. Она была слишком честной, ей совсем не было свойственно кокетство. Разрушать семью, лишать
Люлюшу отца казалось ей совершенно немыслимым, хотя и у неё зарождалась та большая, самоотверженная любовь, которой она впоследствии посвятила всю жизнь.
Лиза снова обратилась в бегство. Скрыв от всех свой адрес, она поступила в какой-то далекий госпиталь, в отделение заразных больных, чтобы быть совсем оторванной от мира.
В начале 1907 года для друзей Куприных стало ясно, что супруги несчастливы и что разрыв неизбежен…»
И далее:
«Мемуаристы той поры, упоминая о Куприне, почти не замечают его новую жену. В отличие от Марии Карловны, внешне яркой, громкой, стремящейся всегда и всюду быть на первом плане, Елизавета Морицовна, напротив, на главные роли не претендовала. «Любовь к Лизе возвращает его к давнишней мечте о пересказе «Песни песней», о великой любви царя Соломона к простой девушке из виноградников», – напишет позже их дочь Ксения. Так появилась знаменитая купринская «Суламифь». В том же году увидел свет и еще один гимн торжествующей любви – повесть «Гранатовый браслет».
Куприн переживал отъезд Елизаветы. Тем более, её исчезновение уже ничего не могло изменить.
Дочь писателя вспоминала:
В феврале 1907 года Куприн ушёл из дома; он поселился в петербургской гостинице «Пале-Рояль» и стал сильно пить. Федор Дмитриевич Батюшков, видя, как Александр Иванович губит своё железное здоровье и свой талант, взялся разыскать Лизу. Он нашёл её и стал уговаривать, приводя именно такие аргументы, которые только и могли поколебать Лизу. Он говорил ей, что разрыв с Марией Карловной окончателен, что Куприн губит себя и что ему нужен рядом с ним именно такой человек, как она. Спасать было призванием Лизы, и она согласилась, но поставила условием, что Александр Иванович перестанет пить и поедет лечиться в Гельсингфорс. 19 марта Александр Иванович с Лизой уезжают в Финляндию, а 31-го разрыв с Марией Карловной становится официальным…»
Поселились Александр Иванович и Елизавет в Гатчине. Там они прожили восемь счастливых лет. У них был уютный домик с огородиком, своё домашнее хозяйство. В 1908 году Елизавета родила Ксения, а через год – Зинаида.
Елизавета была верной и преданной женой. Куприн ценил это, но его буйный нрав не позволял ему стать примерным семьянином.
Тяжёлые испытания выпали на её долю в эмиграции. Куприн писал:
«Обитаем в двух грязных комнатушках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце. Елизавета Морицовна сама стирает, стряпает и моет посуду…»
Елизавете, кроме всего прочего, приходилось работать, чтобы как-то прожить, свести концы с концами.
Олег Михайлов в своей книге о Куприне пишет о её нравственных страданиях:
«Чуткая и самоотверженная Елизавета Морицовна с болью следила за тем, как гаснет в Куприне писатель. На её хрупкие плечи легли теперь все житейские невзгоды – все муки за неоплаченные долги и добывание денег «хоть из-под земли» не только для собственной семьи, но и для нуждающихся друзей и знакомых. Видя, как тяжело Куприну писать на чужбине, как непостоянны заработки некогда знаменитого писателя, Елизавета Морицовна вместе с профессиональным мастером открыла переплетную мастерскую… Коммерческая затея отважной, но непрактичной женщины кончилась плачевно: компаньон оказался пьяницей, заказы не выполнялись в срок, и мастерскую пришлось очень скоро закрыть…»
Но самым для неё ужасным испытанием было ещё и то, что Куприн, несмотря на возраст, часто увлекался женщинами, посвящал им стихи, бывало, что не ночевал дома.
Тяжёлая болезнь подкралась незаметно. Было решено принять приглашение Советского правительства и вернуться на Родину. В конце мая 1937 года Куприны выехали в СССР. Там спустя год он и завершил свой жизненный путь. Елизавета Морицовна ушла из жизни в блокадном Ленинграде.
--
Николай Шахмагонов
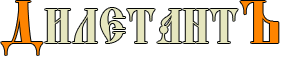
Великолепное повествование. Куприна обожаю ! В детстве зачитывалась . Особенно впечатляет "Звезда Соломона". Мне иногда даже кажется , что Булгаков , немного сплагиатил У Куприна для "Мастер и Маргарита"
Николай Федорович ! От души спасибо и не обижайтесь на меня.
Спасибо Вам, Ирина, от автора. Передам, чтоб отписал Вам на почту, внутреннюю.
Повествование увлекательное. Вот только неправдаподобное оно. Людям не свойственны такие отношения. Это жёстко и в конечном счёте бесполезно. Кроме депрессии, такое поведение жены , для него ничего бы не принесло.
От Ник. Фёд-ча Спасибо за внимание и оценку.
Это документалка. Так что всё точно. Интересно, откуда взял? Передам интерес. На внутреннюю почту Вам ответит.
Сюда выходить - очередной роман гробить.
Да, Куприн великолепный писатель, ну а с жёнами всем писателям не везло, кроме единиц.
Вот Лев Толстой написал: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского»
Да, Анна Григорьевна была необыкновенной женой.
Ну а первая супруга Куприна, как видим, любила его. Я её мемуары читала. Хорошо, что сумела несмотря на обиды правду написать. В очерке понравились мостики в современность.