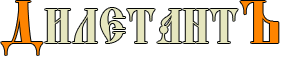Кинобудка
Дмитрий Донской и Евдокия Суздальская
«Мёртвые срама не имут…»
Прежде чем начать рассказ о любовных драмах и трагедиях Русских Государей – Великих Князей, Царей и Императоров – хотелось бы хотя бы кратко остановиться на примере, достойном восхищения и подражания. Рассказать о семье одного из самых почитаемых и любимых наших великих предков, о Дмитрии Иоанновиче, получившем титул Донского, за великую Куликовскую победу, и его супруге Евдокии Дмитриевне.
Начнём же с события, едва не ставшего трагичным для всей Руси, с испытания, которое выпало на то время, когда Дмитрий Иоаннович Донской уже оставил сей мир…
Лето 1395 года выдалось для Русской земли нелёгким. Минуло шесть лет, как ушёл в лучший мир святой благоверный князь Дмитрий Иоаннович, наречённый Донским. На долю его сына Василия Дмитриевича выпали тяжелейшие испытания – орда Тамерлана ворвалась в пределы нашего Отечества, захватила город Елец, достигла пределов Рязанского княжества и продолжила движение на Москву.
За пятнадцать лет, минувших с кровопролитной битвы с мамаевой ордой Русь ещё не успела полностью восстановить свои силы, ещё не подросли и не окрепли новые воины, её защитники. Невелика была пока и дружина Московского князя. Именно тогда Россия впервые услышала слова:
«Мертвые срама не имут».

Их произнёс Великий князь Василий Дмитриевич, перед тем, как выйти с немногочисленным своим войском навстречу врагу, на берег Оки, к Коломне. Берег Оки давно уже стал защитным рубежом Москвы, Коломна же – город, в котором венчались его родители – Дмитрий Иоаннович и Евдокия Дмитриевна.
Василий Дмитриевич и его воины решили стать на смерть на этом рубеже, чтобы враг, если и смог бы пройти к Москве, то только тогда, когда не останется в живых ни одного Русского витязя.
В эти дни великая княгиня Евдокия Дмитриевна поручила духовенству взять в Успенском Соборе города Владимира знаменитую икону Божией Матери, именуемую «Владимирская» и после молебна крестным ходом перенести её в Москву для защиты стольного града.
Августа 26 числа, года 1395 от Рождества Христова москвичи встретили икону на Кучковом поле, и когда вся Россия возносила свои молитвы к Пресвятой Богородице, возглашая: «Матерь Божия, спаси Землю Русскую», свершилось чудо.
В тот же самый день, как потом сообщили сакмагоны – пограничники, наблюдавшие за действиями Тамерлана – всё его огромное войско внезапно, словно по тревоге, снялось со своей очередной стоянки, и побежало прочь из русских пределов, впервые, не грабя, не сжигая селений, не уводя полон.
Впоследствии стало известно, что в тот самый момент, когда Владимирская икона достигла Кучкова поля, где ныне стоит Сретенский монастырь, Тамерлану, отдыхавшему в ханском шатре, было видение, от которого он пришёл в трепет, и немедленно призвал к себе всех своих мудрецов. Он рассказал им, как только что видел, словно наяву, огромную гору, с которой шли прямо на него Православные святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Сама Царица Небесная, грозя ему и требуя покинуть пределы России.
Мудрецы пояснили, что явилась ему Пресвятая Богородица, великая защитница Русской Земли, и что перечить ей никак нельзя. Тамерлан знал, что даже в Яссах Чингисхана – суровом законе, строго исполняемом не одним поколением ордынцев, – было записано требование повиноваться воле Православных Святителей и не трогать Православную Церковь. Русь была спасена.
«Единою душою в двух телах…»
Ну а теперь настала пора поведать о самой Евдокии Дмитриевне, о том, как стала она супругой великого князя Московского Дмитрия Иоанновича.
Монах Варнава (Санин) писал о Дмитрии Московском:
«Скажем несколько слов о молодом князе. У его отца было прозвище – нет, не Московский, а Красный, т.е. Красивый. Скорее всего, и Димитрий тоже был красив. Согласно «Житию Димитрия Донского», был молодой князь крепок, высок, плечист и даже грузен, имел чёрные волосы и бороду. То же Житие описывает и характер князя: «Ещё юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вёл, непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал»…
В качестве же основной личной черты автор Жития называет необыкновенную любовь князя к Богу – был Димитрий «с Богом все творящий и за Него борющийся».
Говорится в Житии и о том, что был князь человеком крайне активным, и в то же время практичным. Уже с 13 лет Димитрий возглавлял военные походы – но при этом проявлял милосердие к побеждённому врагу. Известно, что его наставником с детства был митрополит Алексий – энергичный деятель, опытный политик и дипломат. Князь советовался с ним по всем важным вопросам. Родители и единственный брат князя умерли, когда тот был ещё подростком.
И конечно он всегда слушал советов и наставлений отца Сергия Радонежского, великого молитвенника и заступника Русской Земли.
Именно Сергий дал добрый совет Дмитрию Иоанновичу просить руки Евдокии Дмитриевны, дочери Суздальского князя Дмитрия Константиновича.
Мой отец Фёдор Шахмагонов, посвятившие многие годы изучению эпохи Дмитрия Донского. Он исследовал практически все документы того времени и издал в 1981 году роман «Ликуя и скорбя», в котором реставрировал те давние события. В откровенной духовной беседе отец Сергий сказал молодому князю:
«– Браки у князей по любви на небесах свершаются, а на нашей земле ради упрочения царства земного. Верной спутницей твоему отцу была мать... До свадьбы они и не видели друг друга, но с той поры брянские князья всегда с Москвой. Дед твой, Юрий Данилович, взял в жёны сестру хана Узбека. Хан Узбек позволил Москве обуздать Тверь.
(…)
Дмитрий поднял голову, опять его чёрные глаза впились в лицо Сергия. Сергий спокойно выдержал горячечный их блеск.
– А кого ты мне посватаешь?
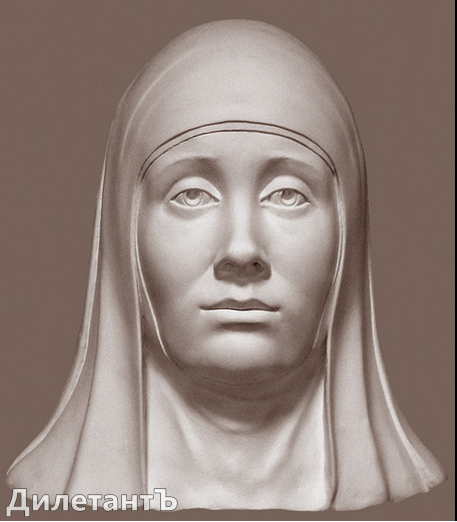
– Есть невесты у литовского Ольгерда. И сёстры, и дочери... Но не смирить тебе жадность литовского князя, не любо будет ему возвышение Москвы. Есть у тверских князей невесты, но тебе Тверь надо под Москву подводить, и тут тебе не подмога сватовство. Спёрся ты о княжении с Дмитрием Суздальским. Первый раз ты побил его, в другу рядь он сам от ярлыка отказался. Есть у него дочь Евдокия... Здесь сватовство скрепит, что ты силой ставил! Суздаль да Москва, ровно, что Москва и Владимир. Сомкнутся Москва с Нижним Новгородом через Суздаль, Белоозеро с Москвой то ж через Суздаль! Научись делать из врагов друзей – и неодолим будешь…»
Факт остаётся фактом – на всю жизнь научил отец Сергий князя Московского Дмитрия не спешить обнажать меч против соотечественников, а стремиться из врагов друзей делать.
«Не Суздаль главный враг – враг Орда, не дай хан Амурат ярлыка, в Суздаль и не посмели бы надеяться сесть на стол во Владимире и Москве. Суздальца, его сыновей да брата нет труда повергнуть в прах. Можно со стола согнать, можно и что похуже сделать. Делано! Всё бывало. Князь князя убивал, ослеплял... Но суздальцы и нижегородцы затаят обиду и месть, а готовится час, когда с ними заодно против Орды идти. Имел Дмитрий и весточку от Сергия, что говорено с Суздальцем о сватовстве».
И вот решено. Быть свадьбе, да вот где играть её? Необычна невеста. Князь Суздальский силён достаточно. Да был бит, но ведь и от ярлыка на княжение в пользу Москвы сам отказался. Понял, что Москва становится центром земель Русский – не мешать, а помогать надо. Ехать для венчания в Суздаль негоже Московскому князю, не по рангу это, но и в Москве венчание проводить тоже не дело. В обиду это Дмитрию Константиновичу. И выбрали Коломну… До сей поры коломчане помнят о том величайшем событии древности. Любой покажет, где то место, на котором свершилось венчание. Неподалёку оно от слияния двух рек российских Оки и Москвы-реки. Москва-река впадает там в Оку.
И снова обратимся к роману «Ликуя и скорбя»:
«Порешили венчаться в Коломне, в дальней крепости, что стоит на стороже от Орды. От Коломны недалёк двор великого князя рязанского Олега. На свадьбу зван, да скорее всего не приедет, не забыто, что князь Иван Данилович оттягал Коломну у Рязани. Пусть не едет, но услышит, что съехались в Коломну князья со всех земель, пусть узрит силу, обороняющую Москву. Не грозит сбор в Коломне и тверскому князю Михаилу, выходцу из князей микулинских. Вражда с Тверью давно завязана, неповинен в ней Дмитрий, а не забыта. Дед терзал Тверь, внуку отвечать ли?
Владыку коломенского, епископа Герасима, привязать, его рука простирается на рязанцев. А он ревнив к Москве, одним глазом на Москву смотрит, другим – на Рязань, так пусть он венчает московского князя и оба глаза к Москве обратит.
Коломна встретила князя Дмитрия колокольным звоном….»
Сохранились летописные свидетельства о том, как проходила 31 января 1366 года свадьба, и о том, какое впечатление произвели друг на друга Дмитрий Иоаннович и Евдокия Дмитриевна. В романе «Ликуя и скорбя» не литературный вымысел, там – перевод древних текстов на современный художественный язык. Ну, разве что слова молодожёнов подобраны под то, что произошло на самом деле.
«Евдокия ещё не отведала власти, но краем глаза успевала замечать, что юный её князь говорит твёрдо, слушают его покорно, склоняются головы и князей и бояр, хоть и безбород князь, а бояре и князья бородаты.
Прятали невесту до часа, пока в храм приехали, в храм вошла в свадебном облачении. Сверкнули радостно глаза жениха, понравилась. Обжёг взглядом – любить будет, а то самое страшное, коли не по сердцу жена, тогда мука, тогда тоска, тогда монастырь в конце...
Оковал их пальцы золотыми кольцами коломенский владыка Герасим. Из церкви ехали рядом, в одном возке. На улицах толпы, падает хмель, падает серебро инея на возок.
Князь гладил её пальцы своей нежной рукой и шептал:
– Какая ты красивая! Люб я тебе?
Князь поцеловал её ладонь, поцеловал пальцы и вдруг, охватив за плечи, прижал к себе и выпил слёзы с глаз поцелуями...
Гридница в хоромах коломенского тысяцкого Тимофея Вельяминова не вместила гостей. За большим столом великий князь и великая княгиня. По правую руку от Дмитрия ближние его родичи, а за ними воевода большой и старшие бояре.
По левую руку от Евдокии – её родичи, отец, мать, братья, суздальские князья да бояре.
А на том, на другом конце стола, самые почётные гости, два великих князя: тверской Михаил и рязанский Олег…».
Вот и первые результаты мудрого решения молодого, даже можно сказать юного Московского князя Дмитрия. Приехали-таки на свадьбу и князь Олег Рязанский, и князь Михаил Тверской. Первый шаг к союзу с ними, хотя и долог, очень долог путь к прочному единству.
«…За полночь пир начал утихать. Старшие бояре, что следили за обычаем, объявили, что пора вести молодых в опочивальню.
Закрылась тяжелая дубовая дверь, окованная медью. Князь заложил засов. В красном углу горела ярким языком лампада, освещая тёмный лик Спаса, каким видела его Евдокия на чёрном стяге московского князя, когда он встретил её у ворот Коломны. В кованом подсвечнике горели три свечи. Мягкие медвежьи шкуры скрадывали шаги, печь дышала жаром. Голубой полог над ложем расшит звездами. Дмитрий скинул с плеч горностаевую приволоку, взял со столика подсвечник с горящими свечами.
– Дай я тебя разгляжу! – сказал он, улыбаясь. Евдокия закрыла лицо руками, князь отвёл её руки и усадил в кресло. Сел у её ног, поставив подсвечник на пол.
– Как жить будем, сероглазочка? Как муж с женой или как князь с княгиней? Я полюблю тебя, ты красивая! Не знал я, что ты такая! Для Москвы, для княжества сватали, но надеялся, что так по сердцу придёшься!»
Полюбилась князю Дмитрию юная Евдокия, и она ответила на его любовь искренне. Брак, хоть и выгоден обеим сторонам, оказался, тем не менее, заключён не по расчёту, а по любви. И вся дальнейшая жизнь супругов стала тому подтверждением. Современник, кстати, написал о Димитрии и Евдокии такие слова:
«Оба жили единою душою в двух телах; оба жили единою добродетелию, как златоперистый голубь и сладкоглаголивая ластовица, с умилением смотряся в чистое зеркальце совести».
Составитель Жития князя Димитрия пишет, что бракосочетание юных князя и княгини «преисполнило радостию сердца русских».
И далее продолжает:
«Евдокия, несмотря на совсем юный возраст (а ей было всего 13 лет), сразу же проявила себя по отношению к народу по-матерински: помогала погорельцам отстраивать дома, на свои деньги хоронила умерших от чумы. Летописцы отмечали, что она тогда «много милости сотворила убогим».
Димитрий и Евдокия искренне полюбили друг друга.
«Любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь сказать, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь. Так же и Димитрий любил жену, и жили они в целомудрии...» – так говорится о князе и княгине в летописях...»
Евдокия Дмитриевна, по воле которой была перенесена в Москву святая икона, ещё раз напомнила своим соотечественникам, что «Не в силе Бог, а в Правде».
В «Житии…» далее говорится:
«В 1370 г. Евдокия родила первого сына Даниила (он не прожил долго), в 1371 г. – второго, Василия. Так и повелось: каждые полтора года – по ребенку: 8 мальчиков и 4 девочки за 22 года семейной жизни. Князь же бывал в Москве наездами – в перерывах между военными кампаниями.
Следует сказать, что вся жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством и благословением великих святых земли Русской: святителя Алексия и преподобного Сергия Радонежского, а также ученика преподобного святого Феодора, игумена Московского Симонова монастыря (впоследствии архиепископа Ростовского), который был духовником Евдокии. А преподобный Сергий, кстати, крестил самого Димитрия и двоих из его детей…»
Надо отдать Димитрию должное: человек христианских взглядов, он сначала действовал мягко.
Преподобный Сергий Радонежский по просьбе Димитрия или митрополита Алексея не раз уговаривал других князей примириться и встать под знамёна Москвы. И только когда все мирные методы были исчерпаны, московский князь выступал с позиции силы.
Укрепление Москвы обозлило Орду, и поход татар на Русь стал только вопросом времени. Обе стороны стягивали войска».
Решающие схватки с Мамаем
В 1378 году Мамая отправил на Русь тумен темника Бегича. Тумен – 10 000 войска. Сила по тем временам очень большая. Ведь для того, чтобы собрать равную дружину время нужно. Нельзя держать в строю такое количество воинов постоянно – работать нужно людям, иначе не поднять земли Русской.
О жестокой битве на реке Воже как то не любят у нас вспоминать. Историки из ордена русской интеллигенции любят другие сражения, такие, где у нас хоть какая-то, но неудача. Битва на Воже – битва особая.
Помню, как мой отец Фёдор Шахмагонов реставрировал эти события, сколько литературы перевернул, чтобы понять, каким образом Дмитрию Иоанновичу Московскому удалось наголову разбить врага и победить практически без потерь. То, что описано в романе, вовсе не вымысел – точный расчёт, составленные планы и схемы, чуть не сказал, что даже карточки огня приведены – но это уже из нашего времени… Тем не менее очень и очень часто расспрашивал он о современной тактике, поскольку есть некоторые принципы ведения боя, которые не меняются даже по мере изменения средств поражения.
В специальных работах, вышедших ещё до издания романа, Фёдор Шахмагонов доказал, что на Руси в преддверии решающей схватки с ордой было развёрнуто производство ручных и станковых самострелов – в Европе то они уже активно применялись во многих известных в то время битвах. Описание битвы на Воже сделано на строгой документальной основе.
Вот как происходило это первое победное столкновения с ордой за долгие, очень долгие годы.
«Развернули перед шатром чёрное знамя московского войска с белым шитьем Нерукотворного Спаса. Выстроились тумены Бегича. Ударили бубны, посылая ордынцев в бой, снялись первые тысячи. Первые тысячи повел в бой эмир Ковергуй. У него под началом пять тысяч всадников. Его пять рядов должны проломить копья пеших. Он был уверен, что от крика, от конского топа, от конского храпа побегут русы.
Луки готовы пустить стрелы. Ближе и ближе проклятый строй копейщиков. Шевельнулись длинные копья и наклонились встречь лаве всадников. Ковергуй ждал этого, он был уверен, что стрелы достанут русов, копья не защищают от летучей смерти. Тысяча шагов осталась до русов. Почему же их конные не идут навстречу? Стоят, как и пешие. Стоят, а конным стоя принимать удар конных – это гибель.
Никогда ещё Боброк не видел и не слышал залпа из четырёх тысяч самострелов, не видел и Дмитрий, не видел князь Андрей Ольгердович, не видел Тимофей Васильевич, московский окольничий, ничего не ведали о силе залпа из самострелов князь Олег, Даниил Пронский и рязанский боярин Назар Кучаков.
Звон пружин, опустивших тетиву, заглушил конский топот и визг ордынцев, полёт четырёх тысяч стрел рванул воздух как громом, удар стрел о цель отозвался горным обвалом. В первую тысячу всадников пришло четыре тысячи железных стрел. Второй ряд ворвался в мятущихся коней, перескочил через павших всадников. Вторая тысяча ордынцев получила ещё две тысячи стрел.
И этот ряд Ковергуя был повержен, пал, пронзённый насквозь железной стрелой, и сам Ковергуй.
Третья тысяча всадников вырвалась из смертной полосы, потеряв стройность. Ей дали выровняться, ордынцы успели пустить стрелы, но стрелы были встречены колыханием длинных копий с повязанными у наконечников конскими хвостами и потеряли убойную силу. На расстоянии в пятьсот шагов в тысячу всадников третьей линии пришло ещё две тысячи железных стрел.
Остановились бы и четвёртый и пятый ряды тумена Ковергуя, да жали на них задние ряды. Четыре тысячи железных стрел в грудь двум тысячам всадников. Залп не по цели, залп по сплошной стене всадников.
Мешая строй, не лавой, а тучей, перекатились ещё две тысячи всадников через убитых. Метались кони, бились на земле, топтали раненых. Не шелохнулся строй пеших воинов, стальная дуга наклонилась в напряжении. Достать до копейщиков, другого и нет в мыслях у ордынцев, ярость и отчаяние, отчаяние и ярость. Два залпа один за другим, четыре тысячи железных стрел в упор, с расстояния в двадцать пять шагов. Этот удар не стрел, что удар копий.
Между всадниками тумена Бегича и строем копейщиков не осталось ни одного ряда. Бегич вёл своих нукеров, Бегич рвался к пешему строю, Хазибей и Корабалук рвались к конным русам.
Никто не поднимал лука, загородились щитами от смертоносных стрел, должны они иссякнуть. Бегич не поверил своим глазам. Он слышал, что трубы русов подали какой-то сигнал. Он даже не понял, что случилось, ему сначала показалось, что его конь убыстрил бег. Нет! Конь шёл мелкой рысью, пеший строй русов перешагнул через мертвые ряды ордынцев и шёл навстречу, выставив копья. Пешие шли на конных, нигде не изломав линии строя длинной в поприще. Так пахари, так ремесленники не ходят, так могли ходить, только воины Александра Двурогого. Подумалось было, вот о чём надо упредить Мамая! Орде конец! Подумалось, и пал Бегич, пронзённый стрелой. Стрела пробила щит, пробила стальное зерцало арабской работы и вышла из спины Бегича. Падая, он видел, что валится небо на его воинов.
Вновь затрубили трубы в стане русов. Дмитрий подал знак к удару конным полкам…»
И важный итог, прозвучавший в романе после описания полного поражения врага, настолько полного, что и бежать от русских было почти уже некому. Тысячи полегли в бою, практически не сумев нанести вреда русскому войску.
«Первым заговорил Андрей Ольгердович.
– Видел я, брат мой старейший, много битв... Бился с немецкими рыцарями, ходил на Орду, водил полки с отцом. Скажу, закатилась звезда Орды! С твоим войском готов идти в любые страны, нет силы, способной его остановить, как не было силы, что могла бы остановить войско Александра Македонского.
– Слова твои, брат мой Андрей, радуют моё сердце, – ответил Дмитрий. – Я никуда не собираюсь вести это войско. Создано оно лишениями и смертным трудом, дабы отстоять родную землю. Не для завоеваний оно создано, а оберечь труд наш, землю нашу, детей наших, чтоб не погасла свеча, и не пресекся род русский»...
Наступил 1380 год. Хан Мамай, взбешённый поражением темника Бегича, два года готовился к тому, чтобы окончательно стереть с лица земли непокорную Русь. По разным оценкам он собрал войско, превышающее 200 тысяч человек. Дмитрий Иоаннович и его двоюродный брат Владимир Серпуховской смогли собрать не более ста тысяч. Ждали орду… Ждали нашествия, быть может, равного Батыеву. Приходили данные из орды – разведка работала. Ждали сообщений от сакмагонов – так именовалась пограничная стража Древней Руси. Сакма по-татарски след – след гнать, то есть обозначать следы ордынские дымами от подожжённых копен сена, заранее сложенных вдоль границ на большую глубину.
Дмитрий Иоаннович ездил к преподобному Сергию за благословением. В «Житиях преподобного Сергия Радонежского» говорится:
«Он пришёл к святому Сергию, потому что великую веру имел в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он знал, что Сергий – муж добродетельный и даром пророческим обладает….»
А в «Житии Дмитрия Донского, благоверного Великого князя Московского» говорится:
«Воздав здесь своё смиренное поклонение Господу Сил, великий князь сказал святому игумену: «Ты уже знаешь, отче, какое великое горе сокрушает меня, да и не меня одного, а всех православных: ордынский князь Мамай двинул всю орду безбожных татар. И вот они идут на мою отчизну, на Русскую землю, разорять святые церкви и губить христианский народ... Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой беды!»
Святой же, когда услышал об этом от великого князя, благословил его, молитвой вооружил и сказал: «Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в своё отечество с великой честью вернёшься».
Великий же князь ответил:
«Если мне Бог поможет, отче, поставлю монастырь в честь пречистой Богоматери!»
И, сказав это и получив благословение, ушёл из монастыря и быстро отправился в путь…
В «Сказаниях о мамаевом побоище» повествуется о начале великого похода Дмитрия Московского против ордынцев:
«20 августа 1380 года ясным утром князь с княгиней и детьми молился в соборном Успенском храме, обращался к Пречистой, припадал к раке святого Петра, просил его помощи, а потом перешёл в Архангельский собор, где поклонился гробам родителя и деда. «Княгиня же великая Евдокия Дмитриевна, и Владимирова княгиня Мария, и других православных князей княгини, и многие жёны воевод, и боярыни московские, и простых воинов жены провожали их и от слез и рыданий не могли вымолвить и слова, в последний раз целуя мужей своих. Князь же великий и сам едва удерживался от слёз, не стал плакать при людях, но в сердце своем весьма прослезился. И, утешая княгиню свою, так сказал: «Жена! Если Бог за нас, то кто против нас?»
И сел на любимого коня своего, и все князья и воеводы сели на коней своих и выступили из города. Великая же княгиня Евдокия со своею невесткою, Владимировой княгиней Марией, и с воеводскими женами, и с боярынями взошла в златоверхий свой терем набережный и села на рундуке под стекольчатыми окнами. Ибо в последний раз видит она великого князя, слезы проливая, словно речной поток...».
В канун битвы прискакал от Сергия Радонежского гонец с грамоткой, в которой говорилось:
«Без всякого сомнения, господин, смело вступай в бой со свирепостью их, нисколько не устрашаясь, – обязательно поможет тебе Бог».
Тогда князь великий Дмитрий и всё войско его, от этого послания великой решимости исполнившись, пошли против поганых, и промолвил князь:
«Боже великий, сотворивший небо и землю! Помощником мне будь в битве с противниками святого твоего имени».
Так началось сражение, и многие пали, но помог Бог великому победоносному Дмитрию, и побеждены были поганые татары, и полному разгрому подверглись: ведь видели окаянные против себя посланный Богом гнев и Божье негодование, и все обратились в бегство. Крестоносная хоругвь долго гнала врагов. Великий князь Дмитрий, славную победу одержав, пришёл к Сергию, благодарность принеся за добрый совет. Бога славил и вклад большой в монастырь дал».
Евдокия ждала супруга своего в Москве, ждала в тревоге и надежде. Она занималась детьми, подбадривала княгинь и боярынь, чьи мужья вышли битву с Мамаем.
В «Сказании о Мамаевом побоище» упоминается её обращение перед битвой к «княгиням, боярыням, женам воеводским и женам служних».
«Господи, Боже мой, Всевышний Творец, взгляни на моё смирение, удостой меня, Господи, увидеть вновь моего государя, славнейшего среди людей великого князя Дмитрия Ивановича. Помоги же ему, господи, своей твердой рукой победить вышедших на него поганых половцев. И не допусти, господи, того, что за много лет прежде сего было, когда страшная битва была у русских князей на Калке с погаными половцами, с агарянами; и теперь избавь, Господи, от подобной беды, и спаси, и помилуй! Не дай же, Господи, погибнуть сохранившемуся христианству, и пусть славится имя Твоё святое в Русской земле! Со времени той калкской беды и страшного побоища татарского и ныне уныла Русская земля, и нет уже у неё надежды ни на кого, но только на Тебя, Всемилостивого Бога, ибо ты можешь оживить и умертвить. Я же, грешная, имею теперь две отрасли малых, князя Василия и князя Юрия: если встанет ясное солнце с юга или ветер повеет к западу – ни того, ни другого не смогут ещё вынести. Что же тогда я, грешная, поделаю? Так возврати им, Господи, отца их, великого князя, здоровым, тогда и земля их спасётся, и они всегда будут царствовать».
То был не традиционный для русских княгинь «плач», а призыв «победить противных супостатов».
Куликовская битва прогремела 8 сентября 1380 года и окончилась полной победой русского воинства. Потери были велики. Преподобный Сергий, предрекал Дмитрию Иоанновичу, что будет «кровопролитие ужасное», но предрёк он и победу. Предсказал он также «смерть многих героев православных, но спасение великого князя».
Историк Сергей Михайлович Соловьев отметил:
«Летописцы говорят, что такой битвы, как Куликовская, ещё не бывало прежде на Руси; от подобных битв давно уже отвыкла Европа… Куликовская победа была из числа тех побед, которые близко граничат с тяжким поражением. Когда, говорит предание, великий князь велел счесть, сколько осталось в живых после битвы, то боярин Михайла Александрович донёс ему, что осталось всего сорок тысяч человек… В этой ужасающей сече был ранен и князь Димитрий. Его долго искали по всему полю, усеянному трупами, и, наконец, «двое ратников, уклонившись в сторону, нашли великого князя, едва дышащего, под ветвями недавно срубленного дерева».
В Житии отмечено, что любовь и молитва жены оберегала, спасала и – помогла выжить князю.
Итак, победа была одержана, но не окончились беды для Русской земли, ослабленной большими потерями воинов. Этим воспользовался хан Тохтамыш, который предпринял поход в 1382 году. Как только разведка сообщила о начале нашествия, Дмитрия Донской отправился в Волок Ламский собирать войско. Евдокия Дмитриевна осталась в Москве с малыми детьми, да ещё и в ожидании рождения девятого ребёнка. Сразу после родов выехала к мужу.
В Москве было неспокойно. Ждали нашествия татар, ждали новых напастей, возможно даже погибели. Все понимали, что ордынцы не простят того, что Русь вырвалась из-под ига и расправляла крылья.
Чудом удалось вырваться из города, который вскоре был осаждён. Стойко держались москвичи, и вскоре Тохтамышу стало ясно, что не взять ему Москвы до подхода Дмитрия Донского, которого он после разгрома Мамая побаивался.
И тогда он пошёл на хитрость. Прибывшие под стены Москвы новгородские князья целовали крест в том, что Тохтамыш не тронет никого. Только войдёт в Кремль и сразу отправится назад. Разумеется, обещаний ордынцы выполнять не собирались. Едва были открыты ворота и знать, оставшаяся в городе вышла навстречу Тохтамышу, как тут же ордынцы сделали нападение и порубились всех до единого. Москва была разграблена и сожжена. В Кремле горело всё, что могло сгореть. Были уничтожены древние книги, берестяные грамоты, перебито 24 тысячи жителей. Уцелело не более 6 тысяч.
Бесчинства продолжались недолго. Узнав, что войско Дмитрия Донского приближается к Москве со стороны Волока Ламского, Тохтамыш поспешно бежал.
Нелёгкими были и последующие годы. В 1383 году умер отец Евдокии Дмитриевны князь Дмитрий Константинович. А тут ещё пришло время получать ярлык на княжение у нового ордынского хана. Победа на Куликовом поле явилась пока лишь началом освобождения из-под ига. Поездка за ярлыком была крайне опасной. Совершенно очевидно, что Дмитрию Донскому живым из орды не вернуться. Решили послать старшего сына Василия Дмитриевича, которому едва исполнилось 13 лет. Снова горе для Евдокии Дмитриевны – только оплакала отца, а тут разлука с сыном, да какая. Что ожидало его в орде?
Хан оставил у себя Василия, потребовав невероятный выкуп – не было таких средств в Москве, ещё не оправившейся после Куликовской битвы и нашествия Тохтамыша.
Лишь в 1386 году Василию был устроен побег. Но взято обещание, что за помощь в организации побега, он женится на дочери наместника Литвы Витовта.
Раны, полученные на Куликовом поле, не прошли для Дмитрия Иоанновича даром. Здоровье пошатнулось, и в 1389 году ему стало совсем плохо.
Трогательным было прощание князя с женой и детьми. Княжеский стол он завещал старшему сыну, 18-летнему Василию Дмитриевичу, предупредив, однако, чтобы во всём беспрекословно слушался матери.
В духовном завещании написал:
«Приказываю детям своим и своей княгине. А вы, дети мои, живите за один, а матери своей слушайтесь во всём; если кто из сыновей моих умрёт, то княгиня моя поделит его удел на остальных сыновей моих: кому что даст, то тому и есть, а дети мои из её воли не выйдут… А который сын мой не станет слушаться своей матери, на том не будет моего благословения».
Сердце Дмитрия Донского остановилось в мае 1389 года. Ему не исполнилось и 39 лет.
Погребён победитель Мамая в Архангельском соборе Московского Кремля. С тех пор Архангельский собор Кремля стал общей семейной усыпальницей великокняжеских и царских семей Российского государства…
Святая Ефросинья Московская
В сердце Евдокии Дмитриевны кончина мужа отозвалась невыносимой болью, ведь она очень любила его и ласково называла его «свет мой светлый».
Александр Нечволодов в «Сказаниях о Русской Земле» писал:
«Мы много видели в Древней Руси добродетельных княгинь и счастливых браков, но брак Дмитрия Иоанновича Московского отличался особым благословением Божиим. Юная княгиня Евдокия была совершенно исключительной женщиной по своей необыкновенной набожности, кротости и глубокой привязанности к мужу…
Конечно, брачный союз таких двух людей, скреплённый глубокой любовью, должен был быть весьма счастлив, и, разумеется, в этом семейном счастье и черпал Дмитрий свои необыкновенные силы для борьбы с теми неожиданными, сложными и чрезвычайно грозными обстоятельствами, которые сопровождали всё его великое княжение.
И недаром Дмитрий Донской, почувствовав приближение своей кончины, строго наказал своим детям быть во всём послушными матери и действовать единодушно во славу Отечества, исполняя материнский наказ и материнскую волю».
Сколько усобиц знала Русь, не сосчитать, но Евдокия Дмитриевна сумела удержать своих сыновей от ссор и раздоров. Они любили её, верили ей и всегда слушались её, помня наказ своего великого отца.
О достоинствах великой княгини можно говорить много. Важно одно. Нет разночтений в том, что именно она смогла содействовать укреплению централизованной княжеской власти в трудное для Русской Земли время. Вполне естественно, это не нравилось врагам единой и могучей Руси, коих, увы, всегда достаточно на нашей земле.
«Ведя строго подвижническую жизнь, – читаем мы в «Сказаниях о Русской Земле», – Евдокия Дмитриевна, следуя примеру своего мужа, держала это в тайне, а на людях показывалась всегда с весёлым лицом, нося богатые одежды, украшенные жемчугом. Конечно, она делала это, чтобы являться в глазах толпы с видом, подобающим высокому званию великой княгини. Однако, некоторые злонамеренные люди стали распространять о ней дурные слухи, которые дошли и до одного из её сыновей – Юрия. Юрий в беспокойстве сообщил о них матери. Тогда Евдокия Дмитриевна созвала детей в молельню и сняла часть своих одежд. Увидя худобу её тела, изнуренного постом и измученного веригами, они ужаснулись, но Евдокия Дмитриевна просила их не говорить об этом никому, а на людские толки о ней советовала не обращать внимания».
После ухода в мир иной своего супруга Евдокия Дмитриевна основала Вознесенскую женскую обитель. Перед кончиной своей, последовавшей 7 июня 1407 года, она чудесно исцелила одного слепца и приняла иночество с именем Ефросиньи.
В Сказание повествуется, что вступление великой княгини на монашеский путь было ознаменовано Божиим благословением и чудом. Одному нищему слепцу великая княгиня явилась во сне в канун своего пострига и обещала исцелить его от слепоты. И вот, когда Евдокия шла в обитель на «иноческий подвиг», слепец-нищий, сидевший при дороге, обратился к ней с мольбой:
«Боголюбивая госпожа, великая княгиня, питательница нищих! Ты всегда довольствовала нас пищею и одеждою, и никогда не отказывала нам в просьбах наших! Не презри и моей просьбы, исцели меня от многолетней слепоты, как сама обещала, явившись мне во сне в сию ночь. Ты сказала мне: завтра дам тебе прозрение, ныне настало для тебя время обещания».
Великая княгиня, будто не замечая слепца и не слыша его мольбу, прошла мимо, но перед этим как бы случайно опустила на слепца рукав рубашки. Тот с благоговением и верою отёр этим рукавом свои глаза. И на виду у всех совершилось чудо: слепой прозрел!»
Православная Церковь причислила Евдокию Дмитриевну к лику святых, и почитается она под именем святой Ефросиньи.
Судьба Владимирской иконы
Ну а теперь возвратимся к тому эпизоду, с которого начато повествование. Евдокия Дмитриевна показала себя величайшей прозорливецей, но она продемонстрировала и знания летописи Русской Земли. Ведь совсем не случайно она поручила духовенству принести крестным ходом в Москву именно икону Божией Матери, именуемую «Владимирская».
Удивительная судьба иконы… Написана она самим Лукой-евангелистом на доске стола, за которым трапезовали Матерь Божия со Своим Сыном. Лука преподнёс икону Пресвятой Богородице во время Её земной жизни. Внимательно посмотрев на икону, Она пророчески изрекла:
«Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет!».
По мере исхода истинного благочестия на северо-восток, в том же направлении перемещалась и икона. В V веке при греческом императоре Феодосии Младшем она перенесена из Иерусалима в Царьград, а в ХII веке её привезли оттуда в дар князю Юрию Владимировичу Долгорукому, который и поместил её в Вышгородский девичий монастырь.
Вскоре Юрий Долгорукий посадил на княжение в Выжгород своего сына князя Андрея, чтобы тот всегда был рядом с ним – с молодых лет показывал сын необыкновенные способности в государственных и военных делах, в дипломатии. Был он нелицемерно верующим. А потому с великим почтением относился и к главной святыне Вышгородского девичьего монастыря – иконе Божией Матери, тогда ещё не имевший того имени, под которым она вошла в славную летопись Русской Земли.
Но, видно, в погрязшей в братоубийственной бойне киевской земле не место было святой иконе.
В «Сказаниях о Русской Земле» Александр Нечволодов писал:
«В 1155 году с иконой произошло несколько чудесных явлений. Она сама собою выходила из киота, и в первый раз её видели стоящей среди церкви на воздухе; потом, когда её поставили в другом месте, она обратилась лицом в алтарь. Тогда её поставили в алтаре за престолом, но и там она сошла со своего места».
В энциклопедическом духовном издании «Православном букваре» читаем: «Видя множество чудес от принесённой святой иконы Божией матери, благоверный князь Андрей умолял Пречистую Богородицу открыть ему святую волю Свою. Долго молился Андрей перед святой иконой, имея желание переселиться в Северную Русь, веруя и надеясь на заступление Царицы Небесной. И Пречистая Владычица услышала немолчный вопль Своего избранника и видимым Знамением указала волю Свою, подкрепляя стремление князя идти на Север. И тайно от всех молодой князь со священником и дьяконами весной 1155 года выехал из Киева и, как великое сокровище и благословение Божией Матери, взял с собой Чудотворную Икону».
Писатель рубежа XIX – XX веков, непревзойдённый певец Русского Самодержавия Николай Иванович Черняев в книги «Мистика идеалы и поэзия Русского Самодержавия» в своё время отметил, что всё великое, священное Земли имеет мистическую основу и что этого не могут понять лишь те, кто заражён «республиканскими и демократическими предрассудками», что «мистика Русского Самодержавия всецело вытекает из учения Православной Церкви о власти и из народных воззрений на Царя, как на Божиего пристава».
Сама Божия Матерь, по Промыслу Создателя, посредством Иконы Своей осуществляла высшее Божественное водительство мыслями и делами князя Андрея Юрьевича. Когда князь с молебным пением поднял своими руками чудотворный образ и ночью покинул Вышгород, чтобы отправиться на Север, в Суздальскую Землю, свершилось великое действо, до сих пор ещё по достоинству не оценённое.
Чудеса в Вышгородском девичьем монастыре подробно описаны лишь в «Житии…» князя, в «Сказаниях о Русской Земле» Александра Нечволодова и в некоторых духовных книгах. Историки умолчали о них. Впрочем, в эпоху безбожия, которая стартовала задолго до революции, это всё уже казалось неправдоподобным, ведь учёные в области естествознания, выполняя заказ ордена русской интеллигенции, отрицали Бога и Божественное в событиях Земной жизни. Но естествознание, как точно отметил Николай Черняев, не могло и объяснить, почему происходят те или иные явления, в том числе и телепатические. Но не могли же безбожники признать, что Вседержителю и Царице Небесной ничего не стоит, если это необходимо, передвигать те или иные предметы, чтобы выказать волю Свою, помочь понять Промысел Божий.
В безграничных возможностях Бога и Божией Матери князь Андрей Юрьевич и его спутники смогли убедиться в пути. Проводник, посланный князем искать брод в разлившейся реке, едва не утонул вместе с конём, но чудом спасся, как указано в Житии…, по молитве князя, которую тот прочитал перед иконой Божией Матери.
Но главное мистическое событие, повлиявшее на весь ход Русской истории, произошло у нынешнего Боголюбова, а в то время просто пустого места на развилке Владимирской и Суздальской дорог. Именно на развилке лошади, которые везли киот с чудотворной иконой, встали.
В официальной истории говорится, что князь устал и заночевал на развилке. Ночью ему приснилась Пресвятая Богородица, и он на месте ночлега построил церковь и монастырь. В предыдущих главах мы поместили рассказ о тех событиях, которые произошли после остановки лошадей. Именно Явление и Откровение Пресвятой Богородицы заставили князя изменить свой план и повернуть на Владимир, а затем исполнить то, что повелела ему Небесная Владычица.
Но есть и другие источники, подробнее освещающие то события. Описал его и Александр Нечволодов.
Вечером 17 июля 1155 года, когда небольшой отряд, состоящий из свиты князя Андрея Юрьевича, сына Юрия Долгорукова, достиг развилки Владимирской и Суздальской дорог, имея по воле князя, возглавлявшего отряд, конечным пунктом своего пути не захолустный в ту пору Владимир, а богатый боярский Ростов, лошади, которые везли киот с чудотворной иконой Божией Матери, взятой князем Андреем Юрьевичем из Вышгородского монастыря, встали. Князь повелел заменить лошадей, но и другие не двинулись с места. И тогда Андрей Юрьевич понял, что дело не в лошадях, а в иконе.
Князь позвал священника Николая, которого взял из нелюбезного ему Вышгорода, в свой любезный Суздальский край, и попросил совершить молебен перед иконой Божией Матери, той самой, что писана самим Лукой-евангелистом и о которой Сама Пресвятая Богородица сказала, что с этой иконой будет благодать Её и Рождшегося от Неё.
Для молебна раскинули шатёр, где и поставили икону. Вся свита участвовала в молебне, ещё не осознавая умом, но ощущая сердцем важность свершаемого.
Когда перевалило за полночь, князь отпустил свиту и остался перед иконой один, продолжая искреннюю и усердную молитву.
Утомлённые дорогой, княгиня с детьми, священник, слуги – все уснули. Тишина опустилась на небольшой лагерь. И лишь князь Андрей Юрьевич оставался, преклонённый, перед иконой.
И вдруг, как свидетельствует «Житие благоверного князя», шатёр озарился неземным Божественным светом, и Сама Царица Небесная предстала перед Андреем Юрьевичем во всём своем ослепительном великолепии.
«Книга о Пресвятой Богородице» так передаёт нам священный образ Царицы Небесной:
«Она была роста мерного, немного выше среднего; цвет Её лица был как цвет зерна пшеничного; волосы у Неё были светло-русые и несколько златовидные; глаза ясные, взгляд проницательный, с зрачками как бы цвета маслины; брови немного наклонённые и довольно чёрные; нос продолговатый; уста, подобные цвету розы, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; руки и пальцы длинные». (Книга о Пресвятой Богородице. М.,Сретенский монастырь, 2000 г., с.172).
Пресвятая Богородица, как гласит предание, явилась князю Андрею Юрьевичу со свитком рукописи, по другим источникам, с хартией в руках и он услышал голос Её:
«Не хочу, чтобы ты нёс образ Мой в Ростов. Поставь его во Владимире, а на сём месте воздвигни церковь каменную Рождества Моего и устрой обитель инокам».
Произнеся эти слова, Пресвятая Богородица молитвенно подняла руки, и князь Андрей Юрьевич увидел Христа Спасителя, благословение которого приняла Царица Небесная. Спаситель благословил священное деяние Своей Матери, и видение исчезло.
Князь Андрей Юрьевич застыл поражённый. Он был, отчасти, прежним, но уже и другим, ведь не случайно в руках Царицы Небесной был свиток рукописи. В некоторых источниках, как уже упоминалось, свиток именуют хартией. Хартия же, по трактовке автора «Словаря Русского Языка» С.И. Ожегова, документ важного общественно-политического значения. Тем не менее, почти никто из историков не обратил на упоминание летописцами о хартии в руках Пресвятой Богородицы, полагая, видимо, такую деталь незначащей.
Но ничего случайного и незначащего в токе событий прошлого не бывает, а тем более их не бывает в событиях священных, событиях высшего порядка. В момент Явления и Откровения Пресвятой Богородицы свиток не материализовался. Он исчез вместе с Царицей Небесной. Но, можно полагать, что содержание этого свитка материализовалось в великих делах благоверного князя Андрея Юрьевича, совершённых им во благо единства и могущества Русской Земли.
Почему же избран был для милости Божией именно князь Андрей Юрьевич, сын Юрия Долгорукова, почему именно он был удостоен Явления и Откровения Пресвятой Богородицы?
Ответ надо искать в жизни и деятельности князя до того священного момента, в его вере, в его воспитании, в его душевных и духовных качествах, в его характере, в его отношении к людям, в мудрости, в мужестве и отваге, которыми он отличался среди современников.
Всё это прекрасно знала Евдокия Дмитриевна, знала она и о том, как почитал первый русский Самодержавный Государь (не по имени, но по существу) Андрей Боголюбский, знала, что икону эту он брал с собой во многие военные походы и в весьма опасный и важный поход.
Александр Нечволодов писал об этом: «Князь построил здесь (на месте Явления и Откровения Пресвятой Богородицы – Н.Ш.) каменную церковь и монастырь, обнеся всё место каменными стенами; скоро новое селение сделалось городом и любимым местом пребывания князя Андрея Юрьевича», который дал ему название Боголюбово, отчего и сам был наречён Боголюбским. Он часто говаривал, что Пресвятая Богородица возлюбила это место.
«Икону же он, – читаем далее у Александра Нечволодова, – поставил во Владимире и украсил её с таким богатством, которое почиталось дивным для его времени… Вера в непрестанную Заступницу и Помощницу молящихся людей распространилась по всей Суздальской Земле, чему особенно способствовали многие чудесные события».
Впоследствии же икона стала называться Владимирской и явилась главной святыней Русской Земли, благодаря помощи, неоднократно явленной через неё России и Русскому народу в годины тяжёлых испытаний.
Чтобы увековечить Явление и Откровение Пресвятой Богородицы, Андрей Боголюбский поручил написать икону, на которой отразить события 17 июля 1155 года. Она стала именоваться «Боголюбской».
Когда строительство церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Боголюбове было завершено, князь приказал поместить там Боголюбскую икону Божией Матери и установил ежегодное празднование в честь Явления Пресвятой Богородицы, которое утвердилось в Русской Православной Церкви.
Святитель Иоанн Ладожский отметил:
«На Великокняжеском столе Андрей вёл себя не как старший родич, но как полновластный Государь, дающий ответ в своих попечениях о стране и народе единому Богу. Его княжение было ознаменовано многочисленными чудесами, память о которых доселе сохраняется Церковью в празднестве Всемилостивому Спасу 1(14) августа, благословившему князя на его Державное служение.
Сам праздник был установлен после того, как, победив в 1164 году восточных камских болгар, князь, молившийся по окончании сражения, видел чудесный свет, осиявший всё войско, исходивший от Животворящего Креста Господня. В тот же день видел свет от Креста Господня и греческий император Мануил, одержавший победу над сарацинами. В память об этих событиях оба Государя и согласились установить церковный праздник.
Тогда же, в 1164 году, был установлен и праздник в честь Покрова Божией Матери, ставший любимым церковным праздником Русского Народа 1(14) октября».
Покров есть праздник национального торжества, великой радости принятия Пресвятой Богородицею под Свой Омофор Святой Руси.
Спустя год Андрей Боголюбский построил знаменитый храм «Покрова на Нерли» – первый из храмов, посвящённых празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Этот храм был сооружён как «приношение похвал Богу за победу над врагами и прославление Богоматери, принявшей под Свой Покров Русь Православную».
Само же празднование Покрова Пресвятой Богородицы совершается в память события, происшедшего в Х веке.
Вот как описано оно в «Букваре: начала познания вещей Божественных и человеческих»: «Матерь Божия со святыми на воздухе молилась за город и затем сняла с Себя блиставшее наподобие молнии покрывало, которое носила на главе Своей и, держа его с великой торжественностью Своими Пречистыми руками, распростёрла над всем стоящим народом. И до тех пор пока Пресвятая Богородица пребывала там, видимо было и покрывало. По отшествии же Её, сделалось и оно невидимо, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать бывшим там. Греки ободрились и сарацины, осаждавшие город, были отражены».
Учреждение праздников и возведение храма «Покрова на Нерли» имели колоссальное значение для Русской Земли. Недаром храм этот в устье реки Нерли при впадении её в Клязьму строился всенародно. В «Букваре…» говорится: «По воле князя Андрея из привозимого белого камня для строительства Успенского собора во Владимире откладывалась десятая часть для Покровской Церкви. Здесь зодчие и мастера сделали булыжное основание искусственного холма, поверхность его облицевали белокаменными плитами. Варвары Батыя не тронули храма, и ежегодный разлив двух рек в течение 7 веков не подмывал основание его. Были некоторые попытки разорить, разрушить этот храм – шедевр мировой архитектуры, но сила Божия сохранила его и поныне».
Андрея Боголюбский стал первым из Русских Государей, кто всерьёз озаботился о сотворении на Руси «симфонии двух властей» – гармоничного сочетания власти светской и власти церковной. Для этого он счёл необходимым учредить митрополию Северо-Восточной Руси.
Евдокия Дмитриевна знала, что именно с момента учреждения Праздника Покрова Пресвятой Богородицы Русская Земля находится под Святым Покровом Царицы Небесной.
Вставай же, Русь ! Уж близок час !
Будущее России!.. Оно волнует каждого. Оно не может не волновать. Как заглянуть за горизонт времени? Как узнать, что там, впереди, в загадочном и таинственном завтра? Мы долго шли к горизонту коммунизма, а пришли в звериный капитализм... Всем известно, что горизонт — это линия, которая удаляется по мере приближения к ней, и заглянуть за горизонт времени дано далеко не каждому, это дано святым праведникам Земли Русской, это дано и людям, которых мы называем поэтами. Но дано это только очень немногим поэтам.
В заглавии не случайно использована, строчка из стихотворения Федора Ивановича Тютчева, величайшего поэта, величайшего дипломата, величайшего патриота и величайшего пророка! В 1849 году, более полутора столетий назад Ф.И. Тютчев писал: ... Еще молчат колокола, А уж Восток заря румянит, Ночь бесконечная прошла, И скоро светлый день настанет! Вставай же, Русь! Уж близок час! Вставай Христовой службы ради Уж не пора ль, перекрестясь, Ударить в колокол в Царьграде? Раздайся, благовестный звон, И весь Восток им огласися! Тебя зовет и будит он, — Вставай, мужайся, ополчися! В доспехи веры грудь одень, И с Богом, Исполин Державный! О Русь! Велик грядущий день, Вселенский день и Православный! Что это? Точный расчет дипломата, определившего соотношение сил в Европе? Нет... Тютчев точно знал, что готовит Запад России, знал о том, что собираются темные силы для удара по Русской державе и знал, что его доклады Государю-императору не доходят до цели, ибо канцлер Нессельроде, холуй тех самых темных сил, умышленно вводит в заблуждение Николая Первого относительно планов Запада. Впереди была Крымская война... Тютчев писал не о том ближайшем для себя времени, Тютчев писал это нам, далеким своим потомкам, о временах, нам предстоящих. И как удивительно похожи пророческие строки его стихотворений с прорицаниями святого преподобного Серафима Саровского: "Россия претерпит много бед и ценой великих страданий обретет великую славу. Она объединит православных славян в одну великую державу, страшную для врагов Христовых... Самая большая кровь будет не тогда, когда остаток русских людей восстанет за Царя и победит, но тогда, когда будут казнить всех предателей России. Соединенными силами России и других, Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией..." На первый взгляд может показаться, что это мистика какая-то. Что ж, недалеко от истины. Выдающийся русский мыслитель Николай Иванович Черняев на рубеже XIX—XX веков писал: "Все, все великое, священное земли имеет мистическую сторону". И касаясь поэзии величайшего нашего поэта-пророка Александра Сергеевича Пушкина, отмечал: "Пушкин в целом ряде стихотворений выразил удивление перед творческой силой, орудием которой себя считал. Называя вдохновение священной жертвой, а себя Избранником Неба, он прибегал не к риторическим прикрасам, а выражал свое убеждение. Творчество представлялось Пушкину чем-то мистическим". Пророчества Пушкина совпадают с пророчествами и о. Серафима Саровского, и поэта-пророка Тютчева: век будет веком сияния Руси! (См. "Иван Грозный, Иосиф Сталин и Опричнина в свете пушкинских пророчеств о судьбе России". Альманах. Эпоха Путина. №1 за 2002 г.) О том же говорил Государю-Императору Павлу в конце XVIII века вещий Авель-прорицатель: "Россия очистится от ига безбожного и на Софии, в Царьграде, вновь воссияет Крест Православный. И Царьград снова станет русским городом. Россия вновь станет Великою Страною и расцветет, аки крин небесный". Откуда это? Откуда такие совпадения? Ответ мы найдем у Федора Ивановича Тютчева: Не гул молвы прошел в народе, Весть родилась не в нашем роде — То древний глас, то свыше глас: "Четвертый век уж на исходе, — Свершится он и грянет час! И своды древние Софии, В возобновленной Византии, Вновь осинят Христов алтарь". Пади пред ним, о, Царь России, — И встань, как Всеславянский Царь! Сегодня, когда Россия еще лежит в руинах после десятилетней губительной ельциниады, все это может показаться фантастическим. Ведь на Западе давно уже потирают руки. З. Бжезинский ликует: "Россия — побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить "это была не Россия, а Советский Союз", — значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Россия будет раздробленной и под опекой". Г. Киссинджер: "Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, централизованное государство". Д. Мейджер: "... задача России после проигрыша холодной войны — обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят-шестьдесят миллионов человек". Теперь тебе понятно, дорогой читатель, почему Верховный Главнокомандующий Президент Владимир Владимирович Путин, выступая перед концертом, посвященном Дню Защитника отечества 22 февраля 2001 года, сказал, что у России очень простая альтернатива: либо Россия будет сильной, либо ее не будет вовсе, во всяком случае в виде суверенного государства. Что следует из этого? Да то, что мы будем рабами! Этого хотят западные политики, но это не соответствует Промыслу Господнему в отношении России, испившей горькую чашу за предательство Православия и Самодержавия. А ведь еще в середине XIX века знаменитый в то время епископ Иоанн (Соколов) Смоленский (1818—1869) предрекал: "Помни, Россия, что в тот день, когда ты посягнешь на свою Веру, ты посягнешь на свою жизнь!" К этому необходимо прибавить и слова Архимандрита Константина (Зайцева): "... Не Господь лишил русский народ его благодатной избранности, а русский народ, оказавшись жертвой соблазна, сам, своевольно, изменил своему промыслительному назначению". Вот и претерпела Россия много бед, о чем предупреждали и о. Серафим Саровский и Авель-прорицатель. Те пророчества, которым суждено было сбыться по времени, уже сбылись. Сбудутся и те, время которых на подходе. И напрасно потирают руки на Западе враги России. Пушкин точно подметил, что "Европа по отношению к России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна". В популярной ныне книге "Россия перед вторым пришествием" помещены беседы современного святого старца (сентябрь 1990). Вот только несколько строк из них: "Приблизились последние дни Запада, его богатства, его разврата. Внезапно постигнут его бедствия и пагуба. Богатство его неправедное, злое, угнетает весь мир... Горе сынам и дочерям Запада и Вавилона его! Горе возлюбившим Вавилон Запада и роскошь его (отк. 18, 3) и высоту его на краю Запада, небоскребы его! Горе надеющимся на Вавилон и мыслившим овладеть миром посредством его! В один час придет Суд на него и погибель его, — только дым от него будет до неба! Надеявшиеся на Запад и отдавшие душу ему останутся безо всего... Надменность и злорадство Запада о бедствиях в России сейчас обратятся еще большим гневом Божиим на Запад. После "перестройки" в России начнется "перестройка" на Западе, и там откроется невиданный раздор, междуусобицы, моры, голод, людоедство, невиданные ужасы накопленного в душах зла и разврата. Господь даст им жать то, что сеяли много веков и чем угнетали и развратили весь мир. И поднимется на них все злодейство их. Россия выдержала свое искушение, ибо имела в себе мученическую Веру и Милость Бога и Избрание Его. А Запад этого не имеет и потому не выдержит..." Последние события, известные всем, свидетельствуют о начале Суда Божиего над Западом над "небоскребами" его. И по словам Тютчева: Свершается заслуженная кара За тяжких грех, тысячелетний грех... Не отвратить, не избежать удара И Правда Божья видима для всех... То Божьей Правды Праведная кара, И, Ей в отпор чью помощь не зови, Свершится суд... Г. Киссинджер предпочитает как он выражается хаос в России, тенденции объединения. Да и не он один выступает против Предначертанного свыше. Еще далекие наши предки в книге Велеса говорили: "Предречено в старые времена, что мы должны объединиться, создавая силу великую". А единение и братство светлых сил угодно Создателю. То, что произошло с нашей Державой предрекали не только святые пророки, это предрекал и Сталин в беседе с Александрой Коллонтай в 1939 году: "Сила СССР в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России... С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций... И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего Социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом... В апреле 1945 года И. Сталин после подписания договора о дружбе между Югославией и СССР сказал И. Тито: Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнет. Пальцем не шевельнет! — повторил он, резко рассекая воздух указательным пальцем... — нужно единство славян! Но впереди были и распад Варшавского договора, предательства славянских государств, впереди было еще более ужасное беловежское предательство. Да, России выпало испытать сполна всю боль утрат и поражений на международной арене. Но... Это ведь все было предсказано, как предсказано и другое — Величие России, Сияние Руси, объединяющей весь славянский мир. Снова пришла пора обратиться к пророчеству о. Серафима Саровского: "Антихристианство.., развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле и отчасти Православия и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный народный океан, перед которым будут в страхе все прочие племена Земли. И это верно как 2x2=4". И к этому надо добавить, что Серафим Саровский заявил твердо и предельно ясно, что он никогда "ниже слова единого от себя не сказал... против воли Царицы Небесной". Вдумайтесь в эти слова Православные читатели. Не верить святому старцу, значит не быть Православным. Мы уже становимся свидетелями того, как предрассветная мгла над Державою Русскою тает. Два высших Верховных руководителя двух великих братских республик, два Православных руководителя Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко протянули друг другу руку дружбы, выполняя чаяния своих народов, насильственно разобщенных слугами антихристовыми. Свершилось великое начало Великого объединения по Промыслу Божьему. И то, что укрепление этого союза подвергается отчаянному и поистине сатанинскому противодействию, не удивительно. Промыслу Божьему всегда противодействуют силы антихристовы, но они способны добиться лишь временных успехов и самим Создателем обречены на поражение. Победа за Правдой, победа за Православием, победа за Православным Верховным руководителем. Архимандрит Тихон (Шевкунов) в интервью афинской газете "Страна" сказал о Верховном руководителе России: "Владимир Владимирович Путин — действительно Православный христианин, и не номинально только, а человек, который исповедуется, причащается и сознает свою ответственность перед Богом за вверенное ему служение и за свою бессмертную душу". И не случайно, за весь период времени после Сталина только по отношению к В.В. Путину, пусть пока еще редко, пусть пока еще робко, но применяется слово Верховный Главнокомандующий, "Верховный". Мы помним, что иные руководители державы страстно хотели этого, даже увешивали себя всеми возможными и не возможными регалиями, что вызывало только насмешки в народе. Ныне все иначе... Николай Черняев писал: "В России Верховная власть есть синоним Самодержавной власти Императора Всероссийского. Поэтому у нас эпитет "Верховный", может, строго говоря, употребляться только тогда, когда дело идет о прерогативах Императорского Величества". Сталин был Верховным... Это слово принадлежало ему по праву. Сталин был Самодержавным правителем не по имени, но по существу. И дело вовсе не в эпитете. По словам Иосифа Волоцкого "Власть Русского Царя в отличие от западного абсолютизма ограничена условием служения Богу!" Только такому Верховному правителю призывал повиноваться Преподобный. Россия — особая страна. Россия — Дом Пресвятой Богородицы, Россия — Подножие Престола Божьего на Земле. И только к России применим эпитет — Держава, только в России было Самодержавие, в Остальных странах — только монархии. В России только тот Верховный правитель может быть почитаем и любим, который в деяниях своих, говоря словами публициста П. Смолина "ограничен содержанием своего идеала, следование которому полагается царским долгом". Монарх по названию может и не быть монархом по существу, на что указывал еще Иван Грозный в переписке с изменником Курбским. В России Верховный правитель может быть Православным Самодержцем не по названию, но по существу, если в деяниях своих во имя России и народа Русской Державы будет ограничен "условием служения Богу" и своей Православной совестью, основанными не на номинальной, а на истиной Православной Вере. ДВЕ ТРАГЕДИИ И… ДРАМА ТЮТЧЕВА В ЛЮБВИ (1803-1873) «Тебя ж, как первую любовь» Истоки необыкновенного «жизнелюбия» человека мы можем найти в детстве. В данном случае, под жизнелюбием я подразумеваю влюбчивость, даже в какой-то мере, страсть к амурным приключениям. Ещё в советские времена, в войсках, мы называли жизнелюбами больших любителей неформальных общений с представительницами прекрасного пола. Это определение относилась к обычным, нетворческим натурам. Ну а натуры творческие живут по своим правилам, которые продиктованы им необыкновенными качествами, заставляющими творить. Но почему вдруг такая преамбула в материале о Тютчеве, его любовных трагедиях и драмах? Да потому что и он, подобно Тургеневе, испытал в детстве первые, ещё отроческие переживания, связанные с насильственным разлучением с предметом его первой любви. Когда родители – или не родители, в просто обстоятельства – лишают возможности влюблённых быть вместе, часто происходит так, что уже ни один из влюблённых не может построить в дальнейшем тот союз, который бы мог построить, сложись его первая любовь. Это одинаково можно отнести ко многим российским писателям – это можно отнести к Тургеневу, Бунину – это целиком касается и Тютчева. Тютчев нам известен с ранней поры – он нам известен как непревзойдённый лирик. Кто ещё с такой любовью мог описать природу родного края!? Но он известен и как великий патриот, до боли сердечной влюблённый в Россию. Вспомним хотя бы самое известное… Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать – В Россию можно только верить. Или короткое четверостишье, которое он назвал «Спиритическим предсказанием»: Дни настают борьбы и торжества, Достигнет Русь завещанных границ, И будет старая Москва Новейшею из трёх её столиц. Или стихотворение «Рассвет», тоже пророческое: Ещё молчат колокола, А уж восток заря румянит; Ночь бесконечная прошла, И скоро светлый день настанет. Вставай же, Русь! Уж близок час! Вставай Христовой службы ради! Уж не пора ль, перекрестясь, Ударить в колокол в Царьграде? Раздайся благовестный звон, И весь Восток им огласися! Тебя зовёт и будит он, – Вставай, мужайся, ополчися! В доспехи веры грудь одень, И с Богом, исполин державный!.. О Русь, велик грядущий день, Вселенский день и православный! Фёдора Ивановича Тютчева вполне заслуженно называли «поэтом-пророком»! И вдруг выясняется, что этот добросовестнейший работник Коллегии иностранных дел, этот поэт, прославлявший доблесть, честь, мужество и славу, был трижды женат и, мало того, не упускал случая завести любовный роман, когда случалось встретить достойный, по его мнению, предмет обожания. Причём от первой жены ушёл ко второй просто, без каких либо объяснений и пояснений, как обычно уходят, к примеру, на службу. Ещё не расставшись со второй женой и, представьте, продолжая её любить, он сделал стремительные движения навстречу новой любви, навстречу новой избранницы. Ну а о связях, которые не оканчивались браками, мы и говорить не будем. Так что же это? Во времена оные за такое поведение, назвав его распущенностью, вызвали бы на партком и пропесочили по первое число. Но при Тютчеве парткомов не было. Однако были общество и общественное мнение… Общество не простило Тютчеву его третий брак, ну а то, что он – величайший поэт России – вызывало лишь ещё больший гнев и ещё более дерзкие на него нападки. Так кто же прав? И действительно ли Тютчев был ловеласом, донжуаном, словом, мог соответствовать многим подобным эпитетом, которым награждали общественные ревнители благочестия. Давайте послушаем, что говорил о нём сын, Фёдор Фёдорович Тютчев, ставший, между прочим, великолепным русским военным писателем. Судьба сына великого поэта достойна того, чтобы стать предметом отдельного исследования. Фёдор Фёдорович Тютчев, сын поэта и его избранницы Елены Александровны Денисьевой, всю жизнь свою посвятил Отечеству. Он служил в пограничной страже, воевал на фронтах Первой мировой войны, дослужился до чина полковника и умер от ран в госпитале в 1916 году. Об отце, точнее об амурных увлечениях отца, он вспоминал так: «Фёдор Иванович, всю жизнь свою, до последних дней увлекавшийся женщинами, имевший среди них почти сказочный успех, никогда не был тем, что мы называем развратником, донжуаном, ловеласом. Ничего подобного. В его отношениях не было и тени какой-либо грязи, чего-нибудь низменного, недостойного. В свои отношения к женщинам он вносил такую массу поэзии, такую тонкую деликатность чувств, такую мягкость, что походил больше на жреца, преклоняющегося перед своим кумиром, чем на счастливого обладателя». Он мог написать жене, причём жене, уже бывшей, в разгар своей новой любви: «Ты – самое лучшее из всего, что известно мне в мире»? А как же новая любовь? И она существовала с той, что отмерла официально, но оставалась в сердце. Любовь – Божественный дар, Любовь, как образ вечный, Любовь и красота спасут мир. Мы привыкли к этим фразам и часто повторяем их, не вдумываясь в глубочайший смысл сказанного. Юношам и девушкам, порою, родители дают «умные» советы: «Ты не люби эту, а люби – ту» или: «Ты не люби этого, а люби того». Дают советы, совершенно забывая свою молодость¸ забывая то, что нельзя любить по заказу, невозможно назначить себе одну любовь и запретить – опять же самому себе – любовь другую. Вот такую «невозможность» насилия над собой, над своим сердцем, над своей душой сполна испытал Фёдор Иванович Тютчев. Один из биографов поэта написал: «В двух случаях из трёх семейная жизнь Тютчева была трагедией и один раз – драмой». Это заявление – уже загадка. Но ещё большая загадка – любовь Тютчева в зрелом возрасте одновременно к двум женщинам – к Эрнестина Фёдоровне Пфеффель и к Елене Александровне Денисьевой… Да, именно Любовь – не увлечение, не влюблённость, а большая любовь до боли сердечной. Строки, приведённые выше, адресованы поэтом именно Эрнестине. А может ли быть такое? И почему биографы называют то, что столь сильно вдохновило поэта, что, несомненно, дало неиссякаемые силы его творчеству, не иначе как трагедией или драмой? И где же разгадка любвеобильности? Поэт словно спешил, словно опасался, что у него отнимут предмет или даже предметы его страстной влюблённости, его любви. Часто такие истоки можно найти в юности, когда в пору самых искренних и незамутнённых чувств возникают преграды, зачастую созданные лишь обычаями, а на деле являющиеся виртуальными. Считается, что первое поэтическое посвящение Тютчева адресовано Амалии Лерхенфельд (в замужестве Крюденер). Вот это стихотворение: Я помню время золотое, Я помню сердцу милый край. День вечерел; мы были двое; Внизу, в тени, шумел Дунай. И на холму, там, где, белея, Руина замка вдаль глядит, Стояла ты, младая фея, На мшистый опершись гранит, Ногой младенческой касаясь Обломков груды вековой; И солнце медлило, прощаясь С холмом, и замком, и тобой. И ветер тихий мимолетом Твоей одеждою играл И с диких яблонь цвет за цветом На плечи юные свевал. Ты беззаботно вдаль глядела... Край неба дымно гас в лучах; День догорал; звучнее пела Река в померкших берегах. И ты с веселостью беспечной Счастливый провожала день; И сладко жизни быстротечной Над нами пролетала тень. Но ведь и самое последнее в его жизни стихотворение, не просто посвящение, а посвящение, ставшее знаменитым и положенное на музыку, посвящено тоже прекрасной Амалии. Но этого мы коснёмся в конце очерка. А пока попробуем разобраться, не таится ли за первым посвящением то нежное, непорочное, незамутнённое чувство, которое мы называем первою любовью? Нет, первая любовь пришла, к тогда ещё будущему поэту Фёдору Тютчеву гораздо раньше. Это случилось, когда он жил в Москве, в родительском гнезде, в Армянском переулке, доме номер 11 и учился в Московском университете. Родился же он в дивном краю, давшем России немало величайших мастеров русской словесности – писателей и поэтов. В краю Тургенева, Бунина, Льва Толстого, Никитина, Лескова… В благодатном краю Черноземья впервые взглянул на Свет Божий и Фёдор Иванович Тютчев. Это случилось в родовой усадьбе Овстуг Орловской губернии 5 декабря 1803 года. Образование получил домашнее, которое благодаря подбору учителей, стало поистине первоклассным. Особенно увлекли латынь и древнеримская поэзия. Возможно, именно они подтолкнули к первым опытам поэтического творчества. Тринадцатилетним мальчишкой он сделал перевод нескольких од Горация. Ну а затем был переезд в Москву и поступление в 1817 году в Московский университет на Словесное отделение, правда, сначала лишь вольнослушателем. В ноябре 1818 года он стал студентом, а в 1819 году был избран членом Общества любителей российской словесности. То есть в свои шестнадцать лет юноша уже заявил о себе как человек, не лишённый поэтического дара. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в него была без памяти влюблена дворовая девушка Катюша Кругликова. Вот тогда юного Тютчева и озарила первая любовь? Вспомним широко известное стихотворение: Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!.. Оно написано на смерть Александра Сергеевича Пушкина, но многих биографов занимал вопрос, кого же имел в виду поэт, приводя словосочетание «как первую любовь». Россия никогда не забудет Пушкина, как не забыло и не забудет сердце Тютчева свою первую любовь. К сожалению, почти ничего не известно о той первой любви поэта и о тех отношениях с возлюбленной, которые круто изменили его судьбу. Мать не приняла эту любовь. Здесь нет ничего удивительного, ведь в России действовали строгие сословные правила, с которыми, кстати, Тютчеву пришлось столкнуться и в годы молодые, когда он впервые сделал предложение своей любимой Амалии, и в зрелые годы, когда озарила его далеко уже не первая, но не менее яркая любовь к Елене Денисьевой. В зрелые годы человек любит иначе, но если не утеряны пылкость души и жар сердца, даже холодные рассудок не способен сделать чувства менее яркими и сильными. Что же касается первой любви, то в стихотворениях Тютчева мы не находим следа тех юношеских переживаний, причиной которых стала разлука с Катенькой Кругликовой. Но разве не говорит о них пусть всего лишь одна строка, но строка из знакового стихотворения, посвящённого трагически-печальному событию – гибели Пушкина от рук западно-европейского злодея, уже тогда поражённого угаром столько популярных ныне «гейропейских» ценностей. Мать Фёдора Ивановича, ради того, чтобы разрушить отношения между молодыми людьми, которые зашли, по её мнению, слишком далеко, добилась разрешение на досрочный выпуск из университета и отправила его в том 1922 году на службу в Коллегию иностранных дел, которая находилась в Петербурге. Тогда сообщение между двумя столицами было значительно сложнее, нежели ныне, и, конечно, Тютчев уже не мог видеться с предметом своего увлечения. Это случилось весной, а летом граф Александр Иванович Остерман-Толстой, родственник матери, происходившей из знаменитого рода Толстых, взял Федора с собою в Мюнхен, где устроил при русской миссии. Вот и ответ на ещё один вопрос, несомненно, волнующий почитателей Тютчева. Почему поэт, которого мы знаем, как истинного патриота, как человека «до боли сердечной» любящего России, посвятившего ей немало сильнейших в том числе и пророческих стихотворения, был женат в первый и второй раз на немках? И каким образом ему удалось сохранить «на чужбине» эту «до боли сердечной» любовь ко всему русскому, к России? Много лет спустя он писал: «Судьбе угодно было вооружиться последней рукой Толстого (А.И. Остерман-Толстой потерял руку в битве при Кульме), чтоб переселить меня на чужбину». Почему граф вооружился, по словам Тютчева, «последней рукой»? Герой Отечественной войны 1812 года Александр Иванович Остерман-Толстой потерял руку в сражении под городом Кульмом в Богемии 29 – 30 августа, в котором русско-прусско-австрийские войска разгромили французский корпус генерала Вандама. В первый день этого сражения русская гвардия под командованием генерала графа Остермана-Толстого оказалась на направлении главного удара французов. Мужество войск и умелое командование графа не позволили врагу добиться успеха. Все атаки были отбиты, и на второй день французы, попав в окружение, предпочли сдачу в плен гибели на поле боя. Александр Иванович Остерман-Толстой оказал значительное влияние на молодого Тютчева – у него будущий поэт и патриот учился великой науке любви к России. Отношение же ко всему русскому и России самого графа широко известно. Однажды он сказал офицеру-иноземцу, пробившемуся на службу в Русской армии ради «службы и чинов»: – Для вас Россия – мундир ваш. Вы его надели и снимите, когда угодно. Для меня Россия – кожа моя!» Во время Отечественной войны 1812 года он командовал 4-м пехотным корпусом в 1-й Западной армии Барклая-де-Толли, отличился под Островно и особенно при Бородино, где лично руководил схватками с врагом за знаменитую батарею Раевского. Несмотря на сильную контузию, уже через четыре дня вернулся в строй. Генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклай-де-Толли написал о нём в рапорте: «…Примером своим ободрял подчинённые ему войска так, что ни жестокий перекрёстный огонь неприятельской артиллерии, ни нападения неприятельской конницы не могли их поколебать, и удержали место своё до окончания сражения» В бою Граф под Островно, когда положение корпуса казалось критическим, граф проявил необыкновенное мужество, выдержку, хладнокровие. Фёдор Глинка в своих Записка отметил: «Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских. Трудно было перевозить наши пушки, заряды расстрелялись, они смолкли. Спрашивают графа: «Что делать?» «Ничего, – отвечает он, – стоять и умирать!» Поэт нарисовал такой портрет графа: «Это был мужчина сухощавый, с тёмными, несколько кудреватыми волосами, с орлиным носом, с тёмно-голубыми глазами, в которых мелькала задумчивость, чаще рассеянность. Осанка и приёмы обличали в нём человека высшей аристократии, но в одежде был он небрежен, лошадь имел простую. Он носил в сражении очки, в руке держал нагайку; бурка или шинель свешивалась с плеча его. Отвага не раз увлекала его за пределы всякого благоразумия. Часто, видя отстающего солдата, он замахивался нагайкою, солдат на него оглядывался, и что ж?.. Оказывалось, что он понукал вперед французского стрелка!.. Обманутый зрением, привычною рассеянностию, а еще более врождённою запальчивостию, он миновал своих и заезжал в линию стрелков французских, хозяйничая у неприятеля, как дома». Когда в бою под Кульмом ему ядром оторвало левую руку, граф сказал сочувствующим: «Быть раненому за Отечество весьма приятно, а что касается левой руки, то у меня остается правая, которая мне нужна для крестного знамения, знака веры в Бога, на коего полагаю всю мою надежду». Активный участник Бородинского сражения Александр Иванович Остерман-Толстой поддержал Кутузова на военном совете в Филях, понимая правильность решения по оставлению Москву ради спасения армии и последующего полного разгрома наполеоновской банды. Он сказал: – Москва не составляет России. Наша цель не в одном защищении столицы, но всего Отечества, а для спасения его главный предмет есть сохранение армии. Выросший в центре России, благодатном Черноземье, Фёдор Иванович Тютчев впитал всю силу неоглядных просторов Отечества и проникся любовью к родному краю, любовью, которую затем развили и приумножили добрые учителя и в первую очередь наставник – граф Александр Иванович. Жизнь к Европе не смогла изменить его характер, но вот встретить в качестве избранницы сердца свою соотечественницу за границей было практически невозможно. «Я помню время золотое…» Тютчеву, когда его привёз в Мюнхен граф Александр Иванович Остерман-Толстой, шёл девятнадцатый год – расцвет для юноши, пора любви, пора пробуждения души и сердца. Много лет спустя он писал родителям о первом своём заграничном увлечении: «После России это моя самая давняя любовь. Ей было четырнадцать лет, когда я увидел её впервые». Эти строки посвящены Амалии Лерхенфельд (Крюденер). Она родилась в 1808 году и была моложе Тютчева на пять лет. Родословная её по некоторым причинам особенно не афишировалась. В 1823 году Амалии Лерхенфельд было 15 лет, а Федору Тютчеву шёл год 20-й. По протекции графа Остермана-Толстого он был зачислен сверхштатным чиновником в русскую дипломатическую миссию, обосновавшуюся в Мюнхене – столице Королевства Бавария. Здесь он и увидел прекрасную Амалию. Увидел на балу, который давал её отец граф Лерхенфельд. Среди её поклонников был Генрих Гейне, с которым Тютчев впоследствии подружился. Гейне называл её Венерой и не просто Венерой, а Божественной. В один из прекрасных вечеров во время прогулки по яблоневому саду произошло объяснение между влюблёнными. Тютчев сделал предложение – Амалия согласилась. Счастье казалось так близко. Тому событию и посвящено стихотворение, приведённое выше: «Я помню время золотое…» Родители Амалии не приняли скромного, по их мнению, жениха, всего лишь служащего русской миссия – кто ж тогда мог предположить, что перед ними не только впоследствии успешный дипломат, но … поэт с мировым именем! Родители хотели для дочери более выгодного жениха. К тому же её мать лучше других знала, насколько оправданы слухи о том, что Амалия – незаконнорожденной дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III, что она – единокровная сестра Императрицы России Александры Федоровны. Родителям был по душе секретарь русского посольства барон Александр Крюденер. Было известно, что он влюблён в Амалию. Пришлось юной Амалии подчиниться родительской воле. Вот и первая, серьёзная драма. Это не разрыв с Катенькой Кругликовой, с которой связывала первая любовь, это крушение надежд на будущее – по крайней мере, так могло бы быть, если бы речь шла о рядовом человеке. Но перед нами гений Русской поэзии, перед нами Тютчев! Он снова окунался в свет ещё не окончательно потерявшей добропорядочное лицо Европы. Вот строки из письма Генриха Гейне одному из своих адресатов: «Знаете ли Вы дочерей графа Ботмера в Штутгарте, где Вы часто бывали? Одна уже не очень молодая, но бесконечно очаровательная, негласно замужняя за моим лучшим другом, молодым русским дипломатом Тютчевым, и её очень юная красавица-сестра, вот две дамы, с которыми я нахожусь в самых лучших и приятных отношениях». С сёстрами Ботмер был знаком не только Гейне – с ними связывали ещё более тесные узы Фёдора Тютчева. «Эти дни были так прекрасны…» Весной 1826 года Тютчев вернулся из России, где почти год пробыл в отпуске, и вскоре оказался в гостях в семье Ботмеров. Семья была большой – одиннадцать братьев и сестёр. Старшая сестра – Элеонора – уже успела побывать замужем за русским дипломатом и овдовела 6 октября 1825 года, оставшись с четырьмя маленькими сыновьями на руках. Более других помогала ей воспитывать малышей сестра Клотильда, которая была моложе на девять лет. Поначалу Тютчев более чем с другими сдружился именно с Клотильдой. Она была красива, начитана, интересовалась поэзией. Однажды она показала Тютчеву стихотворение «Трагедии с лирическим интермеццо»), начинавшееся словами: «Ein Fichtenbaum steht einsam...». Тема любви в поэзии волновала девушку. Но стихи тронули душу и Тютчева. Тоска влюблённых, оказавшихся в разлуке, звучала в них. На имя автора они не обратили внимание, а вот стихотворение обрело вторую жизнь, благодаря переводу, сделанному Тютчевым. Стиль был нетипичен для русской поэзии, тем не менее, Тютчев справился и с этой задачей. Получилось… Лишь потом Тютчев узнал, что стихотворение принадлежит перу Генриха Гейне. На севере мрачном, на дикой скале Кедр одинокий под снегом белеет, И сладко заснул он в инистой мгле, И сон его вьюга лелеет. Про юную пальму всё снится ему, Что в дальних пределах Востока, Под пламенным небом, на знойном холму Стоит и цветёт, одинока... Не напоминает ли оно нам стихотворение Лермонтова? На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна, И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растёт. Именно благодаря Клотильде Ботмер Тютчев познакомился не только со стихами Генриха Гейне, но и с ним самим. Стихотворение, переведённое им, вошло в русскую поэзию под названием «С чужой стороны». Ну и потом не раз переводилось русскими поэтами и переводчиками. Обратил на него внимание и Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну а что касается любовных дел, то и здесь возникли некоторые коллизии, которые, возможно, повлияли на дальнейшую судьбу поэта. Он ухаживал за Клотильдой, но её старшая сестра Элеонора тоже, как говорят, положила глаз на поэта. Могло возникнуть соперничество, но ведь Элеонора была старше, и ей важнее было выйти замуж, чтобы устроить жизнь свою и своих детей. Судя по дальнейшим событиям, Клотильда вынуждена была дать дорогу своей сестре, отступиться от возлюбленного, хотя разница в летах между ею и Тютчевым была гораздо более перспективной. Елеонора была старше Тютчева на три года. Венчались Фёдор Иванович и Элеонора лишь в 1829 году, хотя объявили себя мужем и женой значительно раньше. Переживала ли Клотильда? Конечно, переживала. Что же касается Тютчева, то он не раз посвящал ей стихи, хотя и делал это не слишком явно и заметно для окружающих. В те годы Тютчев познакомился и подружился с Генрихом Гейне. Случилось это в 1829 году. Тогда же Гейне, которому уже перевалило за тридцать, влюбился в Клотильду. И эта его любовь дала цикл стихотворений «Новая весна». Я вновь мучительно оторван От сердца горячо любимой. Я вновь мучительно оторван, О, жизни бег неумолимый! Грохочет мост, гремит карета, Угрюмо ропщет вал незримый... Оторван вновь от счастья, света, От сердца горячо любимой. А Звёзды мчатся в тёмном небе, Бегут, моей пугаясь муки... Прости! Куда ни бросит жребий, Тебе я верен и в разлуке. Клотильда же, увлечённая Тютчевы, с трудом отходила от этого увлечения, и не могла ответить Генриху Гейне на его чувства. Быть может, это случилось бы, если б хватило времени. Но Гейне был стремителен и порывист, он постоянно куда-то спешил. И так и не влюбив в себя прекрасную Клотильду, уехал во Флоренцию. На долгие годы, может быть, на всю жизнь, сохранила Клотильда свою любовь к блистательному русскому поэту. Тютчев прожил с её старшей сестрой 12 лет, и Клотильда всегда была рядом с ними, помогала в воспитании детей. Позднее, в 1846 году, Тютчев написал дочери Анне, которой к тому времени исполнилось семнадцать лет: «Первые годы твоей жизни, дочь моя, которые ты едва припоминаешь, были для меня годами, исполненными самых пылких чувств. Я провёл их с твоей матерью и Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда. Однако дни эти оказались так быстротечны, и с ними всё исчезло безвозвратно». Клотильда была очень мила. У неё было много поклонников, её звали замуж… Даже сослуживец Тютчева, сотрудник русской миссии делал ей предложение. Но она всё на что-то надеялась. Всё ждала. Но когда её старшая сестра ушла из жизни, Тютчев женился на Эрнестине Пфеффель. И тогда лишь Клотильда решила выйти замуж. «Ты… самое лучшее из всего, что известно мне в мире…» У воспитанницы парижского пансиона Эрнестины Пфеффель было нелёгкое детство. Мать рано умерла и отец барон Христиан фон Пфеффель, баварский дипломат, женился на гувернантке, женщине жестокосердной. Прежде она была гувернанткой Эрнестины и её брата Карла. Ну а, сделавшись мачехой, издавалась над ними, настолько, что дети хотели бежать из дому. Эрнестина выполнила задуманное, но иным способом. Она рано вышла замуж, едва ей сделали предложение. Брак оказался недолгим. Муж барон Дернберг умер через три года после свадьбы. Тютчев полюбил Эрнестину, и она ответила ему сильными чувствами, помноженными на уважение к нему как мыслителю, а со временем и на восторг от его поэтических произведений – она даже специально выучила русский язык, причём, настолько, чтобы понимать и чувствовать поэзию. Разумеется, прежде всего, поэтические произведения Тютчева. Об отношениях, которык сложились у Тютчева с Эрнестиной, свидетельствуют стихи: Люблю глаза твои, мой друг, С игрой их пламенно-чудесной, Когда их приподымешь вдруг И, словно молнией небесной, Окинешь бегло целый круг... Но есть сильней очарованья: Глаза, потупленные ниц В минуты страстного лобзанья, И сквозь опущенных ресниц Угрюмый, тусклый огнь желанья. (1836г) 17 июня 1839 года Тютчев и Эрнестина обвенчались. Приняв православную веру, она стала Фёдоровной. Тютчеву исполнилось тридцать пять с половиной лет, Эрнестине – двадцать девять. Тютчев был безмерно счастлив, о чём писал родителям в конце 1839 года: «…не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом. Я не буду говорить вам про её любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы её чрезмерной. Но чем я не могу достаточно нахвалиться, это её нежностью к детям и заботой о них, за что не знаю, как и благодарить её. Утрата, понесённая ими, для них почти возмещена… Две недели спустя дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери». Эрнестина отдавала детям то, что сама не получила в детстве от жестокой мачехи. Дочери Тютчева Анна, Дарья, Екатерина души в ней не чаяли. Были у Тютчева и совместные с Эрнестиной дети – в 1840-м родилась дочь Мария, в 1841-м сын Дмитрий. В 1844 году Тютчев с женой и детьми возвратился в Россию. В 1846 году у них с Эрнестиной появился ещё один сын – Иван. Семейная жизнь была под угрозой, но об этом они ещё не знали. Тютчев был влюбчивым. Эрнестина переживала это, но терпела, сколь могла. К.В. Пигарев, биограф поэта и его потомок писал: «Он не был однолюбом. Подобно тому, как раньше любовь к первой жене жила в нём рядом со страстной влюблённостью в Эрнестину Дернберг, так теперь привязанность к ней, его второй жене, совмещалась с любовью к Денисьевой, и это вносило в его отношения к обеим женщинам мучительную раздвоенность». А вот ещё одно свидетельство, теперь уже сына поэта: «Брак этот, заключённый опять-таки же по страстной любви, не был, однако, особенно счастливым, и у молодой женщины очень скоро появились соперницы, а через одиннадцать лет после свадьбы Федор Иванович совершенно охладел к ней, отдав всего себя, всю свою душу и сердце новой привязанности…» Эрнестина очень переживала это. Ещё за рубежом она узнала о связи мужа с Гортензией Лапп. Та родила ему двух сыновей. Кстати, когда Тютчев умер, Эрнестина оставила пенсию на детей Гортензии… Тютчев дорожил свободой… Он отправил Эрнестину с младшими детьми в Овстуг, где они жили почти безвылазно. Разве что иногда отправлялись в Германию к родственникам. Тютчев навещал их часто, но приезжал буквально на несколько дней. Эрнестине же писал удивительные письма, причём они были нежными и ласковыми даже тогда, когда его озарял новый роман. «С твоим исчезновением моя жизнь лишается всякой последовательности, всякой связности… Нет на свете существа умнее тебя. Сейчас я слишком хорошо это сознаю… Ты… самое лучшее из всего, что известно мне в мире…» Или вот 21 августа 1851 года: «Ах, насколько ты лучше меня, насколько выше! Сколько выдержанности, сколько серьёзности в твоей любви – и каким мелким, каким жалким я чувствую себя сравнительно с тобою...» Тютчев писал жене эти удивительные письма, хотя уже год любил Елену Денисьеву! Современники отмечали разительное отличие Эрнестины Пфеффель от Елены Денисьевой. Говорили даже, что они такие же разные, как скажем, Европа и Россия... Быть может, потому и любил их Тютчев, каждую по-особому. Он сам признавался, что в Эрнестине его привлекали «выдержанность» и «серьёзность». Ну а Елена Денисьева была совершенно иной. Муж сестры Елены Александр Иванович Георгиевский вспоминал «об её страстном и увлекающемся характере и нередко ужасных его проявлениях, которые, однако же не приводили его в ужас, а напротив, ему очень нравились как доказательство её безграничной, хотя и безумной, к нему любви...». Тютчев признал, что он несёт в себе, как бы в самой крови, «это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви...». Во время первой разлуки с Эрнестиной – два года спустя после свадьбы – Тютчев писал: «Мне решительно необходимо твоё присутствие для того, чтобы я мог переносить самого себя. Когда я перестаю быть существом, столь любимым, я превращаюсь в существо весьма жалкое». Понимая, что в какой-то мере эксплуатирует чувства к нему, он не раз каялся, в «злоупотреблении человеческими привязанностями...». И в то же время поэт искренне считал: «Я не знаю никого, кто был бы менее, чем я, достоин любви. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло...» Старшая дочь поэта Анна написала в своём дневнике о любви отца: «Он ежедневно нуждается в обществе, ощущает потребность видеть людей, которые для него – ничто, а к детям своим его не тянет. И он это не только говорит, он это чувствует. А ведь он всюду ищет правдивости в чувствах! Ведь такая холодность не есть правдивость, она противоестественна. Есть только один человек, в котором папа нуждается: это его жена; всего остального он мог бы лишиться, не испытывая никакой пустоты». А вот что писала о предмете его любви сестра поэта Дарья Ивановна Сушкова: «Невестка очень приятная женщина, наружности привлекательной, – лицо выразительное, особенно когда касается некоторых струн, любит Фёдора чрезвычайно, кажется, пылко, умна и мила, но никак не похожа на первую. – А мне грустно стало по ней, как я их вместе увидела, сердце человеческое странно устроено – страдает, любит и забывает... Помню первую страсть Фёдора, столь взаимную; глядя на них, должно бы полагать, что век будут любить друг друга – здесь и там, а вышло иначе...» Не говори! Меня он, как и прежде любит, Мной, как и прежде дорожит... О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит, Хоть, вижу, нож в его руке дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя, Увлечена, в душе уязвлена, Я стражду, не живу... им, им одним живу я – Но эта жизнь!.. о, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно, Не мерят так и лютому врагу... Ох, я дышу еще болезненно и трудно, Могу дышать, но жить уж не могу! Это ещё посвящено Эрнестине. Но вот уже новое стихотворение, как предпосылка новой страсти, новой любви: Я очи знал, – о, эти очи! Как я любил их – знает Бог! От их волшебной, страстной ночи Я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре, Жизнь обнажающем до дна, Такое слышалося горе, Такая страсти глубина! Дышал он грустный, углублённый В тени ресниц её густой, Как наслажденье, утомлённый, И, как страданья, роковой. И в эти чудные мгновенья Ни разу мне не довелось С ним повстречаться без волненья И любоваться им без слёз. Это стихотворение посвящено Елене Денисьевой. А потом были и многие другие: «О как убийственно мы любим…», «Не говори: меня он, как и прежде, любит…», «Чему молилась ты с любовью…», «Я очи знал, – о, эти очи!..» Целый цикл стихотворение, наречённый критиками и биографами «Денисьевским» Так кто же она, Елена Денисьева? Новый роман начинался постепенно. Жизнь с Эрнестиной Фёдоровной давно уже вошла в спокойное русло, причём покой этой жизни не очень-то нарушали частые увлечения Тютчева другими женщинами, которые довольно скоро проходили. Александр Георгиевский, муж сводной сестры Елены Денисьевой, Марии Александровны, писал: «Поклонение женской красоте и прелестям женской натуры было всегдашнею слабостью Фёдора Ивановича с самой ранней его молодости, – поклонение, которое соединялось с очень серьёзным, но, обыкновенно, недолговечным и даже очень скоро проходящим увлечением той или другою особою». Быть может, так и текла жизнь, становясь всё более спокойною год от года, быть может, и увлечения бы постепенно сходили на нет с возрастом. Кто знает? Да только вот не мог поэт жить спокойной, рутинной жизнью. И Случай снова всё перевернул вверх дном. В один из выходных дней 1861 года Фёдор Иванович и Эрнестина Фёдоровна Тютчевы приехали в Смольный институт навестить старших дочерей поэта от первого брака, Анну и Екатерину. Там они и встретили их сокурсницу Елену Денисьеву, девушку необыкновенной красоты и ещё более необыкновенного воспитания. Её отличали прекрасные манеры, стройная осанка. Её нельзя было не заметить. И Тютчев, конечно же, обратил на неё внимание, хотя ему было 47 лет, а ей всего лишь 25… Двадцать два года разница. Быть может, потому Эрнестина Фёдоровна и не слишком обеспокоена была тем, что её супругу приглянулась однокурсница дочерей. Уже стало известно, что она из обедневшей дворянской семьи, правда, обедневшие дворянские семьи отличались чаще всего добрыми старыми традициями и такими семейными укладами, до которых далеко было семьям богатым, но получившим свои титулы недавно, порою, неведомо каким путём. Так же, вероятно, как у нас в девяностые неожиданно народилась какая-то безумная свора толстосумов, назвавшая себя новорусскими, возомнившая себя элитой, но представляющая собой общество новошариковых. Но семья Денисьевы была именно настоящей русской семьёй. Отец Елены Александр Дмитриевич Денисьев участвовал во многих военных кампаниях, отличился в сражениях при Прейсиш-Эйлау, Фридланде, во многих боях Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии, сражался в Битве народов под Лейпцигом, был награждён орденами Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 4-й степени с бантом и золотой саблей с надписью «За храбрость» орденом Св. Георгия 4-й степени и серебряными медалями в память войны 1812, «За взятие Парижа» и в память русско-турецкой войны 1828-1829. Мать не успела оказать серьёзного влияния на воспитание Елены. Она рано умерла. Отец женился второй раз, но дочь не нашла общего языка с мачехой, да и с ним отношения испортились. Видя невозможность наладить отношения, отец отправил дочь в Санкт-Петербург к своей сестре, которая в то время являлась старшей инспектрисой Смольного института. Она была чрезвычайно авторитетна, а потому без труда определила племянницу в институт и опекала её. Елену Дмитриевну ожидало блестящее будущее – она могла стать фрейлиной, составить со временем хорошую партию. Женихов было хоть отбавляй. Автор воспоминаний о Тютчеве, Александр Иванович Георгиевский писал о Денисьевой, что «...природа одарила её большим умом и остроумием, большой впечатлительностью и живостью, глубиною чувства и энергией характера, и, когда она попала в блестящее общество, она и сама преобразилась в блестящую молодую особу, которая при своей большой любезности и приветливости, при своей природной веселости и очень счастливой наружности всегда собирала около себя множество блестящих поклонников». Но всё перевернула встреча с Тютчевым. Дочери Фёдора Ивановича стали приглашать Елену к себе в гости на чай. Хозяин дома неизменно участвовал в этих чаепитиях. Часто устраивались чтения вслух по вечерам, в которых Елена участвовала с большим удовольствием. Она, конечно же, прекрасно знала творчество Фёдора Ивановича и была его поклонницей. Иногда её брали с собой в театры, на балы, ведь родителей у неё не было, и Тютчев с удовольствием опекал юную красавицу. Причём никто поначалу не мог заметить ничего подозрительного. Просмотрела начало романа и Эрнестина Фёдоровна. А ведь знала о любвеобильности мужа. Но, может, поверила, что он питает к сокурснице своих дочерей чисто отцовские чувства? Ведь разница в двадцать два года ощутима. Хотя, конечно, в России того времени и с большей разницей вступали в браки, но там, по крайней мере, присутствовал какой-то расчёт. А тут? Какой расчёт мог быть у юной воспитанницы Смольного института? Она не могла не понимать, что брак со знаменитым поэтом и дипломатом невозможен. И так уж у Тютчева был второй брак, а детей – детей пруд пруди. В 1846 году, в начале года, Тютчев был назначен на должность чиновника особых поручений VI класса при государственном канцлере. Должность была не слишком обременительной, и он вёл светский образ жизни в собственное удовольствие. Сосед Тютчева Плетнёв Петр Александрович, профессор русской словесности Петербургского университета, критик и поэт, писал известному мемуаристу Якову Гроту: «У меня под боком Вяземский и Тютчев. Но различие образа жизни не дает мне средств извлечь что-нибудь из их общества: я встаю – они спят; я ложусь – они едут кататься». У Тютчева было достаточно свободного времени. А жена была занята детьми, и просто не ожидала ничего страшного от нового увлечения супруга. Напротив, она полагала, что это увлечение избавит от действительно опасных для неё светских львиц, некоторые из которых сами искали знакомства со знаменитым поэтом. Она так и писала Петру Андреевичу Вяземскому, уже известному в то время поэту и литературному критику: «...то состояние ожидания, в котором он пребывает, действует на него весьма возбуждающе. Пытаясь обмануть свою потребность в перемене мест, он две недели разъезжал между Петербургом и Павловском. Он нанял себе комнату возле вокзала и несколько раз оставался там ночевать, но мне кажется, что с этим развлечением уже покончено и теперь мы перейдём к чему-нибудь новому. Я слышу разговоры о поездке на Ладожское озеро, которая продлится 4 дня, потом он, вероятно, отправится ненадолго в Москву, чтобы повидаться с матерью, а там наступит осень, и всё встанет на свои места». Эрнестина Фёдоровна при всей своей прозорливости не догадалась, с какой целью наняты комната и что это будет за поездка на Ладожское озеро. Официально она действительно выглядела совершенно безобидной. Тютчев хотел показать старшей дочери Анне неподражаемую северную природу, неповторимые пейзажи Ладоги. Ну и конечно было решено посетить Валаамский монастырь. Но дело в том, что в поездку ту была приглашена подруга Анны Елена Денисьева. Дочь Тютчева Анна впоследствии живописала эту поездку: «Наше маленькое путешествие удалось очень хорошо, хотя и не обошлось без целого ряда треволнений... и если бы мы все трое – папа, Лелинька и я – не обладали бы счастливыми характерами, то часто пребывали бы в дурном настроении... Мы отправились в путешествие в пятницу (4 августа) и попали впросак, не зная, что на следующий день (5 августа) в Шлиссельбурге был праздник чудотворной иконы: мы оказались среди толпы торговцев, верующих, монахов и нищих в лохмотьях, совершавших паломничество. Это была первая неприятность; мы ведь рассчитывали насладиться покоем на пароходе. Через полчаса колоссальная туча разверзлась над нами. Дождь продолжался до самой полуночи, то есть до нашего прибытия в Шлиссельбург. Там было совершенно немыслимо подыскать ночлег из-за массы народа, и если бы не любезность капитана, разрешившего нам остаться на ночь в каюте парохода, то нам пришлось бы ночевать на улице под дождём. Елена и я болтали и смеялись всю ночь...» И далее: «На следующий день пароход, на котором мы должны были продолжать наше путешествие, не отправился в путь по случаю праздника. Нам пришлось остаться до воскресного вечера в Шлиссельбурге, где мы остановились на постоялом дворе, в заведении, вероятно, самом грязном из всех гостиных дворов России. Мы посетили Шлиссельбургскую крепость. <...> Наше ночное плавание по Ладожскому озеру было чудесно... В понедельник утром (7 августа) мы прибыли на Коневец; я гуляла с папа в лесу при восходе солнца, затем мы побывали на Конь-камне и в Ильинске. Это огромная глыба скалы, находящаяся в пропасти, где язычники когда-то приносили свои жертвы. Теперь там строят часовню. В пять часов утра я была на ранней обедне в монастыре. Потом мы тронулись снова в путь и вечером были на Валааме... Монахи нас приняли с большим гостеприимством. Нам предоставили две кельи, весьма опрятные. Мы, как схимники, поели ухи и, поскольку чувствовали себя смертельно усталыми, легли спать. <...> На следующий день, во вторник (8 августа), прослушали обедню и гуляли по острову, очень живописному. Мы познакомились с настоятелем монастыря, очень праведным человеком... Он подарил нам четки и снабдил папа просвирами, для передачи их великой княгине Марии. Мы, Лелинька и я, ходили смотреть на юродивого. <...> Вечером того же дня возвратились на Коневец и простояли на якоре у монастыря всю ночь. Это была ещё одна чудесная ночь... Я заснула, а когда проснулась, была очень удивлена тем, что почувствовала приступ морской болезни. Оказывается, тем временем поднялся сильный ветер. Нам пришлось перенести довольно неприятную бортовую качку, которая продолжалась в течение восьми часов, т. е. до Шлиссельбурга, где нам посчастливилось застать пароход, который и доставил нас в тот же вечер (в среду 9 августа) в Петербург». Оставил и Тютчев поэтическое описание той поездки: Под дыханьем непогоды, Вздувшись, потемнели воды И подёрнулись свинцом – И сквозь глянец их суровый Вечер пасмурно-багровый Светит радужным лучом. Сыплет искры золотые, Сеет розы огневые И уносит их поток. Над волной тёмно-лазурной Вечер пламенный и бурный Обрывает свой венок... Дочь Тютчева не подозревала, что её отца и её подругу Лелю – Елену Денисьеву – уже связывают горячие, пламенные чувства, которые возникли внезапно и охватили их со всею силою. Но когда же всё началось? В поездке? Оказывается ещё раньше. Упоминание Эрнестины Фёдоровны о нанятой Тютчевым квартире проливает свет на то, что в поездку Фёдор Иванович и Леля отправились уже после их первой близости. Тютчев долго хранил тайну, и лишь много лет спустя открыл её в стихотворении, озаглавленном: «15 июля 1865 г.» Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло С того блаженно-рокового дня, Как душу всю свою она вдохнула, Как всю себя перелила в меня. И вот уж год, без жалоб, без упреку, Утратив всё, приветствую судьбу... Быть до конца так страшно одиноку, Как буду одинок в своём гробу. Именно в те годы снова полились лучезарным водопадом необыкновенные стихи: «Неохотно и несмело...», «Итак, опять увиделся я с вами...», «Когда в кругу убийственных забот...», «Русской женщине», «Как ни дышит полдень знойный..» Как ни дышит полдень знойный В растворённое окно, В этой храмине спокойной, Где всё тихо и темно, Где живые благовонья Бродят в сумрачной тени, В сладкий сумрак полусонья Погрузись и отдохни. Здесь фонтан неутомимый День и ночь поёт в углу И кропит росой незримой Очарованную мглу. И в мерцанье полусвета, Тайной страстью занята, Здесь влюблённого поэта Веет лёгкая мечта. Впоследствии стихи, посвящённые Елене Денисьевой, получили название «денисьевского цикла» Они действительно неповторимы: Когда в кругу убийственных забот Нам всё мерзит – и жизнь, как камней груда, Лежит на нас, – вдруг, знает Бог откуда, Нам на душу отрадное дохнёт – Минувшим нас обвеет и обнимет И страшный груз минутно приподнимет. Так иногда, осеннею порой, Когда поля уж пусты, рощи голы, Бледнее небо, пасмурнее долы, Вдруг ветр подует, тёплый и сырой, Опавший лист погонит пред собою И душу нам обдаст как бы весною... Прилив вдохновения, восторженный отблеск которого озарил творчество, подарил читателям подлинные поэтические шедевры. Причём, стихи были и чисто любовные, и посвящённые великолепной русской природе, столь любимой Фёдором Ивановичем Тютчевым, несмотря на то, что ему приходилось по долгу службы покидать Отечество на продолжительное время. Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля. Чу, за тучей прогремело, Принахмурилась земля. Ветра тёплого порывы, Дальний гром и дождь порой. Зеленеющие нивы Зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя – Пламень белый и летучий Окаймил её края. Чаще капли дождевые, Вихрем пыль летит с полей, И раскаты громовые Всё сердитей и смелей. Солнце раз ещё взглянуло Исподлобья на поля – И в сиянье потонула Вся смятенная земля. Его любовь, как вечный движитель, выступала движителем вдохновения, лира, было уже слегка утомлённой, несколько погасшей, но снова и снова вспыхивала необыкновенным пламенем. Любовь всеобъемлюща. Любовь к женщине открывает двери любви ко всему окружающему, и влюблённый поэт видит вокруг то, что не увидел бы, не будучи влюблён. В зрелом возрасте, когда ему уже было 48, Тютчев написал: Любовь, любовь – гласит преданье – Союз души с душой родной – Их съединенье, сочетанье, И роковое их слиянье, И... поединок роковой... Именно такая любовь связывала Тютчева и Елену Денисьеву. Гордиевский писал об этом следующее: «Его увлечение Лелей вызвало с её стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и всё его существо, и он остался навсегда её пленником, до самой её кончины! …Зная его натуру, я не думаю, чтобы он за это долгое время не увлекался кем-нибудь ещё, но это были мимолетные увлечения, без всякого следа, Леля же, несомненно, привязала его к себе самыми крепкими узами». Итак, наёмная комната близ Смольного института! То, что её посещает Елена Денисьева, обнаружено было не сразу. Свет в ту пору давно уже потерял значительную долю нравственности. Ну, встречается знаменитый поэт с юной воспитанницей Смольного института. Так что из того? Это не редкость. Но объявился, как бы теперь назвали его, «народный мститель», а в ту пору презрительно именовали нижним чином или смердом поганым. Так вот, объявился некий Гаттенберг, мелкий чиновник Смольного института, да к тому же ещё и иноземец. Мало того, что начальству донос настрочил, так ещё и сплетни распустил по Санкт-Петербургу, ну чтоб совсем уже «хорошо» было замечательному русскому поэту… А на самом деле, кому хорошо? Ну, конечно же, ему – смерду. Когда другим плохо – холопу иноземцу очень даже хорошо. Тютчев отозвался на это событие стихотворением… Чему молилась ты с любовью, Что, как святыню, берегла, Судьба людскому суесловью На поруганье предала. Толпа вошла, толпа вломилась В святилище души твоей, И ты невольно постыдилась И тайн и жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья Души, парящей над толпой, Её спасали от насилья Безмерной пошлости людской! А между тем близился выпуск из Смольного, причём выпуск именно того класса, который вела авторитетная до того времени её тётка Анна Дмитриевна Денисьева. Её ждало производство в кавалерственные дамы, а племянницу Елену во фрейлины. И тут разразился страшный скандал. Анну Дмитриевну отправили на пенсию. Отец Елены, приехавший на выпуск младших дочерей, был взбешён поступком дочери, проклял и отказался от неё. Мало того, от Елены отвернулись все подруги. Надежды на светское будущее рухнули. А тут ещё стало ясно, что она ждёт ребёнка. Светское общество столицы не приняло её любви. Свет, давно уже прогнивший, мог спокойно взирать на тайную связь, пока она оставалась тайной. Но в случае огласки, он вооружался против этой связи, причем все члены общества изощрялись в порицаниях друг перед другом, причём за пороки, нечуждые им самим. Но что же законная жена Тютчева, что же Эрнестина Фёдоровна? Она оказалась выше сплетен и выше скандалов. Она не пожелала участвовать в этом шабаше светских ведьм и сделала вид, что ей ничего не ведомо, и что она ни во что не верит. Дома всё оставалось по-прежнему. Только в письме брату призналась она: «...настроение у нас обоих такое не легкомысленное, что, боюсь, пострадает от этого гостиная... Один Бог знает, решилась бы я предпринять это путешествие в Россию, о котором, кстати, муж думал с отвращением, если бы предчувствовала, что оно приведёт нас к месту окончательного нашего пребывания». «О, как убийственно мы любим…» А между тем и на взаимоотношения Тютчева с Денисьевой, порою, набегала тень. Недаром же средь восторженных посвящений вдруг появлялись стихотворения, подобные знаменитому – «О, как убийственно мы любим…» О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепости страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей! Давно ль, гордясь своей победой, Ты говорил: она моя... Год не прошел – спроси и сведай, Что уцелело от нея? Куда ланит девались розы, Улыбка уст и блеск очей? Всё опалили, выжгли слёзы Горючей влагою своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, При первой встрече роковой, Её волшебный взор, и речи, И смех младенчески-живой? И что ж теперь? И где всё это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, Был мимолетным гостем он! Судьбы ужасным приговором Твоя любовь для ней была, И незаслуженным позором На жизнь её она легла! Жизнь отреченья, жизнь страданья! В её душевной глубине Ей оставались вспоминанья... Но изменили и оне. И на земле ей дико стало, Очарование ушло... Толпа, нахлынув, в грязь втоптала То, что в душе её цвело. И что ж от долгого мученья, Как пепл, сберечь ей удалось? Боль, злую боль ожесточенья, Боль без отрады и без слёз! О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепости страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей!.. Чего-то постоянно не хватало для окончательного выбора между супругой Эрнестиной Фёдоровной и Еленой Денисьевой. Они в какой-то мере дополняли друг друга в сердце поэта – в одной было то, чего не было в другой, а то, что не было у первой, было необходимо, как и в точности наоборот. Тютчев прекрасно осознавал, что затягивая решения вопроса, он всего вернее губит то, что его сердце мило и дорого. Но не мог решиться. Он ощущал тяготившее его раздвоение, ему было стыдно перед женой и неловко перед возлюбленной, ведь и возлюбленная его надеялась на чудо – на то, что он навсегда свяжет с нею свою жизнь. Видно в начале их отношений чувства были настолько велики, что она не задумывалась о последствиях того, что совершала. В апреле 1851 года Тютчев написал стихотворение, которое потихоньку вложил в альбом Эрнестины. Не знаю я, коснётся ль благодать Моей души болезненно-греховной, Удастся ль ей воскреснуть и восстать, Пройдёт ли обморок духовный? Но если бы душа могла Здесь, на земле, найти успокоенье, Мне благодатью ты б была – Ты, ты, моё земное провиденье!.. Эрнестина Федоровна не видела этого стихотворения, да и оно мало что могло переменить – выхода не было. Объясниться с супругом? Но есть в том смысл? Он ведь оставался таким же, каким был на заре их отношений, каким был всю жизнь до их знакомства, он оставался всё таким же быстро увлекающимся и увлекающимся до страсти безудержной. Она всегда знала, что увлечение рано или поздно пройдёт, надеялась и на этот раз, что роман будет недолговечным. Но он продолжался год, два, три, пять… И не видно было его окончания. Эрнестина решила разрядить обстановку своим отъездом – это ведь тоже решение, это ведь тоже могло стать толчком к какому-то выходу из создавшейся ситуации. Взяв детей, Эрнестина отправилась в Брянское имение Тютчевых, в Овстуг. А 20 мая 1851 года Елена Денисьева родила девочку. Её назвали Еленой и дали фамилию отца. Тютчев написал: Не раз ты слышала признанье: «Не стою я любви твоей». Пускай моё она созданье – Но как я беден перед ней... Перед любовию твоею Мне больно вспомнить о себе – Стою, молчу, благоговею И поклоняюся тебе... Когда, порой, так умиленно, С такою верой и мольбой Невольно клонишь ты колено Пред колыбелью дорогой, Где спит она – твоё рожденье – Твой безымянный херувим, – Пойми ж и ты моё смиренье Пред сердцем любящим твоим. Но опять не было никакого решения… Находясь в отпуске в Москве, Тютчев серьёзно заболел и почти в отчаянии написал жене в Овстуг. А потом, ещё одно письмо – Елене Денисьевой в Санкт-Петербург. Письма были одинаково трогательные. Он словно ожидал сочувствий. Но едва поправившись, тут же нанёс визит графу Д. Н. Блудову и с удовольствием беседовал с его дочерью, а через пару дней повстречался с поэтессой графиней Евдокией Ростопчиной. Написал ей несколько стихотворений, правда, шуточных. В Москве Тютчев с удовольствием проводил время с женщинами, хотя в сердце жила любовь и к супруге Эрнестине Фёдоровне, и к Елене Денисьевой. Чувство вины перед женой стало постепенно проходить, и он написал ей: «Я могу сойти с ума, если буду видеть, что ты серьёзно во мне сомневаешься. Увы! я очень глупо и недостойно вёл себя, но пред тобою я не виноват...» Не виноват… Но в Санкт-Петербурге росла внебрачная дочь. Там его ждала обожаемая Елена Денисьева. Впрочем, обожания такого человека как Тютчев недолговечны, призрачны. Едва вернувшись домой, в Санкт-Петербург, он снова стал рваться на свободу. Что-то нет так. Что уже по-другому. Елена была удручена его отъездами, неизбежно возникали обиды, участились упрёки. Всё это повергло поэта в уныние, и он написал Леле очередное стихотворение: О, не тревожь меня укорой справедливой! Поверь, из нас из двух завидней часть твоя: Ты любишь искренно и пламенно, а я – Я на тебя гляжу с досадою ревнивой. И, жалкий чародей, перед волшебным миром, Мной созданным самим, без веры я стою – И самого себя, краснея, сознаю Живой души твоей безжизненным кумиром. И почти одновременно отправил Эрнестине Фёдоровне в Овстуг такие поэтические строки … В разлуке есть высокое значенье: Как ни люби, хоть день один, хоть век, Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье, И рано ль, поздно ль пробужденье, А должен, наконец, проснуться человек... Переписка с Эрнестиной Фёдоровной была интенсивной, и когда вдруг какое-то время писем от неё не было, Тютчев не находил себе места. Так, во время очередной такой паузы в переписке в сентябре 1851 года он в отчаянии написал сестре Дарье Ивановне: «Я страшно встревожен. Последняя почта не доставила мне никакого известия из Овстуга. Это случается впервые. Немыслимо, чтобы без какой-либо важной причины моя жена пропустила почтовый день, не написав мне. Это немыслимо. Не могу сказать, какую пытку я выдерживаю с прошлого вторника... Ах, какая мука!.. Я ненавижу себя за то, что создан таким, так же, как я ненавижу других за то, что они созданы иначе... Да сохранит и да возвратит мне её Господь, и мне больше нечего будет просить у него...» Но едва окончив это письмо, вспомнил о Леле. Снова полились поэтические строки, отражавшие сокровенные мысли и чаяния… О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней... Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье, – Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись, очарованье. Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность... О ты, последняя любовь! Ты и блаженство и безнадежность. Сын поэта, замечательный русский писатель Фёдор Фёдорович Тютчев отметил, что «натура Федора Ивановича была именно такова, что он мог искренно и глубоко любить... и не только одну женщину после другой, но даже одновременно...» Что это – счастье в любви или глубокая драма? Кто-то из биографов написал, что это и счастье и несчастье одновременно. Впрочем, мы не можем приказать сердцу любить или не любить, ещё в меньшей степени, нежели обыкновенный человек, этого не в состоянии сделать гений, особенно гений в поэзии. А то, что Тютчев был нашим поэтическим гением, вряд ли кто-то и когда-то сомневался. Связь с Еленой Денисьевой продолжалась. Семья же поэта жила в Овстуге, и Эрнестина Фёдоровна не уставала надеяться на перемены в муже. Но роман на сей раз затягивался слишком долго. Она волновалась, высказывая эти волнения в письмах. Вере Фёдоровне Вяземской она жаловалась в декабре 1852 года: «Мой муж намерен посетить нас... Я очень хочу повидать его после почти шестимесячной разлуки и всё же не могу не тревожиться за нас обоих в ожидании этой встречи. Дай Бог, чтобы он явился к нам с добрыми вестями... А покуда он много бывает в свете, где блестящие балы и рауты сменяют друг друга...» Приезд Тютчева и встреча с семьёй 1853 года дала новые стихи, но не принесла изменений в делах сердечных. Он всё чаще стал писать о природе, и стихотворения его вошли в сокровищницу русской поэзии… Чародейкою Зимою Околдован, лес стоит – И под снежной бахромою, Неподвижною, немою, Чудной жизнью он блестит. И стоит он, околдован, – Не мертвец и не живой – Сном волшебным очарован, Весь опутан, весь окован Лёгкой цепью пуховой... Солнце зимнее ли мещет На него свой луч косой – В нём ничто не затрепещет, Он весь вспыхнет и заблещет Ослепительной красой. Дочь поэта Анна Фёдоровна записала в дневнике слова, сказанные Эрнестиной Фёдоровной её отцу: «Я в мире никого больше не люблю, кроме тебя, и то, и то! уже не так!» Да, любовь, если и не уходила, уже была не той, что когда-то – её не могли не подкосить постоянные увлечения мужа. А надежда на перемены становилось всё меньше. Тютчев пробыл в имении более месяца – значительно больше, нежели обычно. Но не жена получила от него стихотворения – он создал поэтические шедевры, посвящённые русской природе и сделавшие его признанным лириком и певцом просторов России. Он написал стихотворения «Первый лист», «Как весел грохот летних бурь...», «Сияет солнце, воды блещут...» и многие, многие другие. Но как же ощущала себя в весьма неопределённом положении Елена Денисьева, так и не ставшая женой поэта. Да, она не стала ею официально, но это не мешало ей осознавать себя супругой Тютчева… Вот что писала она по этому поводу: «...Мне нечего скрывать и нет надобности ни от кого прятаться. Я более ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю, никогда никто его так не понимал, как я его понимаю, – всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину и складку на его лице, всякий его взгляд и усмешку; я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой...» Свет не принял отношений Тютчева с Еленой Денисьевой, да и как мог принять, если поэт оставался законным мужем Эрнестины Фёдоровны, если брак так и не был расторгнут. Тютчев возмущался светскими сплетниками. Но свет не без добрых людей. В конце 1853 года Тютчев подружился с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Тургенев стал частым гостем Тютчевых, и дочь поэта Анна оставила такую запись в дневнике: «Мы делим наши вечера между Блудовыми, Карамзиными и Софи Мещерской, чей салон очень привлекателен, ибо там бывает множество интересных людей... Важную роль в этом салоне играет г-н Тургенев. Он по-прежнему не проявляет ни малейшего желания вступить в брак ни с одной из сестёр Тютчевых. …мой колючий характер должен как нельзя лучше сочетаться с благодушием Тургенева, и что это предназначено самой судьбой...» Эрнестина Федоровна с интересом узнавала новости о Тургеневе и просила сообщить: «Итак, которой же из вас Тургенев нравится больше? И которая из вас больше нравится ему?..» Женить Тургенева было невозможно. Это не сразу поняли, но поняли, в конце концов, все, кто хотел это сделать. А вот Тургенев занялся изданием сборника стихотворений Тютчева, поскольку сам уже в некотором роде преуспел в деле издания книг. Тютчев не слишком интересовался изданием книг, ведь он был дипломатом, а события в Европе всё более занимали его. Дарья Тютчева писала тётке в Москву: «Что до папа, то он раздирается между Восточным вопросом и вопросом об Эрнестине, которые наступают друг на друга, а обо всем остальном он и не задумывается...» В воздухе пахло грозой. Восточная война уже грохотала на Дунае. Но и в семье мира не наступало. Эрнестина Фёдоровна снова отправлялась в Остуг, Тютчев оставался в Москве. 23 апреля 1854 года Анна Тютчева написала сестре Китти в Москву: «Вчера был день именин папа, и значит обед в семейном кругу, а потому я отказалась от обеда у императора. Однако папа ничуть не оценил мой подвиг. Дома он очень угрюм, и обычно мы видим его только спящим. Едва поднявшись, он уходит. Слово cheerless* было придумано специально для нашего дома. Я всегда с тяжелым сердцем возвращаюсь оттуда. Кажется, что дыхание жизни покинуло его, и с тех пор, как я стала жить отдельно, это чувство неизменно охватывает меня, едва я переступаю порог, – настолько оно сильно». А Тютчев, проводив жену, снова бросился к Денисьевой: Пламя рдеет, пламя пышет, Искры брызжут и летят, А на них прохладой дышит Из-за речки тёмный сад. Сумрак тут, там жар и крики, Я брожу как бы во сне, – Лишь одно я живо чую: Ты со мной и вся во мне. Треск за треском, дым за дымом, Трубы голые торчат, А в покое нерушимом Листья веют и шуршат. Я, дыханьем их обвеян, Страстный говор твой ловлю... Слава Богу, я с тобою, А с тобой мне – как в раю. И снова лирика… Стихотворения «Над этой тёмною толпой...», «Есть в осени первоначальной...», «Смотри, как роща зеленеет...» датированы августом 1857 года. Природа умиротворяет, но трудно, очень трудно успокоить метущуюся душу поэта… Он писал о своей душе, о своём сердце… О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, О, как ты бьёшься на пороге Как бы двойного бытия!.. Так, ты – жилица двух миров, Твой день – болезненный и страстный, Твой сон – пророчески-неясный, Как откровение духов... Пускай страдальческую грудь Волнуют страсти роковые – Душа готова, как Мария, К ногам Христа навек прильнуть. В 1860 году по рекомендации врачей Тютчев отправился на лечение за границу. На этот раз он взял с собой Елену Денисьеву. Нервы, нервы, нервы. Ведь и для поэта двойственность положения была нелегка. Он признавался в ту пору дочери Анне, что теряет «влечение к жизни» – Lebensmut (мужество жить). Анна тут же написала письмо сестре Китти, в то время лечившейся в Германии: «Умоляю, последи издали за его лечением, чтобы это лето не прошло для него бесполезно, и чтобы предстоящая зима была менее мучительна, чем предыдущая <...> Да положит Небо конец этой вечной тревоге и беспокойству, да приведёт Оно его к миру. Не теряй его из виду, пока он будет за границей». Но необходимость поездки была вызвана не только болезнью – Елена ждала второго ребёнка. Тютчев не хотел давать свету лишний повод для саркастических сплетен. Они ехали как муж и жена, и Тютчев был в полном распоряжении Елены. Даже в гостиницах их записывали по требованию Лели как M-r et m-me Tutcheff. Тютчев же, не посвящая в такие тонкости Лелю, старался выбирать такие пункты остановок, где было поменьше соотечественников, особенно петербуржцев, да и вообще знакомых. Роды прошли в Женеве. Там 11 октября 1860 года родился мальчик, которого назвали Фёдором. Так появился на свет будущий замечательный военный писатель Фёдор Фёдорович Тютчев. А.И. Георгиевский писал: «Леля настаивала, чтобы детей её записывали в метрическую книгу не иначе как Тютчевыми, и так как Федор Иванович изъявлял священнику своё на то согласие, то желание её и было всегда исполняемо: она в этом сама удостоверялась и очень радовалась за детей, что это было так, не принимая во внимание, что при этом об отце вовсе не было помину, а прописывалась только мать под своим девическим фамильным именем, и не зная, что подобный акт не сообщал детям прав состояния их отца и они могли быть приписаны только к мещанскому или крестьянскому сословию и никаких прав по происхождению не приобретали». Писатель Фёдор Фёдорович Тютчев Сын поэта полковник Фёдор Фёдорович Тютчев немало написал об отце. Он считал, что связь с Еленой Денисьевой испортило его «весьма в то время блестящее положение. Он почти порывает с семьей, не обращает внимания на выражаемые ему двором неудовольствия, смело бравирует общественным мнением и если, в конце концов, не губит себя окончательно, то тем не менее навсегда портит себе весьма блистательно сложившуюся карьеру». Фёдор Фёдорович был приписан всего лишь к мещанскому сословию города Петербурга. Это наложило отпечаток на его судьбу. Впрочем, на судьбе его стоит остановиться подробнее, поскольку это был замечательный и незаслуженно забытый русский писатель. Вчитаемся в строки: «Снова падает снег, покрывая своим мертвенным покрывалом вершины и гребни гор, заполняя пропасти и ущелья, заметая жалкие курдинские зимовки. Пятый день пост Амбу-Даг отрезан от всего мира и живёт своей крохотной монотонной жизнью муравейника, заброшенного в пустыню…» Поэтический слог. Кто же автор? Это строки из рассказа «На линии вечных снегов». Точными штрихами рисует автор картины из жизни далёкого, заброшенного в горы пограничного поста Амбу-Даг, из жизни, о которой нам известно очень и очень мало. А вот ещё один рассказ – «Комары» с подзаголовком «Из пограничных воспоминаний». И снова бросаются в глаза точные, ёмкие детали, поражает необыкновенное знание предмета. Оба рассказа вошли в книгу, выпущенную в 80-е годы издательством «Современник» в серии «Из наследия». Фамилия автора – Тютчев! Нет, не удивляйтесь, вовсе не поэт Фёдор Иванович Тютчев, а его сын Фёдор Фёдорович! Да, именно сын замечательного русского поэта-лирика, чьи волшебные стихи «Ещё в полях белеет снег…», «Люблю грозу в начале мая» и многие, многие другие вошли в нашу жизнь с раннего детства. Особенно волнует любовная лирика поэта, стихотворения так называемого «денисьевского» цикла, посвящённые Елене Александровне Денисьевой. Фёдор Фёдорович Тютчев имел от Денисьевой троих детей. Двое умерли рано, третий – Фёдор – стал впоследствии автором упомянутых выше рассказов… И не только рассказов, но и множества повестей, даже романов. Нелегко складывалась его судьба. Общество не простило ему того, что был он незаконнорожденным сыном. И хотя отец его являлся действительным статским советником, а мать происходила из дворянского рода, Фёдора Фёдоровича удалось записать только мещанином. Родился будущий писатель в октябре 1860 года в Женеве. А через четыре года он лишился матери – Елена Александровна Денисьева умерла от чахотки. Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, умер отец. Остался он на попечении родственников, успешно окончил лицей и для получения высшего образования отправился в Лейпциг, откуда был возвращён в Россию за участие в студенческих волнениях. Надо было начинать самостоятельную жизнь, и в 19 лет Фёдор Фёдорович Тютчев поступил на военную службу вольноопределяющимся 1-го Московского драгунского полка. Случилось это в июне 1789 года, а уже в сентябре он юнкером Тверского кавалерийского училища. Именно в юнкерском училище он предпринял первые литературные опыты, сначала как поэт. Литература настолько увлекла его, что совмещать ей с военной службой становилось всё сложнее. Фёдор Тютчев оставил службу и устроился секретарём петербургской газеты «Свет». Однако обеспечить семью оказалось непросто, да и работа отнимала столько времени, что страдало творчество. И снова он подумал о военной службе. В 1988 году в чине подпоручика поступил в пограничную стражу и получил назначение в Ченстоховскую бригаду на границу с Пруссией. Во время службы на границе появились рассказы «Комары», «На линии вечных снегов», роман «Кто прав?» Довелось послужить и в Бессарабии, и в Закавказье, на границе с Турцией, затем Ираном. В апреле 1898 года Фёдор Тютчев был награждён орденом Св. Станислава 3-ё степени, а через год получил перевод в столицу, в штаб Отдельного корпуса Пограничной стражи. К этому времени он был произведён в чин ротмистра. В столице он начал публиковаться в «Русском вестнике», «Историческом вестнике» и ряде других изданий, создал за эти годы романы «Беглец», «На скалах и в долинах Дагестана». В первые же дни русско-японской войны 1904-1905 годов он подал рапорт с просьбой направить его на театр военных действий и получил назначение есаулом в 1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска. Отвагой, хладнокровием, добросердечным отношением к подчинённым Тютчев завоевал любовь и уважение казаков. Ордена Св.Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Св. Станислава 2-й степени с мечами и вскоре после войны Св.Владимира 4-й степени с мечами и бантом были наградами за подвиги, совершённые в боях с японцами. И снова переживания Фёдора Фёдоровича отразились в его произведениях. Особенно впечатляет повесть «Сила любви. (Из былей войны)». В годы, предшествующие 1-й мировой войне, Фёдор Фёдорович Тютчев продолжал службу в Русской армии, командовал сначала Скулянским, а затем Царганским пограничными отрядами. Как и прежде, занимался литературой, публиковался во многих периодических изданиях. В 1914 году подполковнику Тютчеву исполнилось 54 года. Он не получил назначение в действующую армию, однако, учитывая бесконечные просьбы об отправке на фронт, ему поручили в командование 2-й эксплуатационный батальон Кавказской парковой конно-железнодорожной бригады. Это не удовлетворило Фёдора Фёдоровича. Он считал, что место боевого командира на передовой. И снова победила настойчивость – его назначили командиром батальона 36-го Орловского полка. За мужество и храбрость, проявленные с боях с врагом уже в декабре 1914 года Фёдор Тютчев был награждён Георгиевским оружием. В мае 1915 года он получил сильную контузию, однако до конца боя оставался в строю. После лечения врачи натаивали на более спокойном назначении. Однако, Тютчев не согласился и вскоре уже в чине полковника снова отбыл на фронт. Назначение получил командиром Дрисского пехотного полка. Но по дороге попал в госпиталь – сказалась контузия. Скончался Фёдор Фёдорович Тютчев 9 февраля 1916 года. Так оборвалась жизнь замечательного военного писателя, сына знаменитого поэта. Большая часть произведений Фёдора Фёдоровича Тютчева посвящена границе. И каждое из них он писал, что называется, с натуры. К сожалению, очень и очень мало книг Тютчева издано. Эти книги ждут своего часа. «Я был при ней, убитый, но живой…» Но вернёмся к главному герою нашего повествования и его горячо любимой Леле. Елена Денисьева в то время, когда познакомилась с Тютчевым, хоть и училась в престижном Смольном институте, но кругозор её был ещё не развит и она, конечно же, не могла соперничать с Эрнестиной Фёдоровной в своём развитии, начитанности, умении судить о литературе. Тютчев не мог не сознавать это. Он не судил строго – любящее его сердце находило много других достоинств в Леле, но после любовных утех с нею, его тянуло к общению с женой, к разговорам с ней на самые разнообразные темы – от обсуждения литературных новинок, до внутренней и внешней политики. Но постепенно Денисьева стала догонять Эрнестину, и в конце концов и в ней Тютчев нашёл интересную и грамотную собеседницу. Тютчев стал отходить от жены и в этом вопросе, поскольку всё чаще и чаще находил в своей Леле то, чего раньше не было. При этом она была не только моложе, но женственнее Эрнестины. Характер Лели был более покладист. Ну а отношение к нему было настолько трепетным и нежным, что поэт буквально растворялся в ней. Тютчев не мог не заметить, сколь изменился стиль писем Лели, не мог не увидеть, что они стали содержательнее, что написаны живым литературным языком. Долгое время он не решался заводить серьёзных разговоров о политике или даже о литературе, но наконец обнаружил, что Леля преуспела и в этом. Но как же Елена Денисьева оценивала свои поступки? Ведь с точки зрения Церкви они были глубоко греховны. Георгиевский писал об этом: «Глубоко любящая и глубоко религиозная, вполне преданная и покорная дочь православной церкви, по возможности соблюдавшая все ее постановления, Леля не раз беседовала со своим духовником, и не с одним, до какой степени ей тяжело обходиться без церковного благословения брака; но что она состоит в браке, что она настоящая Тютчева, в этом она была твердо убеждена, и, по-видимому, никто из ее духовников не разубеждал ее в этом по тем же, вероятно, побуждениям, как и я, т. е. из глубокой к ней жалости...» Последние годы жизни Тютчева были омрачены тяжёлой потерей… 4 августа 1864 года ушла из жизни его Леля, Елена Александровна Денисьева, которую справедливо называют последней музой поэта. Чахотка свела её в могилу. Не пощадила смерть и старшую дочь Елену и младшего сына Николай. И лишь сын Фёдор Фёдорович стал продолжателем литературного дела отца. Когда ушла из жизни Елена Денисьева, ему было всего лишь три года. Тютчев, поражённый утратой любимой, написал пронзительное стихотворение… Весь день она лежала в забытьи – И всю её уж тени покрывали – Лил тёплый, летний дождь – его струи По листьям весело звучали. И медленно опомнилась она – И начала прислушиваться к шуму, И долго слушала – увлечена, Погружена в сознательную думу... И вот, как бы беседуя с собой, Сознательно она проговорила: (Я был при ней, убитый, но живой) «О, как всё это я любила!» Любила ты, и так, как ты, любить – Нет, никому ещё не удавалось – О Господи!.. и это пережить... И сердце на клочки не разорвалось... Потери родных и близких подточили жизненные силы. Когда в июле 1870 года из жизни ушёл старший сын Дмитрий, а вскоре и брат Николай последовал за ним, Тютчев написал: Дни сочтены, утрат не перечесть, Живая жизнь давно уж позади, Передового нет, и я, как есть, На роковой стою очереди. После ухода из жизни Елены Денисьевой, отношения с Эрнестиной Фёдоровной как бы получили второе дыхание. Она даже стала называть его немного шутливо и нежно «Любимчик». 1 января 1873 года случился удар… Но и там потери не оставили его. 2 июля 1872 года умерла дочь Мария, отправившаяся сопровождать его. В те дни Тютчев написал Эрнестине Федоровне: Все отнял у меня казнящий Бог: Здоровье, силу воли, воздух, сон, Одну тебя при мне оставил он, Чтоб я ему ещё молиться мог. «И та ж в душе моей любовь!..» И тут случилось почти невероятное. Он встретил свою Амалию! Она приехала лечиться вместе со своим уже вторым мужем графом Адлербергом. Тогда-то и родилось великолепное посвящение, ставшее в последствии знаменитым романсом: Я встретил вас – и всё былое В отжившем сердце ожило; Я вспомнил время золотое – И сердцу стало так тепло... Как поздней осени порою Бывают дни, бывает час, Когда повеет вдруг весною И что-то встрепенётся в нас, – Так, весь обвеян дуновеньем Тех лет душевной полноты, С давно забытым упоеньем Смотрю на милые черты... Как после вековой разлуки, Гляжу на вас, как бы во сне, – И вот – слышнее стали звуки, Не умолкавшие во мне... Тут не одно воспоминанье, Тут жизнь заговорила вновь, – И то же в вас очарованье, И та ж в душе моей любовь!.. Тютчев обычно старался скрывать адресатов своих посвящений, но тут поставил: «К.Б.», что означало «Баронесса Крюндер». Амалия навестила Тютчева и в последние дни его жизни. Это случилось 31 марта 1873 года. Печальной была встреча. Федор Иванович был разбит параличом. Плохо слушавшейся рукой он в тот же день написал дочери: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В её лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй». Это были последние дни жизни. И.С. Аксаков вспоминал: «Ранним утром 15 июля 1873 года лицо его внезапно приняло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса; глаза широко раскрылись, как бы вперились вдаль, – он не мог уже ни шевельнуться, ни вымолвить слова, – он, казалось, весь уже умер, но жизнь витала во взоре и на челе. Никогда так не светилось оно мыслью, как в этот миг, рассказывали потом присутствовавшие при его кончине. Вся жизнь духа, казалось, сосредоточилась в одном этом мгновении, вспыхнула разом и озарила его последнею верховною мыслью... Через полчаса вдруг всё померкло, и его не стало... Он просиял и погас»
Тест на русскость :))

Официально доказано, что слово на этой картинке может прочесть только человек с русским складом ума
Колитесь кто не смог прочитать?
Чемпионат мира по хоккею 2015, 1/2 финала США - Россия 0 - 4

В сухую.
48' Сергей Мозякин
51' Александр Овечкин
56' Вадим Шипачёв
59' Евгений Малкин
Казнь Египетская
Готовится к печати и скоро увидит свет первая книга романа «КАЗНЬ ЕГИПЕТСКАЯ», в которой «Офицерский СоборЪ» продолжает книжную серию «ХХ век в романа Николая Шахмагонова «Казнь Египетская», «Ярость благородная», «К земным звёздам», «Путь к Истине» и «Времена предстоящие».
С героями романа, пролог и первые главы которого мы предлагаем вашему вниманию, а также с сыновьями и внуками этих героев читатели уже встречались на страницах выпущенных в 2007 году романов «Ярость благородная» и «Офицеры России. Путь к Истине» Современный, взвешенный взгляд на события Первой мировой и гражданской войн позволяет понять наше великое, зачастую трагическое прошлое, чтобы вернее увидеть свои задачи в будущем. Главное в романе – осмысление места, которое занимало Русское офицерство в ходе событий прошлого. Перед нами раскрываются трудные судьбы династий защитников Отечества Российского. Это династии Теремриных, Ивлевых, Гостомысловых, Световитовых. Одни берут начало во временя Андрея Боголюбского, другие – в эпоху Иоанна Грозного, третьи – появляются на сцене при Екатерине Великой. Но все они объединены одним – служением Отечеству. Игорь Андрушкевич, принадлежащий к династии, подобной изображенным в романе, заявил на 1- м Съезде кадет России, что в его роду за пять столетий не было такого позора, чтобы кто-то из мужчин не служил России в армейском строю. У многих героев романа есть реальные прототипы, для раскрытия которых ещё настанет время.
Роман по-своему уникален. Наверное, это первая попытка связать вековую историю нашего Отечества судьбами наиболее ярких династий. Роман актуален, многие сюжетные линии его выписаны остро, захватывающе.
Николай Шахмагонов
КАЗНЬ ЕГИПЕТСКАЯ
(главы из романа)
«Война будет, великая война. По воздуху люди, как птицы летать будут,
под водою, как рыбы плавать, серою зловонною друг друга истреблять
начнут. Накануне победы рухнет трон Царский, измена же будет расти и
умножаться. И предан будет правнук твой, многие потомки твои убелят
одежду кровию Агнца такожде, мужик с топором возьмёт в безумии власть,
но и сам опосля всплачется. Наступит воистину казнь египетская!
Из пророчеств вещего Авеля-прорицателя
Государю Императору Павлу Первому.
Клятвопреступление
«Кругом измена, трусость и обман…»
Из дневника Государя Императора
Николая Второго
Генерал Рузских, один из самых активных заговорщиков шайки генералов и адмиралов – клятвопреступников, шёл на последний молебен последнего Русского Императора, свергнутого не без его прямого участия. Все были в храме. Он чуть запоздал. Уже прошёл в храм, тот, кого ещё вчера вся Россия почитала своим Государём, своим Отцом Земным и в котором видела как бы отражение Отца Небесного, уже прошли примчавшиеся на это печальное для Русских и долгожданное для врагов России омерзительное шоу думские питекантропы и не менее мерзкие генералы-предатели. Уже заняли свои места священники, приготовившиеся к исполнению обряда, необычного и непривычного для России.

Рузских специально запоздал. Оторопь брала, когда он видел заплаканные лица офицеров и местных жителей, с ужасом собиравшихся на молебен. Даже генералы Алексеев и Иванов, организаторы злодеяния, были мрачны, но не из жалости к Царю, а от мистического страха за свои судьбы.
Да и сам Рузских при всей своей низости, при всей своей алчной сущности, находился в нервозном состоянии. Нет, нет, да пробивал озноб до самых костей, и причиной его была вовсе не промозглая погода на станции Дно, а что-то непонятное, что-то диктуемое силами, неподвластными ему. Он с утра никак не мог согреться. Пить водку до молебна не решился, а чай не спасал, хотя он хватал крутой кипяток, рискуя ошпариться, и тщетно обхватывал пылающий, казалось бы, стакан.
Март в том году не баловал тёплыми деньками. И весна не сулила радости. Трагичен для России месяц март – сколько преступлений он уже принёс в минувшие годы! Сколько принесёт ещё!
Вот и храм. Вокруг пустынно. Все уже там, за стенами, где тоже, наверное, нет спасения от промозглой погоды, ибо изморозь этого мрачного и смутного дня не задержалась на лицах людей – она проникла в самые души.
Рузских уже поставил ногу на первую ступеньку широкой каменной лестницы, ведущей к входной двери, когда почувствовал на себе чей-то тяжёлый, испепеляющий взгляд. Он поднял глаза – до сих пор он шёл, глядя себе под ноги, словно опасаясь случайно встретиться взглядом со случайным прохожим.
– Что вы творите, иуды, что вы творите, ироды! Ведаете ли, что творите!? Остановитесь, пока не поздно, остановитесь, пока Господь не покарал вас за клятвопреступление, за отступничество от Помазанника Божьего, от Царя нашего Батюшки…
Рузских замер – перед ним был чернец с гневным лицом и жесткими глазами, словно прожигающими его из-под низко надвинутой чёрной шапки.
– Иль забыли клятву соборную шестьсот тринадцатого года? Иль забыли присягу Государеву и клятву на евангелие защищать Помазанника Божьего, не щадя живота своего? Власти захотели, богатств несметных, земли? Будут вам иудины сребреники по глотку, будет земли по глотку – подавитесь…
У Рузского пересохло в горле и потемнело в глазах. Он пошатнулся и упал бы, наверное, если бы не подбежал адъютант, отставший на несколько шагов.
Когда очнулся, никого уже перед ним не было, и он не мог с точностью сказать, был ли вообще кто-нибудь. Спросить у адъютанта не решился, слишком ужасным было то, что произошло. Голос чернеца стоял в ушах – «будет земли по глотку, подавитесь».
Точно в полусне он отстоял молебен, уже не смея радоваться организованному генералом Алексеевым мистическому шоу.
А вернувшись в свой кабинет после молебна Рузских увидел на столе два листка бумаги – на одном была напечатана Соборная клятва 1613 года - клятва пращуров за все поколения своих потомков в верности и преданности Русскому Престолу и вновь избранной Московским Земко-Поместным Собором всея Руси, а на втором – клятва, которую давали Русские воины – все, от солдата до генерала, своему Государю и Наследнику Престола. Он машинально прочитал прожигающие насквозь строки и, не удержавшись на ногах, обессилено опустился в кресло. Но листки с клятвами не отпускали. Они завораживали, они приковывали к себе и Рузских беззвучно шептал то, что было написано, приходя всё в больший ужас от содеянного.
Но, увы, это не было раскаянием, это было животным страхом и предчувствием чего-то ужасного.
«Клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови… Его Императорского Величества и Государства и земель Его врагов, телом и кровью… храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества верной службе и пользе государственной во всех случаях касаться может…

В чём да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключении же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь».
Быть может, в эти минуты ему вспомнилось, как он вместе с генералами Алексеевым, Даниловым и Лукомским, задержав эшелоны с преданными Государю войсками, заманивал Императорский поезд на станцию Дно, как издевался над Государём, требуя отречения, как вершил действия, недостойные не только генерала Русской Императорской Армии, но и вообще любой особи, почитающей себя подобием человека.
Он видел глухой укор в прекрасных, добрых глазах Государя. Он страшился его взгляда, и все преступные действия свои творил с особой разнузданностью, дерзостью и хамством.
Нет, раскаяние не наступило. Уже на следующее утро он снова было тем же хамом и мерзавцем, тем же держимордой, коим был прежде, тщательно скрывая эти дурные качества до тех дней, когда они оказались востребованными шайкой бандитов, именовавших себя государственной думой – жадной стаей, пустившей под откос пусть раненую, но могучую Империю в марте 1917 года. Эта шайка настолько прогневала Господа своей подлостью, что он попустил изъятие из среды Удерживающего – удерживающего от хаоса, анархии, мракобесия и крови. Ведь именно Русский Государь Промыслом Божьим является таковым Удерживающим.
А уже в октябре семнадцатого красная метла смела всю эту шайку, возведённую на высоту государственной власти Рузским и его страшной компанией. И он вместе со всей этой компанией пошёл на борьбу с красными, но на борьбу не за восстановление Православного Самодержавия, а на борьбу, неведомо за что, ведь направляли эту борьбу чёрные силы из-за кордона, направляли всё те же бандитские государственные формирования, которые не раз до того пытались стереть с лица земли Россию. Они известны многими своими подлостями, в том числе и самой близкой по времени, ещё незабытой Крымской войной.
Рузских не раскаялся. Тем более, с ним ничего не случалось, и пусть не завоевал себе своим предательством особых благ, он всё ещё надеялся завоевать их с помощью врагов России. Ничего не случалось с ним, быть может, потому, что Господь милостив, и давал ему последний шанс – этим шансом было известие о милосердном прощении его преступления Самим Государем Николаем Александровичем, которого тщетно именовали бывшим Царём, тщетно, поскольку Царь России даётся от Бога и только Всемогущий Бог может решать, как следует именовать Его Помазанника – Царём или бывшим Царём.
И когда надежд на раскаяние не осталось, свершилось пророчество…
В страшный год гражданской войны генерал Рузских был захвачен в Пятигорске красными комиссарами. Их руками была свершена кара Господняя. Те, кто пытал и истязал генерала, быть может, и понятия не имел о том, что жалкая особь, оказавшаяся в их руках и сразу забывшая про свою спесь, особь, молящая о пощаде, есть высокомерный генерал, дерзнувший хамить Царю и издеваться над Царём в трагические мартовские дни 1917 года.
Понял ли он в последние минуты своей преступной и жалкой жизни, какой грех совершил, бросив первый камень в Помазанника Божьего, а стало быть, и в самого Господа, ибо ещё Дмитрий Ростовский говаривал, что хула на Царя есть хула на Самого Господа. А тут уже не хула, тут хамство, насилие и преступление.
Его приволокли еле живого, уже неспособного даже молить о пощаде к подножию знаменитого Машука. И там набив рот землёю, которую он так жаждал поделить с иноземцами, живым закопали в эту землю, ещё помнившую великого Лермонтова, поручика, стоявшего выше многих генералов не русского, а алексеевско-рузского разлива.
Революции не делаются во имя народа, революции вершатся во имя удовлетворения алчных потребностей того, кто их делает, и их хозяев.
За грехи, великие грехи отступления от Православия, от Самодержавия и от Помазанника Божьего, был изъят из среды Удерживающий!... И наступила Казнь Египетская…
Протоиерей Иоанн Восторгов в неделю мясопустную 25 февраля 1918 года к годовщине революции писал в журнале «Церковность».
«Русская монархия, обвеянная верой и мистическим Божественным помазанием… имела великие задачи, величайшее призвание Божие, величайшее религиозное предназначение, которое заставляло многих служить ей религиозно. Другой власти уж так служить нельзя… Она уповала на дворян, им больше всего давала и преимуществ в жизни, а дворяне её предали и продали, и они-то образовали вместе с интеллигенцией, главным образом из своего состава, такую политическую партию, которая сто лет (с мятежа декабристов – Н.Ш.) развращала народ, боролась за власть и тянулась жадно к власти, не разбирая для того средств, а потом подготовила народное восстание, хотя и сама погибла, по Божьему Суду, под обломками великого падения старого строя.
Монархия опиралась на чиновников, а чиновники оказались наёмниками, и с величайшей лёгкостью все перекрасились и перекрашивались в какие угодно цвета, лишь бы сохранить своё положение. Она опиралась на буржуазию и богатые классы, поддерживая всячески их благосостояние и капиталы, а буржуазия своими деньгами, наживаемыми под покровительством монархии, питала только её врагов.
Она уповала на страшную силу армии, а вожди армии изменили, а офицеры год тому назад, у нас перед глазами катили на автомобилях, увешанных солдатами, студентами и курсистками, при общих кликах улицы, – катили с красными флагами восстания и праздновали… канун собственной, самой страшной своей гибели.
И вот, – свершилось! Суд Божий возгремел.
И Боже, Боже! Какой страшный за этот год свершился Твой Правый Суд. Все получили возмездие и ковали его себе – собственными руками.
И в годовщину революции я раскрываю третью главу таинственной книги. Она имеет надпись: «И окончательная, предопределённая гибель постигнет опустошителей…» (Дан. 9,27).
И наступила казнь египетская!..
Глава первая
Поздние летние сумерки вяло и неспешно густели до того непроглядного состояния, которое можно было бы назвать ночною мглою. Это августовские ночи бывают черным черны, если не вызвездит небо в ясную погоду, если облака закрывают ночные светила. Ночи сердцевины лета зыбки и непрочны, а так бы нужна была именно сейчас тёмная-тёмная ночь. Но нужна была она не для дел злодейских, а для свершения праведного.
Так думал генерал Василий Порошин, осторожно пробираясь пустынными городскими улицами к разрушенному зданию заводоуправления, столь же разрушенного и искорёженного завода, как и вся великая, много страдальная Россия. В едва уцелевшем и заброшенном подвальном помещении заводоуправления был назначен сбор всей его боевой группы.
Город был в руках красных, хотя всё чаще и чаще долетали с востока отзвуки артиллерийской канонады, словно отзвуки отделённого грома, который должен был рано или поздно грянуть над этим городом. Но Порошин не был уверен, что тот гром будет праведным, как не уверен, что делают праведное дело те люди, которые наступают на город и на плечах которых такие родные погоны – отличие доблести, чести и славы русской армии, но погоны, ныне посрамлённые генералами-предателями, свергшими по заказу думских деляг Государя-Императора. Да, они были посрамлены изменой Самодержцу Российскому, забвением праведной веры, неотделимой от повиновения Помазаннику Божьему, а теперь вот и сговором с врагами Святой Руси, готовыми растерзать её и разделить между собой.
Порошин знал очень и очень многое по сравнению и со своими бывшими сослуживцами и с теми, кто становился сослуживцами новыми. Но и он не в состоянии был предвидеть всего того, что ждёт раненную на взлете Россию. Он шёл к месту сбора своего небольшого боевого отряда, чтобы возглавить выполнение задания, вполне ему ясного и понятного – не ясно и непонятно было одно: почему это задание ему поручено не теми, кто сейчас наступал на город, а тем, кто безоговорочно встал на сторону, противоборствующую этим наступающим. Отряд Порошина должен был освободить из наскоро устроенного в городе острога людей, заточённых новой комиссарской властью, которая уже приговорила их всех к поголовному жестокому истреблению. Но удивительным было то, что именно от человека, формально принадлежавшего к этой власти, хотя и находившегося не на первых ролях, исходило поручение, которое предстояло выполнить Порошину.
И вот он, Василия Порошин, генерал Русской армии, пробирался, как тать, по родной земле, по улочкам небольшого города, словно вымершего в далеко ещё не поздний час, чтобы исполнить поручение человека, которого лично знал и по учёбе на спецфакультете Николаевской академии Генерального штаба, и по службе в Регистрационном бюро Генерального штаба. Ему ещё не было понятно, какую роль играет тот человек в новой, поистине бандитской власти, но он верил ему, потому что тот человек был из той же колыбели, из которой вышел он сам. А в той колыбели подлецов и предателей практически не встречалось. Да и задание само свидетельствовало о том, что человек тот радеет об Отечестве и о людях, жизнь коих принадлежала Отечеству.
Порошин был одет в красноармейскую форму. Собственно, к красноармейской её можно было причислить лишь благодаря пентаграмме, приколотой на фуражку, ибо больше никаких знаков различия ещё придумано не было, как не было ни чинов не званий, кроме самых простейших – комроты, комвзвода, начдив... Да и армии-то самой, по существу, не было, во всяком случае, в масштабе всей страны, названной как-то безобразно-странно – республикой. Самодержавие рухнуло, и всё, что теперь оставалось от него на необъятных просторах России, могло легко превратиться в дырку от бублика для коренного населения и в бублик для тех, кто сейчас рвался на эти земли, коварно взгромоздившись на плечи белых армий.
Порошин прибыл на место первым. Вслед за ним, один за другим, с равными, заранее определёнными интервалами, подошли все, кого включил он в этот отряд – все восемь полковников, частью его подчинённых, частью известных ему по службе в Регистрационном бюро генерального штаба. Всех их забросила судьба в этот небольшой город, потому что здесь было расквартировано то учреждение бывшей царской армии, которое осталось на Русской земле, и люди которого предпочли отстаивать границы России, будучи даже не согласны с теми, кто олицетворял новую бандитскую власть.
У каждого была своя судьба, у каждого был свой путь. Порошин твёрдо знал только одно – у каждого из восьми офицеров путь этот был честным. Это особенно важно потому, что дело, которое предстояло сделать, требовало полной самоотверженности и полной преданности истинной Православной России, которая сейчас существовала лишь в сердцах русских.
Они сходились к месту сбора осторожно, тайно не потому что боялись той власти, которая внешне господствовала в этом городе. Они были настолько высоко подготовлены, что, если бы возникла необходимость, справились бы не только со взводом или ротой, но, пожалуй, и с батальоном того сброда, который эта власть тужилась именовать рабоче-крестьянской армией. Армией это ещё не было, ибо сборище из числа дезертиров, бежавших с фронта, отнюдь не по причине своей храбрости, из числа ленивых батраков, покинувших хозяев, да и просто деклассированных элементов, жадных до чужих богатств, не могло быть армией. Тем более, собирал этот сброд под знамёна профессиональный бандит, грабитель и террорист, заброшенный из-за океана с компании подобных ему ублюдков и питекантропов, как их точно назвал спустя многие годы Иван Лукьянович Солоневич.
Порошин знал, что тот человек, который поручил ему столь ответственное задание, действительно собирает силы, способные не грабить, а защищать границы от международных грабителей, идущих вслед за белыми армиями, и он верил, что Россия не может погибнуть, а раз она не может погибнуть, значит, кто-то должен избавить её от этой гибели. И он верил, верил и надеялся, что избавителем будет именно тот человек, который направлял его сегодня на невероятно сложное и ответственное задание.
– Господа офицеры, – вполголоса начал Порошин. – Настал час, когда мы можем послужить России в это сложное и драматическое время. Романтик назвал бы его звёздным часом. Но сегодня не до романтики. Мы идём спасать узников, на спасение коих нас благословляет митрополит……
Он сделал паузу и с удовлетворением отметил, что ни один из офицеров не спросил, кто направляет на это задание и кого необходимо спасти – перед ним были профессионалы, которые привыкли не задавать лишних вопросов. В разведке это не только не принято, в разведке это преступно, ибо каждый должен знать только то, что ему положено знать, а круг того, что знать необходимо, очерчивает тот, кто ставит задачу.
– У вас всё готово? – спросил он у худощавого рослого полковника, не называя его имени.
– Так точно…
Собственно, он бы мог назвать имя, поскольку в отряде каждый знал его брата, полковника Геннадия Порошина, сотрудника Регистрационного бюро генерального штаба, то есть органа, заложившего основы разведслужб будущей армии, призванной отстаивать территориальную целостность России. Он не уточнил, а Геннадий не доложил ему о том, что в импровизированном остроге, где содержались узники, предварительная работа завершена.
А работа была не столь уж необычной для разведчика. Геннадию Порошину удалось завербовать одного из руководителей охраны острога, из числа ублюдков и питекантропов, которые сами себя именовали большевиками и комиссарами. Этот деклассированный элемент был взят под наблюдение, и вскоре удалось получить неопровержимые доказательства о том, что он растрачивает выделяемые подчинённому ему ведомству совдеповские средства. Тратил же он их на личные прихоти, которые, по его развитию, не были уж слишком изощрёнными – всё те же кабаки, всё те же кутежи, все те же деклассированные элементы, лишь внешне принадлежащие к прекрасному полу. Ему разъяснили, что данные о нём, если их показать новой власти, закончатся тем, что шлёпнут его по скоротечному приговору, особо не разбираясь в тонкостях дела – жизнь в то время была даже не копейкой. Жизнь человеческая в то время вовсе ничего не стоила.
Вот и пришлось этому питекантропу сообщать Порошину всю информацию, касающуюся и самому импровизированному острогу, и порядку содержанию узников, и системе охраны.
При следующей встрече Геннадий Порошин изложил план, который заранее до мелочей продумал и обсудил с братом.
– Вам будет сообщено время нападения на острог с целью освобождения узников. Ваша задача: после получения этих сведений перевести узников в цокольный этаж, где замурованы окна, оставить их там, чтобы не пострадали во время штурма.
Питекантроп был крайне удивлён – он рассчитывал, что ему как минимум велят освободить узников, что он сделать, конечно, не мог.
– И всё?
– Нет, ещё не всё… Если сделаете, что сказано, получите хорошее вознаграждение, если нет, то…
– Знаю, знаю – не дурак.
– Да, да, вы правильно понимаете – если вас не ликвидируют ваши начальники, то… – прибавил для пущей важности Геннадий.
– Понял… Сделаю всё, конечно, сделаю… Только дайте информацию и всё сделаю.
– И ещё… Если хотя бы волос упадёт с головы узников, я вас лично достану, где бы вы не пытались скрыться.
– Понял. Всё понял, – повторил питекантроп.
– У вас ведь есть инструкция, как поступать, если узников попытаются освободить? Так вот, если они когда-то освободятся каким-то образом, вы доложите, что выполнили инструкцию в точности. Ну а тела – тела ликвидировали.
– А что, кто-то может освободить?
– Не задавайте лишних вопросов. Слушайте, что вам приказывают и что советуют. Это необходимо для того, чтобы ваше тело не пришлось ликвидировать…
Питекантроп оказался окончательно запутанным. Он твёрдо знал лишь одно – знал, что нужно сделать с узниками, если возникнет угроза нападения. Была, конечно, мысль известить своё руководство обо всём этом, но, поразмыслив, он решил, что если даже начальство помилует его за растраты, то эти странные, неведомо откуда взявшиеся люди, рассчитаются с ним – уж от них пощады ждать точно не придётся. Он так и не понял, будет ли штурм, и каким образом при штурме он сможет сделать так, чтобы ни один волос не упал с головы узников. Сколько ни размышлял, ни к какой разгадке не пришёл. Решил не ломать голову. В конце концов, ему обещали вознаграждение за не очень сложную в общем-то операцию.
Все эти детали были известны генералу Порошину, но доводить их до офицеров нужды не было. Он сказал только о том, что касалось каждого.
– Мы находимся в здании заводоуправления. Из подвала заводоуправления прорыт подземный ход сообщения в подвал дома, в котором сейчас содержатся те, кого нам предстоит спасти. А из подвала острога, в свою очередь, сделан поземный ход в лес, за черту города. Это всё соорудил владелец завода, напуганный революцией пятого года. Наша задача: выдвинуться по ходу сообщения в подвал дома, и через люк проникнуть в комнату цокольного этажа. Узники будут находиться за дверью, которая закрыта и опечатана. Комендант дома считает, что в тёмной комнате хранятся старые личные вещи хозяина, у которого этот дома забрали под острог. С помощью нехитрой операции, заранее продуманной, дверь легко снимается, мы врываемся в помещение, где будут находиться узники, и ликвидируем стражу. Затем, спускаем узников в подземный ход и выводим их за город, в лес. Пути отхода минирует полковник Порошин!
Генерал традиционно спросил, есть ли вопросы. Вопросов не было. Тогда он предупредил:
– Среди узников есть женщины и дети. Это накладывает на нас особую ответственность, – и, взглянув на часы, закончил: – Получите оружие.
Из тайника были извлечены девять кольтов двенадцатого калибра.
– С Богом! Вперёд!
***
Полковника Регистрационного бюро Генерального штаба, а точнее уже бывшего бюро бывшего штаба, Афанасия Петровича Ивлева судьба занесла в уральский город после того, как он хлебнул революционного горя по самую завязку. В этом городе он совершенно случайно встретил однокашника по Воронежскому кадетскому корпусу Геннадий Порошин, тоже в недавнем прошлом служившего в Регистрационном бюро.
Разговорились. Ивлев рассказал о своих злоключениях, поделился мыслями о том, что не лежит душа к службе у белых, поскольку белые под явным и неусыпным контролем офицеров стран Антанты. Тогда-то Порошин и предложил участвовать в сложной и совершенно секретной операции, суть которой раскрыл лишь в части касающейся. – Основную часть операции проводит мой брат генерал Порошин со своими людьми. Я вхожу в его группу, – пояснил Геннадий.
– Какова моя задача? – спросил Ивлев.
– Ты же прекрасно водишь автомобиль.
– Во всяком случае, умею управлять, – ответил Ивлев.
– Так вот, твоя задача завтра утром получить грузовой автомобиль там, где я укажу, и, стараясь не привлекать внимания, выехать из города. К исходу дня ты должен подать автомобиль в точку, указанную на карте. Там тебя будут ждать, – и Порошин назвал пароль и отзыв, который должен будет услышать Ивлев.
– И всё?
– Будешь ждать нас там. Затем уже поставит задачу мой брат генерал Порошин.
– Туманно…
– Поверь, большего сказать не могу, – молвил Порошин. – Но имей в виду: ты будешь участвовать в операции важнейшей, причём, по благословению митрополита Макария. Будь внимателен. Не приведи за собой хвост. Хотя, по нашим данным, большевистские власти об операции не подозревают. И всё же постарайся не привлекать внимания. Не так много в городе автомобилей.
– Я тебе верю, а потому готов, – сказал Ивлев.
В назначенный час он прибыл в рощу за городом. Там его встретил офицер, которого Ивлев прежде знал лишь в лицо. Обменялись паролем и отзывом, но разговаривать не разговаривали. Офицер указал место, где поставить машину, которую тут же замаскировали. По едва уловимым признакам Ивлев определил, что организована круговая оборона рощи. Неподалёку занимал позицию пулемётный расчёт. Ивлеву были любопытны приготовления, но он спросил лишь об одном:
– Какова моя задача?
– Ждать…
* * *
В подземном ходе пахло плесенью. Не только отдавало могильной сыростью, но ощущалось, что одновременно и сыро, и душно – сочетание редкое. Наверное, это хуже, чем в шахте, ведь вентиляционные колодцы, если и были, то лишь в очень небольшом количестве – ведь главная ценность хода, кое где уже от времени превратившегося в лаз, была в его скрытности. Свет фонарика выхватывал крепёжные столбы.
Операция была далеко не безопасной. В этом замкнутом пространстве отряд терял свои преимущества, ибо свои боевые возможности офицеры реализовать не могли. Если бы кто-то узнал о них, мог бы, просто-напросто, взорвать во время перехода и похоронить под землёй в этой братской могиле.
Пробирались долго или только казалось, что долго, но, наконец, генерал Порошин сделал знак, и все остановились. Задачи он распределил заранее. Его брат осторожно приподнял люк, и все поочерёдно поднялись в комнату. За дверью было тихо, но Порошин знал, что ещё не настал обусловленный час, когда в комнату, что находилась за дверью, должны привести узников.
Он, конечно, предполагал, что всё может сложиться иначе, не мог не учесть и того, что питекантроп, с которым велись переговоры, возьмёт да сообщит обо всём командованию. Вот тогда кольты двенадцатого калибра пригодятся как нельзя лучше, ведь придётся самим ликвидировать охрану, причём всю до единого человека. Но это – не лучший вариант развития событий: узники могли пострадать. Правда, и тут можно было рассчитывать на внезапность. Уже стало ясно, что о подземном ходе никто даже не подозревает. Иначе бы им уж наверняка приготовили бы встречу.
Наконец, за дверью послышался шум, прозвучали резкие грубые, издевательские окрики, донеслась площадная нецензурная брань. Порошин подождал ещё несколько минут, пока всё успокоилось. Он пытался предугадать, у которой из стен разместили узников, и где расположилась охрана. В комнате было темно, жестом команды не подашь, но и это заранее предусмотрели. Порошин коснулся плеча своего брата, тот передал условный сигнал по цепочке остальным. Сигнал означал: приготовиться. Теперь можно было применить лишь один принцип – делай, как я.
Удар в дверь, и впереди открылась комната. Порошин предугадал точно. Охранники оказались справа от него. Прогрохотали выстрелы из кольтов, и два или три выстрела в ответ, точнее не в ответ – не в сторону отряда, а по узникам. Но всё произошло в мгновения. Охранники валялись, искорёженные пулями двенадцатого калибра. Была бы шире дверь – ни один бы из них не выстрели. Но…
– Раненых на руки. Быстро, уходим…
И услышал женский голос:
– Это промысел Божий. Я верила…
Пока одни спускали узников в подвал, другие заняли оборону, на случай, если кто-то сунется в помещение. Задерживало то, что мальчик лет пятнадцати и девушка чуть его постарше были ранены. Но перевязывать было некогда. Их спустили в подвал и понесли по ходу. Следом в подвал спрыгнули офицеры отряда. Последним отходил Геннадий Порошин. Он уже слышал топот ног охраны.
Аккуратно затворил дверь, с таким расчётом, чтобы преследователи потеряли ещё какие-то мгновения на размышления, что произошло, и куда делись узники. Затем спустился в подземный ход и привёл в боевое положение загодя установленные мины.
Наверху шум нарастал. Кто-то ругался, кто-то кричал, кто-то командовал. Уже завернув за поворот коленчатого подземного хода, услышал крик:
– Скорей, сюда… здесь подвал… Ход… Ушли гады…
Преследователи не сразу нашли люк, поскольку Порошин опустил его так, что утварь комнаты завалила его. Когда же нашли, кто-то стал спускаться. Впрочем, кто спустился и сколько человек, понять уже было трудно. Преследователям открылись два хода, а потому они наверняка разделились. Тем, кто отправился к заводоуправлению, повезло. Те же, кто направился за отрядом, нашёл свою могилу… Взрыв, приглушённый изгибами хода, прогремел, обрушивая подземное сооружение на большом протяжении. Пахнуло пороховым дымом и гарью. Обрушенный участок скрыл все шумы в подвале дома. Первую часть задачи отряд выполнил.
* * *
Стояла тёплая летняя ночь. Ивлева начинала занимать эта непонятная обстановка. Он пытался рассмотреть хоть что–то впереди, где угадывалась дорога, ведущая в город, но всё было тихо. Да и городские окраины притихли, погасли огоньки домов.
И вдруг, в нескольких метрах от него, там где, как он заметил, был небольшой холмик на опушке поляны, что–то треснуло, зашуршало, и словно из–под земли стали появляться люди.
«Подземный ход? Вот это здорово. Даже я ничего не заметил», – подумал Ивлев и тут же услышал голос Геннадия Порошина:
– Афанасий, ты здесь!? Заводи.
Ивлев прыгнул за руль, и услышал шум, который производили усаживающиеся в кузове люди.
– Осторожно, раненых сюда, на солому. Аккуратнее…
– Вперёд, Гена, вперёд. Садись за руль. Я здесь поеду, в кузове, – послышался голос Порошина.
Ивлев уступил место водителя. Кто–то из офицеров быстро установил пулёмет, укрепив его на капоте. Лобовое стекло опустили.
– Не разучился стрелять? Помню, ты и в корпусе и в юнкерском училище первым пулемётчиком был, – сказал Геннадии Порошин.
– Не волнуйся, – успокоил Ивлев.
По крыше кабины ударили два раза.
– Ну, с Богом! – молвил Порошин, и машина тронулась.
Ехали тихо. Порошин пояснил:
– В кузове раненые… Двое. Паренёк и девушка.
Ивлеву хотелось спросить, кто они, но он спросил:
– Как это случилось?
– Не обошлось без потерь. Собственно, трудно было рассчитывать, что обойдётся, – сказал Порошин. – Но делать нечего. Помедли мы ещё денёк – другой, и спасать было бы некого. Операция не так уж и проста. Нужно было подобрать надёжных людей. Брат взял меня и ещё семь полковников из числа своих прежних подчинённых. Все, как ты понял, разведчики. Задада: освободить группу людей, поверь, очень, очень важных. Ты извини, но я даже тебе не могу назвать их.
– Понимаю.
– Ну а сама по себе операция секрета не представляет. Содержали тех, кого мы спасли, в доме, превращённом в крепость. Усиленные караулы, пулемёты, словом всё необходимое для отражения штурма. Вполне понятно, что любой штурм мог закончиться гибелью тех, ради кого он предпринимался.
– И что же? – спросил Ивлев, мерно покачиваясь в такт вздрагиваниям машины на ухабах.
Разговор был неспешен, поскольку дорога ждала, как видно, дальняя.
Геннадий Порошин рассказал об операции и спросил:
– Ты видел, откуда мы появились?
– Видел…
– Его, как ты понял, мы и использовали.
Порошин некоторое время молчал, а потом сказал:
– Ты даже представить не можешь, кого мы спасли. Бог даст, когда–то о том узнаешь, но, увы, думаю, что случится это очень и очень не скоро. И прошу тебя, раз и навсегда забудь о сегодняшнем дне, о той операции, в которой участвовал. Накрепко забудь. Когда узнаешь, насколько это важно. И я забуду, забуду дол той пору, которая, верю ещё настанет!
– Мог бы и не предупреждать, – сказал Ивлев.
Ехали долго. Нелёгким был путь. Машина, натружено гудя мотором, с трудом преодолевала дороги, знавшие прежде только гужевой транспорт.
И вдруг по крыше кабины трижды стукнули. Геннадий остановил машину. Через минуту на подножку к нему поднялся генерал Порошин.
– Приветствую вас, Ивлев. Прошу извинить, что не подошёл сразу.
– Что вы, Ваше Превосходительство. До того ли, – отозвался Ивлев.
– В любом случае, благодарен вам за то, что приняли участие в этом деле, – и тут же, не дожидаясь ответа, обратился к брату: – Дела плохи. Раненых дальше везти нельзя. Придётся оставить здесь.
– Где же? – удивился Геннадий, осматриваясь.
Генерал Порошин раскрыл карту. Светало, но в предрассветной пелене ещё не различались знаки. Геннадий посветил фонариком.
– Ивлев, слушайте. С ранеными оставляем вас. Вот, высота с отметкой… Далее, за рощей, болото. Через него – гать. Её на карте нет. Проводник мне рассказал. В случае чего, можно уйти от преследователей по гати. Разведайте заранее. Если придётся отходить по ней, подорвёте. Я оставил гранаты. Раненых разместите в стогу сена. От него, в случае чего, по ложбинке можно уйти к гати.
Он сделал паузу, размышляя, не забыл ли чего, и, наконец, молвил:
– Да, понимаю, что всё это не очень здорово, но дальше лесисто–болотистая местность, сырость… Да и для манёвра вообще нет никакой свободы. С вами остаются два моих офицера. Больше дать не могу. Да и смысла нет. От случайностей убережётесь, ну, а если комиссары узнают о вас, то и полка для охраны мало будет. Но, полагаю, они уже нас потеряли. Иначе бы погоня началась сразу после операции.
Порошин вполголоса произнёс фамилии, и два молодых человека в военной форме, но без погон, подошли к Ивлеву, который уже стоял возле генерала. Они были из числа тех, кто обеспечивал операцию, находясь в лесу. Основные её участники оставались в машине.
– Поступаете в полное распоряжение полковника Ивлева. Задача вам ясна. Ни один волос не должен упасть с головы тех, чьи жизни вручены нам.
А между тем с машины уже сгрузили раненых. Возле них появились контуры женской фигуры.
– Оставляем раненых и ещё одну девушку для ухода за ними.
Кто–то приглушённо всхлипывал, кто–то шептал слова напутствия.
– Нам пора, – сказал генерал Порошин, занимая место Ивлева рядом с водителем, у пулемёта. – За вами придут, – сказал он и назвал пароль и отзыв.
Машина, всё также натружено гудя мотором, медленно двинулась по дороге.
– Пока остаётесь здесь. Следите за дорогой. Я размещу раненых и подойду. В случае чего, дадите сигнал фонариком.
Всё ещё нельзя было исключить погони.
Он подошёл к раненым. Две девушки стояли на обочине. У одной были перебинтованы руки. Паренёк сидел, прислонившись к стволу дерева. Ивлев нагнулся и взял его на руки.
Стог сена поразил ароматом разнотравья. Ивлев вспомнил родное поместье, сожженное комиссарами, вспомнил, как в детстве лазил по стогам с деревенскими мальчишками.
Медленно светало. Уже можно было рассмотреть своих спутников. И девушки, и мальчуган были в скромных нарядах. Разве только тонкие черты лица и манеры поведения даже в этой, необычайной для них обстановке, выдавали аристократическое происхождение.
Впрочем, Ивлев не слишком вглядывался в их лица, не слишком рассматривал их. Он усадил паренька, подложил ему под спину сена и посоветовал заснуть.
– Благодарю вас… Постараюсь, – ответил он. – Вот только сестрица перевязку сделает.
– Я вас оставлю на несколько минут, – сказал Ивлев и направился к дороге, где оставил офицеров.
Он понял, что они, как и он, скорее всего не знают, кто находится у них под охраной, и оценил мудрость Порошина. Если нужно соблюсти тайну, стало быть, надо обеспечить её соблюдение всеми средствами. Если нельзя посвящать большое количество людей в то, кто спасён из комиссарского плена, значит, и ему, Ивлеву, и тем двум молодым офицерам, знать об этом не следует. Ведь знают они или не знают, защищать будут одинаково, защищать так, как того требует долг Русского офицера, то есть до последней капли крови.
Лишь через два дня пришли от Порошина люди, а привёл их однокашник Ивлева по кадетскому корпусу Гостомыслов. Девушек усадили на лошадей, паренька Ивлев взял с собою в седло, но вскоре стало ясно, что и этот транспорт раненому не подходит. Пришлось спешиться.
– Я пронесу его на руках, – сказал Ивлев.
– Далече нести, барин, – сказал проводник, пришедший с Гостомысловым.
– Ничего страшного… Я справлюсь.
За два дня, которые недавние узники провели на опушке леса, Ивлев сдружился с пареньком. Они беседовали о литературе, о театрах, об армии, и мальчик поражал своими знаниями и своею осведомлённостью в самых различных областях. Но одно дело беседовать, удобно устроившись на душистом сене, другое – в дороге.
– Носилки бы сделать, – предложил проводник.
– Надо уйти подальше от дороги, – поторопил Ивлев. – Потом разберёмся.
Паренёк, понимая, видимо, что нести его не легко, через некоторое время, когда Ивлев совсем уже выбился из сил, властно потребовал, чтобы усадили на лошадь. Пришлось чередовать способ передвижения в зависимости от дороги.
Пока шли через лес Ивлев, желая хоть как–то отвлечь мальчишку, страдавшего от боли, рассказывал ему разные истории. Шли долго, шли лесными тропками, сторонясь дорог. Делали привалы, дневки и снова шли. Когда Ивлев выбивался из сил, его подменял Гостомыслов, но мальчик чувствовал себя комфортнее на руках Ивлева и тот старался снова взять его.
Наконец на таёжной дороге их встретили подводы.
– Будем прощаться, – сказал Гостомыслов. – Дальше нам нельзя. В деревню они должны прибыть без нас, чтобы крестьяне выдали их за своих родственников. Иначе всяко может быть.
И вот когда прощались, мальчик протянул Ивлеву своё фото и каким–то не совсем детским, а несколько даже начальственным голосом сказал:
– Дарую вам портрет свой в благодарность за оказанную мне и Отечеству услугу!
А потом все–таки не удержался и обнял своего спасителя, точнее одного из своих спасителей, словно в его лице выражая благодарность всем, кто рисковал жизнью в этой операции, тайна которой открылась Ивлеву очень и очень не скоро…
Ток-шоу марш "Бессмертный полк"
Статьи Дилетанта
В этой небольшой статье , я выражу свое мнение по поводу марша «Бессмертный полк» . Причем я на нем не настаиваю . Это исключительно мои наблюдения и впечатления.
За несколько недель до парада Великой Победы, по телевизору многократно прокручивали репортажи с репетиций . Показывали зачехленную технику , которая должна была поразить мир своим совершенством и новизной. Вообще , то , что я увидел уже на параде впечатлило ! Для страны , в которой любые свершения представляются в будущем времени (мы должны начать.. мы должны строить .. мы должны начать понимать … и т п ) , это было великолепно ! Великолепно до тех пор , пока не двинулись маршем трудящиеся с портретами своих дедов и прадедов. Казалось бы , ничего особенного . Марш памяти .. И если не замечать в этой огромной толпе людей, слащавых малюток пяти шести лет, одетых в солдатскую форму образца сороковых , с прикрепленной Георгиевской ленточкой , то все как всегда.. Вот только мое настроение становилось хуже и хуже. И причиной этому , была неискренность , которая полилась с экрана потоками. Я вглядывался в лица людей и видел в них безразличие и даже тоску. Ну а уж после того , как на экране появились , те кто взял телевидение на прокат , стало совсем невыносимо.

По каким причинам и исходя из каких соображений , в качестве комментаторов были выбраны полит. шоумен Соловьёв , из которого периодически перла глупость и «народный любимец» Михалков ? Эти двое «небожителей» , напоминали обкурившихся студентов . Они столько раз повторили слово «народ» , что становилось совершенно очевидным — к этому народу , они никакого отношения не имеют.
Соловьёв , в припадке искусственного восторга ,ляпнул примерно следующее - «страдания Донецка , никак нельзя сравнить со страданиями людей переживших эту страшную войну» . Михалков привычно травил байки про своего отца , который удачно вписывался во все линии партии и правительства. Тихое журчание этой двойки , разбавлял Корчевников , который метался среди толпы с энергией молодого сексуально озабоченного кобеля и задыхаясь возбуждал в ней патриотизм . Надо отдать должное доброте наших людей . Они всячески пытались ему в этом помочь но .. Невозможно стать патриотом за один парад или марш. И как бы Соловьёвы и Михалковы не старались а они вообщем-то и не очень старались , уже завтра большинство из них , забудет и парад и транспарантики с фото и заученные тексты о подвигах родных не вернувшихся с войны..
Герой, которого мы любили
Сегодня совершенно случайно узнал что на Украине снесли памятник разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову. Очень опечалил тот факт , что произошло это накануне 70-летия Великой Победы . Примерно год назад , добрый друг нашего сайта, историк,журналист и краевед Людмила Федоровна Важенина , выслала мне рассказ об этом замечательном человеке . Однако по невнимательности я его считал потерянным. И вот сегодня , совершенно кстати он нашелся ...
Легенды нашего двора.
В начале 60-годов, когда основная часть города заканчивалась улицей Холодильной. И центральная улица города от железнодорожного переезда завода «Механик» густо застроенная частными домами с буйно цветущими в мае яблонями уже напоминала собой главную улицу райцентра.
Мы жили в трех кварталах от центральной улицы города – Республики и считали своей главной улицей Холодильную. На ней для нас построили шикарную трехэтажную школу. Наш двор примыкал одной стороной к школьному забору, другой -к глухой стене 15 автобазы, сзади его перегораживало 2-х этажное здание Росбакалеи и ограда с большими железными воротами, в которые постоянно въезжали закрытые брезентом грузовики, а с четвертой стороны двора находился сквер, заложенный рабочими завода «строймаш» на месте каких-то завалившихся хибар. В сквере были две карусели, на которых мы ежедневно крутились, и много тощих, хилых деревьев и кустиков.
В нашем дворе было 6 бараков, где проживало великое множество детворы. Раньше до 1949 года поговаривали взрослые в бараках, в которых сейчас проживали мы, была тюрьма для политических, отсюда и стройные ряды бараков и малое расстояние между ними. В каждой семье, а в каждом бараке проживало 12-15 семей, было по 2-3, а иногда и больше детей. И поэтому нам не хватало места для игр. Вместо детских площадок вокруг всех бараков были посажены маленькие огороды жильцов, а остальное пространство было занято, сушившимся в любую погоду, бельем. Казалась, бельевые веревки связывают бараки друг с другом. Наш ареал обитания был сквер и школьный двор.
В 1963 году, наконец, открыли 37 школу, счастью нашему не было предела. Не надо ходить за тридевять земель в скрипучую деревянную 12 школу, где постоянно случались стычки между строймашевцами и котельщиками.

В следующем году возле школы появился бюст Н.И.Кузнецова, знаменитого разведчика и пионерская дружина школы стала носить его имя.
В нашем дворе уже жил один разведчик, переводивший Зою Космодемьянскую через линию фронта. Но дядя Ваня Поспелков был тихим, седым человеком с вдавленной в плечи головой, к которому постоянно приезжала скорая помощь и частенько увозила его с собой. Короче, не похож он был на героя, а вот Кузнецов – орел. Зорко смотрел он с пьедестала на нас. Плечи у него были прямые, грудь колесом и гордо вскинутая голова. Вот он- то и настоящий разведчик. Мы это пытались показать дяде Ване, что не похож он на разведчика. Но наши отцы жестко пресекали все попытки скомпрометировать героя, говоря, что с его ранами он и так держится молодцом.
Почти все они прошли через жерла войны, многие были ранены. Но и их мы также не воспринимали героями. Дядя Коля Горчяков. танкист, проехавший на танке пол Европы, частенько в праздники, когда ему в чем-то перечили, кричал –«Я в Прохоровке не сгорел, на Днепре не утонул, а ты мне 100 граммов жалеешь!» Но это было в праздники, а остальное время мы его видели в синей робе тихого и аккуратного.
Дядя Толя Древаль, маленький, белый человечек, постоянно жил производственными заботами. Он работал на аэродроме техником. Чинил самолеты. Все заботы, по хозяйству и воспитанию троих детей, взяла не себя его жена Валентина. Огромная, громкоголосая женщина, которую побаивался не только дядя Толя, но и остальные мужчины нашего двора. В порыве гнева она иногда выговаривала мужу «За что меня Господь тобой наказал, был бы Иван жив, жила бы за ним, как за каменной стеной». Все в округе знали, что дядя Толя был механиком у Ивана. Когда Иван сгорел в своем самолете, тетя Валя написала дяде Толе письмо, в котором просила рассказать про последний вылет Ивана. С этого началась их переписка. Тетя Валя всю войну, как она говорила,»оттрубила» в одном из тюменских госпиталей, а когда война закончилась, то появился здесь «этот сумасшедший» и тетя Валя вышла за него замуж. Бросила медицину, нарожала троих детей и работала техничкой в магазине. Так ей было удобно. Проводит ребятишек в детсад и школу и побежала на работу, в обед снова встретила их дома, накормила и снова на работу. Дядя Толя сутками пропадал на своей работе, был неприхотлив ни в быту, ни в еде, всю получку отдавал жене. Вроде и не маленькая была у него зарплата, но все равно не хватало на эту ораву, поэтому тетя Валя и была так пристрастна к мужу, обвиняла его во всех грехах и что войны не нюхал, крови не видел, а всю войну просидел за самолетом. Мужики изредка заступались за дядю Толю, но и им попадало. Поэтому, заслышав очередной приступ бешенства у тети Вали, все старались не попадаться ей на глаза и зазывали ребятишек, вечно толкавшихся во дворе или коридорах, домой.
Одного мы считали смелым и отважным человеком – это дядю Сережу Марычева. Он служил на Балтийском флоте. Попал на фронт зимой 1942 года из блокадного Ленинграда. Сначала юнга, а затем и матрос торпедного катера. Мы любили вечерами слушать его бесконечные истории о погонях, штормах и бомбежках. Рассказывал дядя Сережа в основном о своих боевых друзьях, а сам он в этих походах лишь был матросом. Мы понимали, что в таких переделках, в каких был он, все проявляли чудеса отваги, чтобы потопить врага и живыми вернуться на берег. Одного мы простить не могли дяде Сереже – то, что его жена работала в морге. Даже их дочь из-за этого не принимали в свою кампанию.
Мои родители оба были фронтовиками, но и в них я не видела героев. Отец участвовал в одном только бою под Старой Русой, где полег их дивизион. И он единственный, кто остался в живых. Его участие в войне с Японией и Халкинголе я не признавала за геройство. Подумаешь - месяц боев. А мама была заправщицей самолетов, правда, на боевом аэродроме, но профессия-то мирная. Они были для меня обычными людьми. Даже мещанами. Однажды, когда по телевизору передавали торжественный концерт, посвященный дню Победы, при звуках Гимна СССР, я предложила им встать, но родители мирно продолжали сидеть за столом и потягивать горячий чаек. На мой протест, они ответили просто – это наш концерт и для нас,а в домашних тапочках на парад не ходят.
Бюст Н.Кузнецова перевернул нашу жизнь. Наконец-то, появился герой, которому можно подражать. Когда пионерская вожатая объявила о том, что нам нужно создать комнату боевой славы в школе, мы были полны решимости сделать все в кротчайшие сроки. Нашему классу поручили собрать материал, и все дети двора, которые учились в других классах, присоединились к поискам. То принесут вырезку из «Пионерской правды», то из «Комсомолки» или же выпросили у библиотекаря книгу Медведева «Сильные духом» и устроили громкие читки. Но материалов явно не хватало на комнату боевой славы. Тогда кто-то предложил съездить в музей Н.И.Кузнецова в Талицу. Рассказали об этой идее школьной пионерской вожатой, та поговорила с шефами и нам выделили бесплатно автобус. Но автобус выделили нашему 9-му «А» классу, а ехать хотели все дворовые. Снова пошли к вожатой. Та возмутилась, но мы упросили ее вместе с нами сходить еще раз к шефам. Сходили и вернулись окрыленными – автобусы будут для всех, но с условием, чтобы каждый, кто поедет, написал об этой поездке.

В следующую субботу во дворе царил переполох. Мамы наперебой наказывали тете Вале, которая вызвалась сопровождать детей в поездке, быть начеку именно с ее чадом и заставить его или ее поесть, как следует в столовой. Матери, не доверяя детям, собрали по рублю и отдали их тете Вале, чтобы та распорядилась ими. Когда подошли автобусы, настоящие туристические, со шторками на окнах и белыми чехлами на подголовниках высоких кресел, то все вдруг оробели и чинно без обычной суеты вошли в автобус или на нас подействовало присутствие родителей и громогласное командование тети Вали.
В теплом автобусе под рассказ экскурсовода о сибирском тракте все вскоре задремали. Нам хотелась слышать о Кузнецове, его подвигах, а нам рассказывали об истории края. Два часа поездки до Талицы были наполнены сладостью взрослого путешествия, даже тетя Валя на время замолчала. Экскурсия по музею в Талице распалила наше воображение. Да, это герой, даже все вещи здесь были геройскими. Вон, какие ели стоят прямо у входа. Даже раздевалка, и та непохожа, на наши городские раздевалки.
Еще больший восторг вызвало, то, что на обратном пути мы заедем в Зырянку, где прошли детские годы героя. Деревня стояла далеко от тракта. Само ее посещение вызвало некоторое замешательство. Дом как дом, многие из нас бывали в таких деревенских домах, да и какая-то убогость скользила в убранстве. Не может герой жить в таком доме. Да еще и имя ему здесь придумали –Никифор. Короче, все, не сговариваясь, вычеркнули эту деревеньку из геройских мест.
Наш штатный фотограф Юра Косухин нащелкал две пленки кадров в этой поездке. Фотографии получились хорошими, выдержка, и фокус были нормальными. Их хватало с лихвой, чтобы оформить уголок славы. Теперь очередь оставалась за нами – нужно написать о поездке. К пятнице ребята сдали свои листочки с сочинениями «Что мне понравилось в музее им.Н.И.Кузнецова». Александра Васильевна, учитель русского языка взялась за голову при виде такого количества сочинений. Но за выходной привела все в божеский вид и в понедельник листки, написанные ее красивым подчерком, в которых ребята излагали свое видение подвига разведчика и яркие оценки музея висели в актовом зале вперемежку с тремя ватманскими листами с фотографиями героя и описанием его жизни и подвига.
Вся школа ходила смотреть на этот, как мы громко его именовали, музей славы. Всем нравилось. Даже наши отцы сходили посмотреть, что за материалы собрали мы во славу Героя.
Летом случился конфуз. Я уже училась в выпускном 10 классе, как под осень приехал к нам брат отца. Надо сказать, что наша семья не была рады его приезду, и каждый раз, когда он приезжал, старались поскорее отравить его обратно. Он отличался от всех окружающих аскетизмом и явной нищетой в своей одежде, своей не всегда, даже взрослым, понятной речью и суждениями. С собой он возил огромный потрепанный рюкзак, набитый церковной литературой, бумажными иконами и прочей атрибутикой церковной принадлежности. Дядя Ваня, так звали брата отца, приехал днем. Нас не было дома, и он уселся посреди двора на лавочку ждать. Поинтересовался у сидящих там мальчишек, чей бюст стоит у школы. Мальчишки в подробностях рассказали ему о герое. Дядя Ваня внимательно выслушал их, задал несколько вопросов и сказал примерно следующие:
-На все воля Божья. Мы вместе с этим человеком готовились выполнить задание, на котором он погиб. Я шел первым, он – дублером. При выброске меня ранило, и он пошел на задание.
Мальчишки были возмущены. Как мог такой непонятный человек быть разведчиком, да еще первым номером. Они усомнились в правдивости рассказа дяди и, соответственно их возраста, надерзили. Реакция незнакомца также поразила их. Он не стал читать мальчишкам нравоучения, а призвал к смирению. Поэтому, как только я появилась на горизонте, ко мне подлетела вся ватага, перебивающих друг друга мальчишек, и потребовала объяснений. Я была не в курсе происходящего и попросила дать мне время разобраться в создавшейся ситуации.
Дядя ничего мне толком не рассказал. Только на следующий день выяснить некоторые детали заявленного участия. Оказывается, дядя во время войны учился в нашем пединституте, а затем его забрали в армию. Но не на фронт, а в какую-то спецшколу. Затем неудачный полет, ранение и излечение в Зеленогорске, где он и пристрастился к Богу. Но будучи грамотным человеком и членом КПСС, дядя какое-то время был руководителем автопредприятия в Москве, обслуживающее сильных мира сего, даже третьего папиного брата, тоже фронтовика, устроил водителем вверенного ему заведения, когда тот демобилизовался в 1945 году. Но вскоре обоих братьев уволили, дядю Ваню – за пристрастие к церкви, а третьего брата Николая, с ним за кампанию, чтобы не позорил звание советского человека.
Дядя Ваня еще несколько раз проездом заезжал к нам, но его взгляды на жизнь не совпадали с отцовскими, и мы его больше не видели и не знаем дальнейшую его судьбу.
Вот такая история в 60-х годах произошла в нашем дворе. Она еще долго жила в рассказах подростков, пока двор не снесли, а жильцов раскидали по разным районам и домам. Если наш двор считал бюст своим, то и постоянно мы ухаживали за ним. Каждое лето наводили лоск. Звезда героя блестела, регулярно чищенная заботливыми мальчишками.
Сейчас в школу ходят не с парадного входа и забытый и пыльный бюст стоит одиноко. Даже глаза все еще молодого Н.Кузнецова не так задорно и бесстрашно смотрят на состарившиеся тополя. Придет его время и в нашем дворе, где стоят современные многоэтажки снова вырастет поколение мальчишек и девчонок, которые с трепетом будут относиться к подвигам предков. Возможно, вспомнят и наших отцов-защитников Отечества в грозные дни войны, и будет им бюст героя так же дорог, как тем, у кого на домах мемориальные доски. Пусть не жил наш герой в нашем дворе, но мы все гордились, что именно у нас стоит этот бюст, и считали, что герой наш житель. Мы искренне его любили и уважали. Память о нем греет наши сердца уже почти полвека.
Л.Важенина, 2010г. Тюмень ©
Роман ее жизни
Главы из повести
«Приходи сейчас же.., у нас Чехов»
В восьмидесятые годы минувшего двадцатого века, когда наши издатели всё чаще стали обращаться к забытым дореволюционным писателям, вышла в свет книга неизвестной широкому кругу читателей Лидии Алексеевны Авиловой. Это сборник, главным произведением в котором были воспоминания «Чехов в моей жизни». Названо смело! Да и начало захватывающее – указывающее вместе с заглавием, что читателей, несомненно, ждёт увлекательное путешествие в страну Любви! Девиз произведения: «Роман, о котором никогда никто не знал, хотя он длился целых десять лет». Первоначально Лилия Алексеевна назвала свои воспоминания: «Роман моей жизни». Иван Алексеевич Бунин в книге «Чехов…» так писал о Лидии Алексеевне Авиловой – поистине необыкновенной женщине: «Авилова (в девичестве Страхова, родная сестра толстовца), была как раз одна из тех, что так любил Чехов, употреблявший для них слово мне всегда неприятное: «Роскошная женщина». Таких обычно называют: «русскими красавицами», «кровь с молоком» (выражение для меня несносное, ибо что может быть хуже этой смеси – «кровь и молоко»?) И когда говорят так: «русская красавица» – чаще всего относят таких женщин к купеческой красоте. Но у Авиловой не было ничего купеческого: был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса, но всё прочее никак не купеческое, а породистое, барское. Я знал её ещё в молодости (хотя уже и тогда было у неё трое детей) и всегда восхищался ею (при всей моей склонности к другому типу: смуглому, худому, азиатскому). Я любил с ней разговаривать, как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения её были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всём этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела...» Но как же вспыхнула любовь к Чехову? Как ответил Чехов на любовь Авиловой? Предоставим слово самой Лидии Алексеевне: «24 января 1889 года я получила записочку от сестры: «Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов». Сестра была замужем за редактором-издателем очень распространённой газеты… У неё бывали многие знаменитости: артисты, художники, певцы, поэты, писатели. Да и её прошлое, её замужество по любви с «увозом» прямо с танцевального вечера, в то время как отец, ненавидевший её избранника, особенно зорко наблюдал за ней, всё это окружало её в моих глазах волшебным ореолом. А что представляла из себя я! Девушку с Плющихи, вышедшую замуж за только что окончившего студента, занимавшего теперь должность младшего делопроизводителя департамента народного просвещения. Что было в моём прошлом? Одни несбывшиеся мечты. Я была невестой человека, которого, мне казалось, я горячо любила. Но я в нём разочаровалась и взяла своё слово обратно. И из всего этого, очень тяжёлого для меня, переживания я вынесла твёрдое решение: не поддаваться более дурману влюблённости, а выбрать мужа трезво, разумно, как выбирают вещь, которую придётся долго носить. И я выбрала и гордилась своим выбором…» Итак, мы видим интерес Лидии Авиловой к Чехову. Недаром сестра вызывала её срочно. Видим и то, что вызов не случаен – брак-то явно не по любви. А сердце требует любви, и, порой, поражённое высоким чувством заставляет лететь в волшебную страну любви бессознательно, повинуясь неведомой силе. Ну что ж здесь такого – увидеть и услышать популярного писателя и интересного человека? Тем более Лидия Авилова рассказала о себе следующее: «Была мечта – сделаться писательницей. Я писала и стихами и прозой с самого детства. Я ничего в жизни так не любила, как писать. Художественное слово было для меня силой, волшебством, и я много читала, а среди моих любимых авторов далеко не последнее место занимал Чехонте. Он печатался, между прочим, и в газете, издаваемой моим зятем, и каждый его рассказ возбуждал мой восторг…» Итак, Лидия Авилова, ещё не отдавая себе отчёта для чего и что из этого выйдет, стремится ворваться в жизнь Чехова, словно подталкиваемая какой-то неведомой, волшебной силой. Ей – 27 лет, она замужем, её сыну 9 месяцев от роду. А Чехову 32 года. Разница 5 лет – небольшая и, говорят, неплохая разница. Она уже может именоваться детской писательницей, она много пишет и печатается, хотя печатается, быть может, не так много, как пишет. Лидия Алексеевна – коренная москвичка, хотя и родилась (3 июня 1864 года) не в Москве, а в имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, в небогатой дворянской семье. В раннем детстве её перевезли в Москву. Она выросла на знаменитой Плющихе. В 1882 году окончила гимназию. А в 1887 году вышла замуж за студенческого друга старшего её брата донского казака Михаила Федоровича Авилова. Он был студенческим другом ее старшего брата. Вышла без любви, о чём и поведала в своих мемуарах. И вот настал день, который перевернул всю её жизнь – день 24 января 1889 года… Не часто есть возможность с почти документальной точностью узнать о самых первых шагах в романе того или иного человека. Но Лидия Алексеевна – признанная мемуаристка. Так именуют её в аннотациях, так говорится о ней в интернете. Писательница и мемуаристка. Сейчас главное – второе. Именно это даёт возможность увидеть живого Чехова глазами любящей его женщины… Может быть, спешу с определением – любящая – но кто знает, когда зародилось это чувство, не сразу открытое в себе Лидией Авиловой. Предоставим слово самой Лидии Алексеевне: «– А, девица Флора, – громко сказал Сергей Николаевич, мой зять. – Позвольте, Антон Павлович, представить вам девицу Флору. Моя воспитанница. Чехов быстро сделал ко мне несколько шагов и с ласковой улыбкой удержал мою руку в своей. Мы глядели друг на друга, и мне казалось, что он был чем-то удивлён. Вероятно, именем Флоры. Меня Сергей Николаевич так называл за яркий цвет лица, за обилие волос, которые я ещё заплетала иногда в две длинные, толстые косы. – Знает наизусть ваши рассказы, – продолжал Сергей Николаевич, – и, наверное, писала вам письма, но скрывает, не признаётся. Я заметила, что глаза у Чехова с внешней стороны точно с прищипочкой, а крахмальный воротник хомутом и галстук некрасивый. Когда я села, он опять стал ходить и продолжать свой рассказ. Я поняла, что он приехал ставить свою пьесу «Иванов», но что он очень недоволен артистами, не узнает своих героев и предчувствует, что пьеса провалится… Вошла сестра Надя и позвала всех к ужину. Сергей Николаевич поднялся, и вслед за ним встали и все гости. Перешли в столовую. Там были накрыты два стола: один, длинный, для ужина, а другой был уставлен бутылками и закусками. Я встала в сторонке у стены. Антон Павлович с тарелочкой в руке подошёл ко мне и взял одну из моих кос. – Я таких ещё никогда не видел, – сказал он. А я подумала, что он обращается со мною так фамильярно только потому, что я какая-то девица Флора, воспитанница. Вот если бы он знал Мишу и знал бы, что у меня почти годовалый сын, тогда... За столом мы сели рядом. – Она тоже пописывает, – снисходительно сообщил Чехову Сергей Николаевич. – И есть что-то... Искорка... И мысль... Хоть с куриный нос, а мысль в каждом рассказе. Чехов повернулся ко мне и улыбнулся. – Не надо мысли! – сказал он. – Умоляю вас, не надо. Зачем? Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь, правдиво, искренно. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю никогда. Я ничего не хочу сказать. Моё дело писать, а не учить! И я могу писать про всё, что вам угодно, – прибавил он с улыбкой. – Скажите мне написать про эту бутылку, и будет рассказ под таким заглавием: «Бутылка». Не надо мыслей. Живые, правдивые образы создают мысль, а мысль не создаст образа. И, выслушав какое-то льстивое возражение от одного из гостей, он слегка нахмурился и откинулся на спинку стула. – Да, – сказал он, – писатель это не птица, которая щебечет. Но кто же вам говорит, что я хочу, чтобы он щебетал? Если я живу, думаю, борюсь, страдаю, то всё это отражается на том, что я пишу. Зачем мне слова: идея, идеал? Если я талантливый писатель, я всё-таки не учитель, не проповедник, не пропагандист. Я правдиво, то есть художественно, опишу вам жизнь, и вы увидите в ней то, чего раньше не видали, не замечали: её отклонение от нормы, её противоречия... И вот уже первое впечатление, первый вывод, можно сказать, внутренний, только ещё складывающийся, но восторденный: «Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да, в сущности, ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много! У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивлённые и обрадованные. – Я опять сюда приду, – сказал Антон Павлович. – Мы встретимся? Дайте мне всё, что вы написали или напечатали. Я всё прочту очень внимательно. Согласны?» Так состоялось знакомство, так зарождался роман… «Любовь – вовсе не огонь, любовь – воздух» О том, что роман у Авиловой с Чеховым действительно зарождался, свидетельствует сама Авилова в своём уникальном повествовании «Чехов в моей жизни». Это и реакция на ворчание мужа по поводу её знакомства с Чеховым: «И я чувствовала, как я потухала. Чувствовала, как безотчётная радость, так празднично осветившая весь мир, смиренно складывала крылья, свёртывала свой ослепительный павлиний хвост, жалобно вытягивала шею. Кончено! Всё по-прежнему». Это и размышления о семейном счастье: «Что такое семейное счастье? Это редкое, очень прихотливое растение, за которым нужен постоянный, очень заботливый уход». Это и воспоминания о встрече с Чеховым: «Прошло уже три года с моего первого свидания с Чеховым. Я часто вспоминала о нём и всегда с лёгкой мечтательной грустью». Так получилось, что после знакомства Чехов и Авилова не виделись три года… Но она помнила его, помнила то необыкновенное впечатление, которое осталось от встречи. А помнил ли он? Наверное, о том лучше всего говорит встреча после долгих трёх лет, встреча, так проникновенно описанная Лидией Авиловой. Она произошла в 1892 году на праздновании 25-летнего юбилея газеты зятя Авиловой Сергея Николаевича. Было всё торжественно – молебен, обед, на который приглашены важные гости. Лидия Алексеевна так рассказала об этом в своих воспоминаниях: «Мы столкнулись в толпе случайно и сейчас же радостно протянули друг другу руки. – Я не ожидала вас видеть, – сказала я. – А я ожидал, – ответил он. – И знаете что? Мы опять сядем рядом, как тогда. Согласны? Мы вместе прошли в гостиную. – Давайте выберем место? – Бесполезно, – ответила я. – Вас посадят по чину, к сонму светил; одним словом, поближе к юбиляру. – А как было бы хорошо здесь – в уголке, у окна. Вы не находите? – Хорошо, но не позволят. Привлекут. – А я упрусь! – смеясь, сказал Чехов. – Не поддамся. Мы сели, смеясь, и подбадривая друг друга к борьбе…» Они отвоевали возможность быть вдвоём, и ведь они были вдвоём, наедине, несмотря на множество людей, сидевших за столом. Они никого не замечали, а говорили, говорили, говорили, сначала о чём-то не очень значащем, а затем… Чехов неожиданно спросил: «– А не кажется вам.., что когда мы встретились с вами три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки? – Да... – нерешительно ответила я. – Конечно, да. Я знаю. Такое чувство может быть только взаимное. Но я испытал его в первый раз и не мог забыть. Чувство давней близости. И мне странно, что я всё-таки мало знаю о вас, а вы – обо мне. – Почему странно? Разлука была долгая. Ведь это было не в настоящей, а в какой-то давно забытой жизни? – А что мы были тогда друг другу? – спросил Чехов. – Только не муж и жена, – быстро ответила я. Мы оба рассмеялись. – Но мы любили друг друга. Как вы думаете? Мы были молоды... И мы погибли... при кораблекрушении? – фантазировал Чехов. – Ах, мне даже что-то вспоминается, – смеясь, сказала я. – …Встретились же мы теперь как друзья…» Лидия Алексеевна призналась, что думала о Чехове и раньше, ещё до замужества, потому что восхищалась его рассказами, потому что слышала много хорошего… Правда, призналась осторожно: «– А как я вас ждала, – вдруг вспомнила я. – Как я вас ждала! Ещё когда жила в Москве, на Плющихе. Когда ещё не была замужем. – Почему ждали? – удивился Антон Павлович. – А потому, что мне ужасно хотелось познакомиться с вами, а товарищ моего брата, Попов, сказал мне, что часто видит вас, что вы славный малый и не откажетесь по его просьбе прийти к нам. Но вы не пришли. – Скажите этому вашему Попову, которого я совершенно не знаю, что он мой злейший враг, – серьёзно сказал Чехов». Вот и ответ на вопрос, думал ли Чехов о Лидии Авиловой, вспоминал ли ту встречу. Эта милая беседа была беседой людей, которым хорошо вдвоём, это беседа поистине влюблённых, которые даже в сонмище людском остаются наедине друг с другом и не видят никого, потому что им никто не нужен, когда они рядом. Философ и писатель Василий Васильевич Розанов писал: «Любить – значит, «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя», «везде скучно, где не ты». Это внешнее описание, но самое точное. Любовь – вовсе не огонь (часто определяют), любовь – воздух. Без неё нет дыхания, а при ней дышится легко. Вот и всё…» Говорят, у Чехова было тридцать или около тридцати романов… Иные порицают, иные недоумевают, ведь образы великих писателей долгое время принято было лакировать. Для чего? Они же люди… Гении, но люди! И если бы они не оставались людьми, они бы не могли писать для людей, и широкие массы читателей не понимали бы их, как теперь не понимают нынешних самопровозглашённых гениев, потому что многие из них вовсе не люди, а нелюди. Я имею в виду тех, кто проживая – они бы сами сказали «существуя» – в России, пользуясь благами России, пользуясь её невероятными богатствами не только материальными, которые им-то доступны в силу их продажности, но и духовными, которые помогают и таковым как они, так вот эти нелюди, прикидываясь людьми, ухитряются гадить на Россию, и рубят, с настойчивостью либерастов сук, на котором сидят. Разве можно называть преступным влечение мужчины к женщине? Это влечение от природы, и прежде чем судить о нём, важно понять существо каждого конкретного случая такого влечения. Ведь высокое чувство мужчины к женщине или женщины к мужчине позволяет постичь чувство Любви, позволяет осознать, что такое Любовь. Не познав же, что есть Любовь, не испытав этого чувства на духовном уровне, разве может человек понять и осознать Любовь в высшем её проявлении, разве сможет осознать, что есть не только сама по себе Любовь, а что есть Любовь к Богу! Кто нас учит любви? Прежде всего, конечно, родители своей любовью к нам. И мы отвечаем им любовью. Но эта любовь несколько иная – это со стороны родителей восхищение своим чадом, которое как бы является твоим повторением на грешной Земле, которое плоть от плоти твоей. А у детей – это чувство основано на не всегда осознанной благодарности к тем людям, которые души в них не чают. Это что-то другое. Это привязанность, это и благодарность, это, наконец, и долг перед самыми близкими людьми, которые не жалели ничего для своих чад. Но с самых ранних лет мальчишки с интересом, растущим с годами, поглядывает на девчонок, а девчонки – на мальчишек. Пока этот интерес не осознан, не понят. Пока ещё главными в жизни являются родители. Но тут всё иначе… Почему-то замирает или начинает отчаянно биться сердце при взгляде на девочек, почему-то всё существо наполняется какими-то неведомыми прежде, непонятными ощущениями. А время идёт, и круг интересов сужается… Постепенно не просто особы противоположенного полка, а лишь какие-то конкретные из их числа становятся предметом особого внимания. Причём, даже тогда, когда ещё не вспыхнуло ярким пламенем неведомое чувство, круг интереса к противоположному полу, тем уже, чем выше интеллект того, кто интерес этот проявляет. И вот уже этот круг сужается до одного, только одного человека. И ко всем остальным остаётся лишь очень ровное, спокойное отношение. В детстве нам кажется, что мы влюбляемся. Да, нравится то одна девочка, то другая. Это выражается в стремлении видеть её, в стремлении делать что-то приятное, в стремлении обратить на себя внимание. Неужели и тогда уже всё это следует называть страшным грехом, ведь, по некоторым канонам, только посмотрев на женщину, ты уже согрешил! Но ведь в младые годы влюблённые смотрят без тех осуждаемых желаний, просто смотрят, потому что хочется смотреть, разговаривают, потому что хочется разговаривать. Грех ли это? Смешно считать грехом. Тогда уж во избежание греха нужно разделить мальчиков и девочек, юношей и девушек и расселить на разных планетах или, по крайней мере, в местах, трудно доступных для общения. Но как же быть с продолжением жизни на земле? Вероятно, для этого надо устраивать периодические встречи с определённой целью… Для оплодотворения женской части населения. Но нет. Этого не требуется. Напротив, в Книге Бытия говорится: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.2.24). Но, позвольте, как узнать, к кому же нужно прилепиться, если взгляд на женщину, уже грех? Каким образом происходит, что любовь к родителям уступает место другой любви, любви особого рода – любви к женщине? Сколько примеров даёт нам литература – и художественная, и документально историческая! Сколько насильственных соединений юношей и девушек в одну плоть знает история! Причём, в основе этих соединений лежали далеко не духовные мотивы, а мотивы иного характера. Для простых людей – это были материальные соображения, ну а скажем для княжеских, царских и императорских династий – соображения государственного свойства. Бывало, что таковые соединения и возводили «прилепившихся» друг к другу к высотам любви, но бывало – приносили лишь личное горе. Мы знаем немало великолепных, достойных подражания Великокняжеских, Царских, Императорских семей – словно бы Сам Создатель благословлял и направлял эти соединения. Но вот с простыми людьми дело было печальнее. О каких несчастьях свидетельствует история! Впрочем, и при свободном выборе немало случалось ошибок, потому что старшие поколения, зачастую разуверившиеся в существовании необыкновенного, всепобеждающего чувства любви, равнодушными оставались к тому, как вершат свой выбор их чада. И снова наперёд выходили иногда соображения меркантильного характера. В Советский период многие девушки мечтали выйти замуж за офицера, а потому обивали пороги военно-учебных заведений. Что ж… Хорошая по тем временам обеспеченность, возможность пожить за границей, положение в обществе, для студенток-выпускниц – свободный диплом и многое другое. Льгот было немало. В период человеконенавистнической демократии приоритеты, естественно, поменялись. Уже в первые годы победы ельцинизма, на знамёнах которого лозунг социализма «человек человеку друг, товарищ и брат» был заменён лозунгом «человек человеку волк», девушки стали искать перспективных предпринимателей, мечтать об олигархах. И кому-то везло, но везло, порою, в кавычках. В Советский период в неудаче выбора того, к кому предстояло «прилепиться», большей частью были уже непоправимы, поскольку на страже сохранения пусть даже самых неудачных семей стояли партийные органы. В период демократии неудачницы просто выбрасывались на улицу, если, конечно, не предпринимали своевременно особых мер, дабы удержать, если и не самого «избранника» материалистических соображений, то хотя бы материальные блага. Так где же была Любовь? Где она жила и живёт поныне? А не в сердцах ли она тех, кто, невзирая на условности, созданные обществом, отдаётся этому всепоглощающему чувству? Василий Розанов писал: «Сущность чистого брака есть совершенная любовь; брак свят, религия – когда он в истине и в любви; а без любви, при обмане – разврат... Вот почему глубочайшее есть кощунство настаивать на продолжении брака, когда в нём умерла любовь и правда. Это значит настаивать, заставлять, принуждать к разврату (нечистые соединения, ругательства перед Образом). Одно соединение с отравленной совестью заражает непоправимым грехом тело и душу человека… Требование развода есть следствие страха Божия в семье». Неожиданный вывод. Но, попробуй, опровергни его. Да, есть вопросы, которых касаться необходимо с особой осторожностью. Розанов прямо говорит, что брак без любви – разврат. Но разве мало таких браков? Быть может, даже правомернее поставить вопрос: а много ли браков, освещённых Любовью? Они, конечно, встречаются, но… сразу и не назовёшь! Почему Лидия Авилова воскликнула, что в далёкой прошлой жизни они были – «только не мужем и женой»? И её брак оказался не соединением двух любящих существ, а именно браком в деле этого единения. Недаром часто можно слышать: «Любовь? Какая может быть любовь в семье? Где вы видели такие семьи?» А всё-таки, несмотря на попытку развода с мужем, Авилова держалась за свою семью, считая, что не хватит сил и возможностей что-то переменить в жизни. Да, Розанов тысячу раз прав, говоря, что брак без любви – разврат. Но как выйти из столь затруднительного положения подавляющему большинству тех, кто живёт в этом разврате? Как могла выйти из этого положения Лидия Алексеевна Авилова? Причины понятны, почему не могла. Они объективны. Ну, конечно, на первом плане дети… Как можно детей оставить без отца! С другой стороны, бывает, что и отец – не отец, что без него, такого, лучше. Но следующая проблема решаема ещё более сложно: как Воспримет общество? Мы помним, каково было Денисьевой, незамужней женой Фёдора Иванович Тютчева. Одним словом, не так уж и просто людям избавиться от греха. Гораздо проще искать тот свет, который погас в семье, где-то в другом месте. Конечно, трудно назвать такие шаги безгрешными, но более ли они грешны, нежели жизнь во грехе? Русский философ и религиозный мыслитель. С.Л. Франк писал: «В заповеди универсальной любви, понимаемой как моральное предписание, как приказ: «Ты должен любить», содержится логическое противоречие. Предписать можно только поведение или какое-нибудь обуздание воли, но невозможно предписать внутренний порыв души или чувство; свобода образует здесь само существо душевного акта». Иными словами, С. Франк хотел сказать, что «завет любви к людям не есть моральное предписание; он есть попытка помочь душе открыться, расшириться, внутренне расцвести, просветлеть». Можно ли заставить полюбить? Конечно, нет. Можно разными формами воздействия заставить жить с нелюбимым человеком, принудить к тому экономическими мерами, но полюбить заставить нельзя. И более чем нелепо звучит упрёк одного из супругов к другому: «Ты меня не любишь!». Как можно упрекать в том, что ушла любовь? Ведь это чувство неподвластно никаким волевым решениям. Это что-то такое, что даётся свыше, что приходит к человеку само, порой, без его на то желания. И охватывает целиком всё его существо. Принцип «стерпится слюбится» никогда не приводил ни к чему высокому, светлому. Любовь – это хрупкий, хрустальный сосуд. Если его случайно уронить, он разобьётся в мелкие кусочки. Разве же можно склеить их так, чтобы сосуд засиял прежним блеском? Это невозможно. Даже если и удастся склеить, то это уже будет предмет с изъянами, видными невооружённым глазом. Когда в семье пропадают любовь и уважение, практически невозможно их восстановить, хотя и бывает, что удаётся продлить сосуществование, но именно существование, а не гармонию отношений. «Любовь всегда нелегальна...» Но что же Чехов и Авилова? Муж негодовал по поводу её поведения, считал, что она слишком откровенно разговаривала с Чеховым, и даже рассказал то ли быль, то ли небылицу относительно Чехова. Скорее всего, пересказал сплетню «народных мстителей», которых хватало везде и во все времена. Вспомним, как подленький чинуша из иноземцев выследил Тютчева и Денисьеву. Ну а тут нашёлся другой, который, якобы, слышал похвальбу Чехова. Авилова написала по этому поводу: «Какой-то услужливый приятель рассказал Мише, что в вечер юбилея Антон Павлович кутил со своей компанией в ресторане, был пьян и говорил, что решил, во что бы то ни стало увезти меня, добиться развода, жениться. Его будто бы очень одобряли, обещали ему всякую помощь и чуть ли не качали от восторга. Миша был вне себя от возмущения. Он наговорил мне столько обидного и грубого, что в другой раз я бы этого не стерпела. Но в настоящем случае казалось мне, что он прав. О, какое это было крушение! Почти невероятно, что из-за Чехова я попала в грязную историю. Но как же не верить? В сущности, я так мало знала Антона Павловича. Я считала его близким, симпатичным, благородным. Вся душа моя тянулась к нему, а он, пьяный, выставил меня на позор и на посмешище. – Ты кинулась ему на шею, психопатка! – кричал Миша, – завязала любовную интрижку под предлогом любви к литературе. Ты носишь моё имя, а это имя ещё никогда по кабакам не трепали. Он хочет увезти тебя, а знаешь ли ты, сколько у него любовниц? Пьяница! Бабник! Я была ошеломлена, убита. Но когда я немного успокоилась и была в состоянии думать, я сказала себе: а всё-таки этого не может быть. Это чья-то злобная выдумка, чтобы очернить в моих глазах Чехова и восстановить против него Мишу. Кому это могло быть нужно? Я решила, что Миша мог слышать эту сплетню только от двух лиц. Одно было вне всяких подозрений, другое... И сейчас же мне вспомнилось, что это другое лицо сидело за юбилейным столом наискось от нас и, по-видимому, очень скучало. Он был писатель и печатал толстые романы, но никаких почестей ему не оказывали и даже на верхний конец стола не посадили. К Чехову он обращался с чрезвычайным подобострастием и выражал ему свои восторги, но не было никакого сомнения, что он завидует ему до ненависти, в чём я впоследствии убедилась». Нельзя не согласиться с Николаем Александровичем Бердяевым, который в книге «О назначении человека» писал: «Когда мне рассказывали о романах знакомых мне людей, я всегда защищал право их на любовь, никогда не осуждал их, но часто испытывал инстинктивное отталкивание и предпочитал ничего не знать об этом…Меня всегда возмущало, когда общество вмешивалось в эротическую жизнь личности. Социальные ограничения прав любви вызывали во мне бурный протест, и в разговорах на эту тему мне случалось приходить в бешенство. Любовь есть интимно-личная сфера жизни, в которую общество не смеет вмешиваться. Когда речь идёт о любви между двумя, то всякий третий – лишний… Когда мне рассказывали о любви, носящей нелегальный характер, то я всегда говорил, что это никого не касается, ни меня, ни того, кто рассказывает, особенно его не касается. Любовь всегда нелегальна... Мир не должен был бы знать, что два существа любят друг друга…» Вот и подумаем над отношениями: «Чехов – Авилова»… Преступна ли любовь Чехова к Авиловой и любовь Авиловой к Чехову? Вот что писал Николай Александрович Бердяев о романе «Анна Каренина»: «Я всегда считал преступным не любовь Анны и Вронского, а брачные отношения Анны и Каренина… Настоящий вопрос не в вправе на развод, который, конечно, должен быть признан, а в обязанности развода при прекращении любви. Продолжение брака, когда любви нет, безнравственно, только любовь всё оправдывает, любовь-эрос и любовь-жалость». Конечно, Анну выдали замуж за Каренина вовсе не по её воле, а Авилова вышла замуж по собственной инициативе, не по любви, а именно по инициативе. И всё же, подход можно применить аналогичный… А ведь, действительно, о Чехове и его бахвальстве всё оказалось ложью. Лидия Алексеевна сообщила об этом на последующих страницах. Она вычислила сплетника: «Я сказала о своих предположениях Мише. – Наврал? Возможно. Да, это он мне рассказал, – признался Миша. – Но ведь это известная скотина! Я почувствовала большое облегчение. Прощаясь, я дала слово Антону Павловичу написать ему и прислать свои рассказы, и теперь я решила, что это можно сделать, но всё-таки в письме упрекнула его за лишнюю болтовню за приятельским ужином». И Антон Павлович вскоре прислал ответ, в котором писал: «Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Моё достоинство не позволяет мне оправдываться, к тому же обвинение Ваше слишком неясно, чтобы в нём можно было разглядеть пункты для самозащиты. Но, сколько могу понять, дело идёт о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли? Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у Вас в Петербурге. Или же если нельзя не верить, то уж верьте всему и в розницу и оптом: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с жёнами моих лучших друзей и т.д. Успокойтесь, бога ради. Впрочем, бог с Вами… Думайте про меня, как хотите. ...Живу в деревне. Холодно. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своём решении никогда не бывать в Петербурге». Авилова рассказала далее в книге: «С этих пор началась наша переписка с Антоном Павловичем. Но меня ужасно огорчало его решение никогда больше не приезжать в Петербург. Значит, мы больше никогда с ним не увидимся? Не будет больше этих ярких праздников среди моей «счастливой семейной жизни»? И каждый раз при этой мысли больно сжималось сердце». Как видим, словосочетание «счастливой семейной жизни» взято в кавычки. Я стараюсь больше цитировать Авилову и меньше пересказывать своими словами написанное ею, поскольку в описании такого романа не должно быть и малейших искажений. Собственно, даже определение «роман» не очень-то подходит к таким поистине, я не боюсь этого слова, божественным отношениям. Впрочем, когда я прочитал книгу Ивана Алексеевича Бунина «О Чехове. Неоконченная рукопись», то обратил внимание, что непревзойдённый мастер изящной словесности, не стеснялся цитировать Авилову, а уж он-то мог написать изящнее и красивее. Мог, но счёл нецелесообразным пересказывать то, что написано столь искренне, столь пронзительно и поистине неповторимо… Книга Авиловой потрясает своей пронзительной откровенностью, хотя, возможно, откровения всё же ограничены. Ещё в восьмидесятые я купил эту книгу в Лавке писателей на Кузнецком, в то время ещё пользуясь отцовским удостоверением члена Союза писателей СССР. Прочитал залпом. Затем купил ещё несколько книг, которые раздаривал знакомым женщинам – всё же воспоминания адресованы, в первую очередь, прекрасному полу. Отзывы были самые восторженные – одна приятельница сказала, что буквально растворяется в этой книге. А вот ответа на вопрос, до каких пределов дошли отношения Чехова и Авиловой, в книге нет. Хотя Лидия Алексеевна мастерски ведёт своё повествование, которое может не только соперничать, а способно превзойти – уже давно превзошло – любые произведения, обозначенные жанром «любовный роман». Вспомним роман Тургенева и Полины Виардо. Многие исследователи задавались вопросом – «совсем близки», выражаясь по-Бунински («Чистый понедельник») были они или не были? Василий Васильевич Розанов даже посвятил этому роману специальную статью «Загадочная любовь (Виардо и Тургенев)», в которой писал: «Всегда и многих уже давно занимал вопрос: было ли в этом романе что-нибудь физическое! Уже по тому одному, что любовь тянулась от 25-летнего возраста Тургенева до его смерти, а о связи всё-таки спрашивают, и спрашивали себя все, близко обоих их знавшие, с очевидностью показывает, что связь была в высшей степени призрачна, неправдоподобна, что её не было или почти не было, и всё сводится к этому «почти», которое может быть равно или «нолю», или «чему-нибудь»... Что это? Нездоровый интерес к чужим тайнам? Нет… В отношениях Тургенева и Полины Виардо много загадочного и одна из версий разгадки есть – это тайная миссия Тургенева в Европе. Высокие чины КГБ, будучи уже на заслуженном отдыхе раскрыли эту тайну… Тургенев был резидентом Русской разведки… Ну а любовь к Полине Виардо была прикрытием этой миссии или, в большой степени прикрытием! Но что же мешало Чехову и Авиловой? Почему они не стали «совсем близки». То, что это именно так, следует из книги Лидии Алексеевны. Читаешь книгу и ждёшь, что вот-вот, сейчас, но, увы, что-то мешает. Почему ждёшь? Нездоровое любопытство? Нет, совсем нет. Мастерство писательницы заставляет сопереживать героям, тем более, героям реальным, а не вымышленным. Может, кто-то и признаёт любовь без, опять же говоря Бунинским языком, «последней близости» – имеется в виду не как близость, после которой нет более встреч, а последней в том смысле, что самой, самой… Так вот, может, кто-то и признаёт чисто платонические отношения, но… таковых совсем немного, во всяком случае, далеко не большинство останавливаются перед «последней близостью». Как, к примеру, остановился Михаил Михайлович Пришвин, встретив свою первую любовь и потеряв её по причине своеобразного понимания отношений между влюблёнными. Ведь стремление горячо любящих людей к тому, чтобы испытать эту волшебную «последнюю близость» и испытать её не единожды, вполне понятно и объяснимо. И, когда Авилова, между прочим, с сожалением описывает то, что снова не сложилось, не вышло, читатель невольно огорчается, невольно жалеет о том, что не произошло между ними. А они ведь шли к близости, шли постепенно. Что же мешало? Встречались на людях. Да и муж Авиловой внимательно следил за развитием событий, делая даже маленькие провокации. Вот один из эпизодов: «И вдруг зашла ко мне сестра Надя и сказала с хитрой улыбкой: – Постарайся прийти к нам сегодня вечером без Миши. Смотри, только без Миши». Наверное, догадаться было несложно… Намёк, и всё стало ясно: – Да ты сегодня ждёшь... Чехова? Я чувствовала, как вся кровь бросилась мне в лицо. Надя засмеялась: – Потому я и прошу: приходи без Миши. Даже Сережи не будет, он вернётся только к двенадцати, и ужинать мы будем все вместе. Придёт ещё кое-кто... – У Миши сегодня вечер не свободен, спешная работа, – сказала я. – Отлично! Будет очень уютно. Я сказала Мише, что иду «на Чехова». Он нахмурился, но промолчал. Ему нельзя было не пустить меня: это возбудило бы слишком много толков, а он этого боялся». И Лидия Алексеевна пришла к сестре… Но вдруг испугалась, решила уйти, но сестра удерживала. Они спорили… «И в это время Пётр доложил, что приехал Антон Павлович Чехов. – Ах, а мне ещё надо одеться. Иди, Лида, займи его. Я пошла. Он стоял в кабинете. – А как же ваше решение не бывать больше в Петербурге? – Я, видно, человек недисциплинированный, безвольный... У вас расстроенный вид. Вы здоровы? Все благополучно? – И здорова, и благополучно, и всё хорошо. Мы сели к круглому столу, на котором стоял поднос с куском сыра и фруктами. Бутылки ещё не было. – Да, я опять в Петербурге... И, вообразите, опять хочется писать пьесу... Надя вышла не скоро. Мы успели поговорить о театре, о журналах, о редакторах, к которым он меня усиленно посылал». Нехитрая уловка сестры – дать побыть вдвоём, привела к тому, что они смогли поговорить о многом, но это многое касалось литературы. Лишь позже Чехов стал расспрашивать о детях и высказал своё мнение о женитьбе, о семье… Авилова сказала: – Надо жениться. – Надо жениться. Но я ещё не свободен. Я не женат, но и у меня есть семья: мать, сестра, младший брат. У меня обязанности. – А вы счастливы? – спросил он вдруг. И далее призналась: «Меня этот вопрос застал врасплох и испугал. Я остановилась, облокотившись спиной о рояль, а он остановился передо мной. – Счастливы? – настаивал он. – Но что такое счастье? – растерянно заговорила я. – У меня хороший муж, хорошие дети. Любимая семья. Но разве любить – это значит быть счастливой? Я в постоянной тревоге, в бесконечных заботах. У меня нет покоя. Все силы своей души я отдала случайности. Разве от меня зависит, чтобы все были живы, здоровы? А в этом для меня теперь всё, всё! Я сама по себе постепенно перестаю существовать. Меня захватило и держит. Часто с болью, с горьким сожалением думается, что моя-то песенка уже спета... Не быть мне ни писательницей, ни... Да ничем не быть. Покоряться обстоятельствам, мириться, уничтожаться. Да, уничтожаться, чтобы своими порывами к жизни более широкой, более яркой не повредить семье. Я люблю её. И скоро, очень скоро я покорюсь, уничтожусь. Это счастье? – Это ненормальность устройства нашей семьи, – горячо заговорил Чехов. – Это зависимость и подчинённость женщины. Это то, против чего необходимо восстать, бороться. Это пережиток... Я отлично понимаю всё, что вы сказали, хотя вы и не договариваете. Знаете: опишите вашу жизнь. Напишите искренне и правдиво. Это нужно. Это необходимо. Вы можете это сделать так, что поможете не только себе, но и многим другим. Вы обязаны это сделать, как обязаны не только не уничтожаться, а уважать свою личность, дорожить своим достоинством. Вы молоды, вы талантливы... О нет. Семья не должна быть самоубийством для вас... Вы дадите ей много больше, чем, если будете только покоряться и мириться. Что вы, Бог с вами. Он повернулся и стал ходить по комнате. – Я сегодня нервна. Я, конечно, многое преувеличила... – Если бы я женился, – задумчиво заговорил Чехов, – я бы предложил жене... Вообразите, я бы предложил ей не жить вместе. Чтобы не было ни халатов, ни этой российской распущенности... и возмутительной бесцеремонности». «…Я знала, что люблю Антона Павловича». Путь к близости не всегда бывает быстрым. Иногда он очень долог. Иногда он невозможен вот без этаких мимолётных разговоров наедине. А сколько помех! И одна из помех – ревнивый муж. И его маленькие хитрости. На этот раз он прислал за Лилией Алексеевной. Он солгал, что болен сынишка, и она помчалась домой, но там было всё спокойно. Авилова рассказала с некоторой горечью: «Миша крепко обнял меня, не отпуская. – Ты моя благодетельная фея. При тебе я спокоен и знаю, что всё в порядке. Мне вспомнилось, как он за обедом разбросал по полу все оладьи, потому что, по его мнению, они не были достаточно мягкими и пухлыми: «Ими только в собак швырять». Словом, снова рутина семьи. Но все эти передряги – разбросанные оладьи, и напрасный вызов – вдруг выразились в моментальном осознании того главного, что было в ней. Лидия Алексеевна поняла и призналась в воспоминаниях: «А я уже знала теперь. В первый раз, без всякого сомнения, определённо, ясно, я знала, что люблю Антона Павловича. Люблю!» Так ревнивые муж или жена, порой, перегнув палку, действуют против себя и добиваются обратного результата. И вот очередная глава воспоминаний, словно очередная глава романа. Читатель, уже зная манеру письма Авиловой, невольно ждёт, читая первые строки, чего-то такого, что непременно должно случиться. А случится может только очень важное в их отношениях – очередной шаг и… преодоление последнего рубежа… И начало главы настраивает на ожидание: «Была масленица. Одна из тех редких петербургских маслениц – без оттепели, без дождя и тумана, а мягкая, белая, ласковая». Не случайно сказано: мягкая, белая, ласковая… И вот уже кажется, что ожидания оправдываются. Лидия Алексеевна пишет: «Миша уехал на Кавказ, и у нас в доме было тихо, спокойно и мирно. В пятницу у Лейкиных должны были собраться гости, и меня тоже пригласили. Жили они на Петербургской, в собственном доме». Ясно, что всё не случайно. Муж на Кавказе, мешать встречам некому, напротив, не только сестра, но и хозяйка дома, в который приглашена Авилова, на её стороне, на стороне её романа с Антоном Павловичем… И вот уже очередной шаг: «К Лейкиным попала довольно поздно. Меня встретила в передней Прасковья Никифоровна, нарядная, сияющая и, как всегда, чрезвычайно радушная. – А я боялась, что вы уже не приедете, – громко заговорила она, – а было бы жаль, очень жаль. Вас ждут, – шепнула она, но так громко, что только переменился звук голоса, а не сила его. – Я задержала? Кого? Что? – Ждут, ждут...» Очередная встреча с Чеховым, встреча особая, ведь Лидия Алексеевна уже нашла определение своим стремлениям к нему, своему желанию постоянно видеть его. Она поняла, что любит, по-настоящему любит. «…Антон Павлович был очень весел. Он не хохотал (он никогда не хохотал), не возвышал голоса, но смешил меня неожиданными замечаниями. Вдруг он позавидовал толстым эполетам какого-то военного (а может быть, и не военного) и стал уверять, что если бы ему такие эполеты, он был бы счастливейшим человеком на свете. – Как бы меня женщины любили! Влюблялись бы без числа! Я знаю! Когда стали вставать из-за стола, он сказал: – Я хочу проводить вас. Согласны?» И вот они мчатся по Петербургским улицам, и говорят, говорят о всякой всячине. Какое это счастье вот так мчаться в санях вдвоём с любимой и говорить, говорить, а в тайне мечтать о чём-то большем, волшебном, необходимом… У дома Авиловой вернёмся к её рассказу: «– Вы ещё долго пробудете здесь? – спросила я. – Хочется ещё с неделю. Надо бы нам видеться почаще, каждый день. Согласны? – Приезжайте завтра вечером ко мне, – неожиданно для самой себя предложила я. Антон Павлович удивился: – К вам? Мы почему-то оба замолчали на время. – У вас будет много гостей? – спросил Чехов. – Наоборот, никого. Миша на Кавказе, а без него некому у меня и бывать. Надя вечером не приходит. Будем вдвоём и будем говорить, говорить... – Я вас уговорю писать роман. Это необходимо. – Значит, будете?.. …Я, раздеваясь в спальне, думала: «Пригласила. Будет. Что же это я сделала? Ведь я его люблю, и он... Нет! Он-то меня не любит. Нет! Ему со мной только легко и весело. Но ведь теперь я уже сделала проступок. Миша с ума сойдёт, а я... мне уж нечем защищаться и бороться. Правоты у меня нет. Но какое счастье завтра! Какое счастье!» Не было у меня предчувствия, что меня ждёт». Вот и очередной шаг в развитии отношений, отношений безоблачных, радостных, «мягких, белых, ласковых», как сама ярмарка, с упоминаний о которой начата глава. И внезапно вырвавшееся приглашение в гости и мысли о том, что будет, как будет и самое главное – любит ли он её, как она любит его? Ну а далее, словно остросюжетный любовный роман, только прописанный и языком иным, чем нынешние суррогатные поделки, да и по глубине сопоставим с дешёвыми опусами… Разве не к месту фраза: «Я, раздеваясь в спальне, думала»… Авилова держит читателя в напряжении… Упоминание спальни, затем… «у меня предчувствия, что меня ждёт». Наконец-то, наконец, соединятся любящие сердца, наконец, станут «совсем близки»… Но вернёмся к воспоминаниям: «И вот настал этот вечер. С девяти часов я начала ждать. У меня был приготовлен маленький холодный ужин, водка, вино, пиво, фрукты. В столовой стол был накрыт для чая… Сколько необходимо сказать друг другу… Ужинать позднее…». В полном тексте – цитирую лишь выдержки – атмосфера ожидания, волнения. И вот, наконец: «В начале десятого раздался звонок. Прижавши руку к сердцу, я немного переждала, пока Маша шла отворять, пока отворила и что-то ответила на вопрос гостя». И вот тут совершенно неожиданный поворот в поистине остросюжетном стиле – что ж, жизнь, порой, даёт нам таки повороты, что и автором детективов, а не то что любовных романов, не снятся… «Тогда я тоже вышла в переднюю и прямо застыла от ужаса. Гостей было двое: мужчина и женщина, и они раздевались. Меня особенно поразило то, что они раздевались. Значит, это не было недоразумение: они собирались остаться, сидеть весь вечер. А всего несноснее было то, что это были Ш., Мишины знакомые, к которым он всегда тащил меня насильно, до того они были мне несимпатичны. Против него я ещё ничего не могла сказать, но она... Я её положительно не выносила… Оба были очень заняты и навещали нас, слава Богу, чрезвычайно редко. Надо же им было попасть именно в этот вечер!» Ну и вполне естественно, незваные гости отдали должное всему, что было с любовью приготовлено для Чехова! А его всё не было. «На наших больших столовых часах было половина одиннадцатого. Ясно, что Антон Павлович не придёт, и я уже была этому рада». Да, уж лучше, чтобы он не видел такого конфуза, ведь мог расценить, как насмешку. Может к место, может не совсем, вспоминается один эпизод из жизни Императора, известного нам под именем Александра Первого. Находясь на Венском конгрессе, он поставил себе цель соблазнять в день по известной, титулованной даме. И вот, узнав, что муж одной из таковых, уехал на охоту, намекнул, что собирается нанести визит. Обезумевшая от радости дама, прислала ему список гостей, которых он бы не желал видеть в тот вечер. Нужно было вычеркнуть нежелательных, и он вычеркнул всех, кроме неё самой. И вот наступил вечер, и он явился с визитом. Каково же было удивление Императора, когда он застал дома и саму даму и её мужа… Побыв, для приличия несколько минут, он удалился. Оказалось, что дама специально вызвала мужа с охоты, срочно вызвала, чтобы и он испытал радость общения с Императором России… Но ведь Авилова никого не вызывала, она стала жертвой случайности, но прекрасно понимала, что может подумать Чехов. Тут уж действительно, лучше, чтобы по какой-либо причине тот, с которым готовилась встреча наедине, не пришёл вовсе, ведь и он шёл с замиранием сердца и у него были какие-то неясные надежды, волнения, и он ожидал от встречи чего-то необыкновенного. Но… Судьба снова готовила испытание… «Вдруг в передней раздался звонок, и я услышала голос Антона Павловича. Он о чём-то спросил Машу. – Что с вами? – крикнула В.У. – Петя! Скорей воды... Лидии Алексеевне дурно. Но я сделала над собой невероятное усилие и оправилась. – Нет, я ничего, – слабо сказала я. – Почему вам показалось? – Но вы побледнели, как мел... Теперь вы вспыхнули... Вошёл Антон Павлович, и я представила друг другу своих гостей. Какой это был взрыв хохота! – Как? Антон Павлович Чехов? И Лидия Алексеевна не предупредила нас, что ждет такого гостя? Как мы счастливо попали! Вот когда вы ответите мне, Антон Павлович, на вопросы, которые я ставила себе каждый раз, как читала ваши произведения. Я хочу, чтобы вы ответили. Она напала на Чехова, как рысь на беззащитную лань. Она впилась в него, терзала, рвала на части, кричала, хохотала. Она обвиняла его, что он тратит свой большой талант на побасенки, что он ходит кругом и около, а не решает задачи, не дает идеала… …Антон Павлович защищался слабо, нехотя, говорил односложно. Он сидел над своим стаканом чая, опустив глаза». Можно представить себе, что было на душе у Чехова. С каким удивлением он воспринял приглашение, как это удивление сменилось на необыкновенную радость, и наверняка радость эта обратилась в надежды – ведь до сих пор им не доводилось оставаться совсем одним. А тут эти ужасные гости со своими советами, восторгами и критиканствами. Как он устал от всего этого, как хотелось ему побыть с женщиной необыкновенной, женщиной любимой… К счастью, у мужа крикливой дамы хватило ума увести её домой, как бы она не упиралась… Авилова рассказала: «Она в последний раз ринулась на Чехова, стала жать и трясти его руки и кричать ему в уши, что он большой, большой талант и что она верит в него и ждёт от него многого. Наконец крик перешёл в переднюю, потом на лестницу, и взрыв хохота потряс все этажи. Дверь хлопнула, и мы с Антоном Павловичем в изнеможении перешли в кабинет. – Вы устали, – сказал Антон Павлович. – Я уйду, вас утомили гости. Что со мной делалось? Я едва могла говорить. – Прошу вас, останьтесь…» Говорили о литературе, о творчестве Авиловой, Чехов давал деликатные, очень дельные советы. Тема, которая была на сердце у каждого из них после шумной компании никак не выходила из укрытия, в которое спряталась от бестактности и дерзости незваных гостей. Лидия Алексеевна описывает дальнейшие события: «Он успокоился, а я пошла в столовую за вином. Да и закусить бы надо. Но... какие жалкие остатки оставили Ш.! Я собрала, что могла, и отнесла на Мишин письменный стол. Свою пачку с рукописями я отложила на круглый столик у окна. – Я не хочу этого, – сказал Чехов, и мне показалось, что он сказал это брезгливо. Взял бутылку с вином, отставил её и налил себе пива. Мне было и стыдно и больно. Приняла гостя, нечего сказать. – Вам надо лечь спать, – сказал Чехов, – вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы рады будете, когда я уйду. Да, раньше... помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьёзно увлечён вами? Это было серьёзно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы ещё похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше, по-новому. И что ещё тяжелее расстаться... Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я – против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно». Недаром Николай Александрович Бердяев говорил: «Настоящая любовь – редкий цветок». Добавим к тому – хрупкий цветок. Очень хрупкий. Можно себе представить, с каким настроением шёл Чехов на эту встречу, и как это настроение было испорчено. Оно было испорчено так, что раздражение его обратилось теперь не только на дерзко ворвавшуюся в его надежды семейку, но, отчасти, и на его возлюбленную, на Авилову, оказавшуюся без вины виноватой. Едва ли он мог заподозрить, что это была некая шутка. Зачем? Для чего? Он, как писатель, как человек проницательный не мог не заметить, сколь удручена гостями сама Лидия Авилова. Но уже не мог сдержать эмоций, поскольку на протяжении всего времени, пока гости мучали его, не мог понять, зачем они здесь, для чего? Чехов не любил пустых компаний и глупых общений, а тут его вынудили целый вечер слушать всякий вздор и участвовать в этом вздоре. Вот и Авилова написала далее о настроении Чехова: «У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его; изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь не интересна, не гостеприимна и, сверх того, устала и хочу спать. «Кошмар», – промелькнуло у меня в голове. – Я вас любил, – продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. – Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, которых и я бросал, и которые меня бросали; что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. И вы были для меня святыней. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это? Он взял мою руку и сейчас же оставил её, как мне казалось, с отвращением. – О, какая холодная рука! И сейчас же он встал и посмотрел на часы. – Половина второго. Я успею ещё поужинать и поговорить с Сувориным, а вы ложитесь скорей спать. Скорей. (…) – Я, кажется, обещал ещё завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся. Всё? Разрыв? Как ещё оценить столь быстрый уход Чехова? Авилова была в отчаянии: «Когда Антон Павлович ушёл, я закуталась в платок и стала ходить по комнатам. Ходила и тихо стонала. Было не то что больно, а невыносимо тревожно, тесно в груди. Перед глазами всё стояло лицо Антона Павловича, строгое, с холодными, требовательными глазами. Представлялись и жалкие остатки ужина на блюдах... Невольно я отмахивалась рукой: фу! Кошмар! Очень устала ходить и немного пришла в себя. В голове облака начали проясняться, исчезать. «Я вас любил...» – вдруг ясно прозвучало в ушах. Я пришла в тёмный кабинет и села на прежнее место. «Знали вы это?» Закрыв глаза, я сидела, откинувшись на спинку кресла…» Казалось, всё кончено. И никаких надежд. И вдруг, лучик надежды – тоненький лучик, но всё же. Она вспомнила, что он взял рукописи, причём, долго искал, куда я их положила, не спрашивая, где они, а когда нашёл, взял с собой. И она подумала: «Значит, вернёт, может быть напишет что-нибудь? Ещё, значит, не всё кончено... Не совсем всё, можно ещё ждать чего-то? Читать будет моё. Конечно, из великодушия, по доброте своей, но со скукой, с досадой, может быть с отвращением. Ах, лучше бы не читал! Я плакала навзрыд, вытирая мокрое лицо мокрым платком. – Нет, я не знала! – повторяла я про себя, отвечая на его вопрос: знали ли вы? – Нет, я не знала! Я была бы счастлива, если бы знала, а я не была счастлива, никогда, никогда!» На следующий день посыльный принёс пакет с книгой и рукописями Лидии Алексеевны. В пакете она нашла письмо Чехова. Но сначала раскрыла книгу там, где обычно делаются надписи. Прочла сухие слова: «Л.А. Авиловой от автора». Ну а в письме – разбор рассказов. И снова совет писать роман. На письме стояла дата 15 февраля 1895 года. Ни слова не нашла она в письме об их отношениях, ни слова о любви, лишь краткое сообщение: «Сегодня я остался, или, вернее, был оставлен, завтра непременно уезжаю…» Но, поразмыслив, Авилова посмотрела на происшедшее под другим углом зрения: «Пригласила Антона Павловича, когда Миши не было дома. Что он мог подумать? Соблазняла его тем, что мы будем одни. Что он мог заключить? Всё это я делала без дурного умысла и воображала, что и Антон Павлович не видит в этом ничего предосудительного. А теперь я вспоминала слова Миши: «Удивительно, до чего ты наивна! Прямо до глупости. Все мужчины более или менее свиньи, и надо с этим считаться. Не клади плохо, не вводи вора в грех…» Оставалось только повиниться Мише.., и опять жить без праздничного, яркого солнца, без этого тайного счастья, уже привычного, уже необходимого… Я не знаю, как это случилось, но вдруг все мои рассуждения смело, как вихрем. И этот вихрь была моя вера, моя любовь, моё горе. Таким был итог несостоявшейся встречи наедине. К чему бы привела такая встреча, мы не знаем. Да и не знали сами её участники – Чехов и Авилова. Да и не нам судить двух любящих людей, сближение которых было столь необыкновенным, пронзительным и столь же сложным. Тайный вопрос и ответ в «Чайке» Лидия Алексеевна долго не могла успокоиться, долго переживала, долго корила себя. Она искала свою вину, хотя была без вины виноватой. Вполне естественно стремление быть рядом с бесконечно любимым человеком. Для чего? Да для того, чтобы просто быть рядом, наедине, чтобы никто не мешал говорить, никто не мешал посмотреть глаза в глаза… На а остальное?! Остальное поистине любящие люди заранее не планируют. Остальное – это движение сердец, это веление восторженных душ. Но встреча оказалась испорченной. Лидия Алексеевна искала свои ошибки, свою вину. Она размышляла: «Он уехал потому, что я оттолкнула его. Да, конечно, я оттолкнула! Я причинила ему боль. И он не знает, в каком я была состоянии... и какое это было ужасное недоразумение... и как мне тяжело. Промучившись ещё дня два, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На одной стороне я написала: «Повести и рассказы. Соч. Ан.Чехова», а с другой – «Стран. 267, стр. 6 и 7». Если найти эти строки в книге, то можно было прочесть: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её». Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату. А его просила отнести и отдать в редакцию «Русской мысли». Брат передал футляр Гольцеву для передачи Антону Павловичу. Я сделала все это с тоски и отчаяния, перемахнула, лишь бы Антон Павлович не чувствовал себя отвергнутым и лишь бы не потерять его совсем. Адрес же вырезала, чтобы не было явного признания, чтобы всё-таки оставалось сомнение для него, а для меня возможность отступления. Не могла же я отдать ему свою жизнь! Разве что сразу четыре жизни: мою и детей. Но разве Миша отдал бы их мне? И разве Антон Павлович мог их взять?» Словно бы об этой ситуации писал Николай Александрович Бердяев, хотя, конечно, он совсем не имел в виду отношений Чехова и Авиловой: «Вопрос о детях совсем другой вопрос и очень, конечно, важный. Но когда родители не любят друг друга, то это плохо отзывается на детях. Я знаю, что моя точка зрения будет признана асоциальной и опасной». И далее, будто тоже на эту тему? «Есть несоизмеримость между женской и мужскою любовью, несоизмеримость требований и ожиданий. Мужская любовь частична, она не охватывает всего существа. Женская любовь более целостна. Женщина легко делается одержимой. В этом смертельная опасность женской любви. В женской любви есть магия, но она деспотична. И всегда есть несоответствие с идеальным женским образом... Образ женской красоты часто бывает обманным. Женщины лживее мужчин, ложь есть самозащита, выработанная историческим бесправием женщины со времён победы патриархата на матриархатом. Но женская любовь может подниматься до необычайной высоты… Это любовь, спасающая через верность навеки… У женщин есть необыкновенная способность порождать иллюзии, быть не такими, каковы они на самом деле». (В.Соловьёв. «Смысл любви»). Верно, что женственная стихия есть стихия космическая, основа творения; лишь через женственность человек приобщается к жизни космоса. Человек в полноте своей есть космос и личность. В сильной эмоции любви есть глубина бесконечности… Любовь есть выход из обыденности для многих людей может быть единственный. Но таково начало любви. В своём развитии она легко попадает под власть обыденного. В любви есть бесконечность, но есть и конечность, ограничивающая эту бесконечность. Иногда сон напоминает о забытом, и тогда печаль охватывает душу. Мне всегда казалось странным, когда люди говорят о радостях любви. Более естественно было бы… говорить о трагизме любви и печали любви… Но бывает, хотя и нечасто, необыкновенная любовь, связанная с духовным смыслом жизни». Что представляла собой любовь Авиловой к Чехову? Да, это была «необыкновенная любовь, связанная с духовным смыслом жизни». Но она не могла превратить двух этих, по-своему любящих людей в «идеальную пару», ибо, как удивительно точно трактуется в «Откровениях людям Нового века»: «Идеальная пара, идеальный брак достигается только при гармонии Духа и Гармонии сексуальных отношений, – одно без другого невозможно». «Но, самое главное, чувство Любви, всё же есть чувство Гармонии двух начал (мужского и женского), есть чувство Гармонии Душ!!!» Что же испытывал Чехов по отношению к Авиловой? Каковы были его чувства? Авилова знала, что брелок, посланный Антону Павловичу, он наверняка получил. Но вопреки её ожиданием ответа от Чехова – доброго ли, саркастического ли – было полное молчание, напоминающее забвение. Ну а время делало своё всесокрушающее в вопросах любви дело: Авилова призналась: «Как мне надоело разбираться в моих мыслях! Повторять про себя все сказанные Чеховым слова, которые я уж выучила наизусть и которые всегда ярко вызывали в памяти лицо и голос Антона Павловича». И в то же время сердце отчаянно сопротивлялось этому действию времени: «Одно для меня было ясно: ничего не могло быть понятнее, естественнее и даже неизбежнее, чем то, что я полюбила Чехова». Разве не свидетельствуют о высоких и искренних чувствах такие признания: «Когда говорил Антон Павлович, хотелось смеяться от счастья». «Вот почему было естественно и неизбежно, что я любила Антона Павловича». Закономерны и сомнения: «Но почему бы он мог любить меня? Только потому, что я была молода и приблизительно красива? Но сколько женщин были моложе и красивее!» И безусловный вывод: «Не могло быть сомнения, что Антон Павлович получил брелок, но не отозвался ничем, даже переписка наша прекратилась. Надо было жить без него. И я жила. По-видимому, жила даже веселее прежнего. А далее, словно краткие дневниковые вспышки, после которых успокоение, но ненадолго: «…мне казалось, что я с каждым днем всё меньше и меньше думаю об Антоне Павловиче. Он отвернулся от меня, ну и я стала равнодушной. Я, несомненно, выздоравливала. Разве я тосковала? Разве я предпринимала хотя что-нибудь, чтобы опять сблизиться с ним?.. И только иногда, изредка, вернувшись из какой-нибудь поездки за город или с вечера с танцами, удостоверившись, что Миша заснул, я садилась к столу и писала Антону Павловичу письмо. Я писала и плакала. Плакала так, что потом ложилась изнеможенная, разбитая. Писем этих я никогда не отсылала, да и в то время, как писала, знала, что не пошлю». Но в очередной главе Лидия Авилова посвящает читателей в новый водоворот события с почти уже знакомыми явлениями: «Опять была масленица. Я сидела вечером в кабинете Миши и читала. Брат, приехавший из Москвы, играл в гостиной на рояли, муж за письменным столом что-то писал. Вдруг крышка рояля хлопнула, и брат Алеша быстро вошел к нам. – Не могу я больше в этой адской скучище мучиться! – крикнул он. – Неужели я за этим приехал в Петербург? Едемте куда-нибудь!» Опять была масленица! Но что же ещё случится «опять»? Ведь не зря же такое начало… Неужели новая встреча с Чеховым, о котором, как она себя убеждала, уже начинала забывать? Брат уговорил Авилову ехать на маскарад. Муж отказался, ещё и посмеялся над ними. Маскарад был назначен в театре Суворина. В маленьком магазинчике костюмов, который уже закрылся, и хозяйка нехотя впустила покупателей, при свете свечи кое-как подобрали костюмы. Лидии Алексеевне удалось найти по размеру только чёрное домино, хотя и этот костюм был несколько коротковат. Наконец, они с братом облачились в наряды и отправились в театр. И вот описание маскарада: «Зал театра показался мне каким-то кошмаром. Он был битком набит, двигаться можно было только в одном направлении, вместе с толпой. Я нащупала в своей сумке пару орехов (остались после игры в лото с детьми) и сунула их в рот, чтобы не забыться и не заговорить своим голосом, если встречу знакомых. – Не подавись! – предупредил брат и вдруг чуть не вскрикнул: – Смотри направо... Направо стоял Чехов и, прищурившись, смотрел куда-то поверх голов вдаль. – Теперь, конечно, я свободен? – сказал Алеша и сейчас же исчез. Я подошла к Антону Павловичу. – Как я рада тебя видеть! – сказала я. – Ты не знаешь меня, маска, – ответил он и пристально оглядел меня. От волнения и неожиданности я дрожала, может быть, он заметил это? Ни слова не говоря, он взял мою руку, продел под свою и повёл меня по кругу. Он молчал, и я тоже молчала. Мимо нас проскользнул Владимир Иванович Немирович-Данченко. – Э-ге-ге! – сказал он Чехову. – Уже подцепил! Чехов нагнулся ко мне и тихо сказал: – Если тебя окликнут, не оборачивайся, не выдавай себя. …Мы с трудом выбрались из толпы, поднялись по лестнице к ложам и оказались в пустом коридоре. – Вот, как хорошо! – сказал Чехов. – Я боялся, что Немирович назовёт тебя по имени, и ты как-нибудь выдашь себя. – А ты знаешь, кто я? Кто же? Скажи! Я вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся. – Знаешь, скоро пойдёт моя пьеса, – не отвечая на вопрос, сообщил он. – Знаю. «Чайка». – «Чайка». Ты будешь на первом представлении? – Буду. Непременно. – Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только будь внимательна. Не забудь». Авилова ждала «Чайку» с особым нетерпением. Чехом просил быть внимательной. Для чего? Какая тайна в спектакле? Муж в театр не пошёл, но билет достал, сказав: «Вот тебе, чехистка! У меня заседание. И, по правде сказать, не велика потеря...» Свой поход в театр Лидия Алексеевна описала подробно, и на то была веская причина: «Я отправилась одна и тоже, по правде сказать, была этому рада. Про то, что я жду ответа со сцены, я, конечно, никому не сказала, даже Алёше, но скрыть своего волнения я не могла. Давно ждала я этого дня и всё время думала то одно, то другое. Узнал меня Антон Павлович или не узнал и принял за другую?..» И вот после описания негодования в зале по поводу пьесы, после описания своих собственных волнений и ожиданий, Авилова написала: «Пьеса с треском проваливалась. Что же должен был теперь переживать Антон Павлович? Кто был с ним, чтобы он чувствовал рядом друга? Кто мог облегчить его состояние? Как я завидовала бы этому человеку, если бы знала его! А про ответ со сцены Антон Павлович, очевидно, пошутил. Сказал на всякий случай неизвестно кому. Но вот... вышла Нина, чтобы проститься с Тригориным. Она протянула ему медальон и объяснила: «Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги». «Какой прелестный подарок!» – сказал Тригорин и поцеловал медальон. Нина ушла... а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочёл: «страница 121, строки 11 и 12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину: – Есть мои книги в этом доме? И уже с книгой в руках он повторил: «страница 121, строки 11 и 12». А когда нашёл страницу и отсчитал строки, прочёл тихо, но внятно: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её». С самого начала, как только Нина протянула медальон, со мной делалось что-то странное: я сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что мне показалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся ко мне и смотрит мне в лицо. В голове был шум, сердце колотилось, как бешеное. Но я не пропустила и не забыла: страница 121, строки 11 и 12. Цифры были все другие, не те, которые я напечатала на брелоке. Несомненно, это был ответ. Действительно, он ответил мне со сцены, и ответил мне, только мне, а не Яворской и никому другому. «Тебе!» «Ты!» Он знал, что говорил это мне. Весь вечер он был со мной и знал, что со мной. Значит, сразу узнал меня. С первого взгляда. Но что в этих двух строках? Что в этих двух строках?... Дома муж стал расспрашивать о премьере. Она рассказала о провале, и он неожиданно встал на сторону Чехова, что хоть немного утешило её и порадовало. Но… вспоминался ответ со сцены и не выходили из головы цифры: «121,11, и 12»: Что там? На этой странице 121 и на строках 11 и 12? И вот, наконец, муж ушёл в спальню и она, быстро отыскав книгу, открыла её на 121 странице и отсчитав строки, прочла: «...кие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?» Она снова и снова читала, пытаясь отгадать, что же он хотел сказать: «Что ты смотришь на меня с таким восторгом. Я тебе нравлюсь?» Она пыталась понять и не могла. Вот её мысли: «Катит он теперь в Москву, сидит и думает. Нет, думать он сейчас не может. Он отмахивается от того, что продолжает видеть и слышать: растерянных артистов на сцене, звериных харь в зале, свист, хохот. О, я хорошо знала, помнила это состояние, я его пережила. Но вспоминается ли ему его «ответ»? Представляет ли он себе моё чувство, когда после такого долгого ожидания, после такого волнения и нетерпения я прочту: «Я тебе нравлюсь?» Стоило ли из-за этого втискивать в пьесу этот эпизод с медальоном? Спать я не могла. И меня преследовали воспоминания того, что я видела в театре, впечатления этого грандиозного провала и моё собственное разочарование. «Я тебе нравлюсь?» И вдруг точно молния блеснула в моем сознании: я выбрала строки в его книге, а он, возможно, в моей? Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет, нашла свой томик «Счастливца», и тут, на странице 121, строки 11 и 12, я прочла: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается». Вот это был ответ! Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Всё он угадал, всё знал». И хотя ответ был слишком общим, Авилова была рада тому, что Чехов прочитал, что он думал о ней и даже авторской своей властью заставил участвовать в этой тайной символической их переписке актёров. «Пусть этот вечер решит все вопросы..» Следующая встреча произошла неожиданно, снова в театре Суворина, где «шла какая-то переводная пьеса». Авилова увидела Чехова в ложе Суворина и огорчилась, что он не предупредил её о своём приезде. Огорчение продолжалось недолго. Они встретились в фойе. Авилова вспоминала: «Увидев меня, он быстро шагнул мне навстречу и взял мою руку. – Пьеса скучная, – поспешно сказал он. – Вы согласны? Не стоит смотреть её до конца. Я бы проводил вас домой. Ведь вы одна? – Пожалуйста, не беспокойтесь, – ответила я. – Если вы уйдете, вы огорчите Сувориных. Антон Павлович нахмурился. – Вы сердитесь. Но где и когда я мог бы с вами поговорить? Это необходимо. – И вы находите, что самое удобное на улице, под дождем и снегом? – Так скажите: где? когда? – Пригласите меня, по привычке, ужинать в ресторан. – По какой привычке? Почему вы думаете, что у меня такая привычка? Что с вами? Дверь ложи открылась, и показался Суворин. – Видите, вас ищут. Идите скорей на ваше место. Я засмеялась и быстро пошла по коридору. – Кажется, ясно, что я выздоровела, – сказала я себе со злостью, хотела пойти в зрительный зал, но раздумала, пошла к вешалке, оделась и ушла. Действительно, шёл снег и вместе со снегом – дождь. Ветер налетал порывами и мешал идти. – Свезу? – спросил извозчик. Я поколебалась и прошла мимо. Не хотелось домой, да и было слишком рано: меня не ждали. «Удивительно умно все, что я сделала и сказала! – казнила я себя. – Выздоровела!.. Боже, до чего я несчастна! Кто мне навязал эту несчастную, дурацкую любовь! А он хотел поговорить со мной. О чём? «Необходимо...» И что же, я опять оскорбила его?» Я подумала и с грустью решила: нет, он понял. Он всё понимает, он всё знает. Вот теперь видит моё пустое место, и ему тяжело. Но как тяжело? Из сострадания? Ах, если бы и он любил меня! Если бы... А тогда что? Я долго кружила по улицам и переулкам, но разрешить своего последнего вопроса не могла…» И всё-таки выздоровления не произошло. Авилова и Чехлов условились о встрече в Москве. Она собиралась в Москву в марте. Чехов обещал специально приехать туда из своего Мелихова. 18 марта 1897 года он написал Авиловой: «Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с Вами, очень – несмотря на то, что Вы сердитесь и желаете мне всего хорошего «во всяком случае». Я приеду в Москву до 26 марта, по всей вероятности в понедельник, в 10 часов вечера, остановлюсь в Б. Московской гостинице, против Иверской. Быть может, приеду и раньше, если позволят дела, которых у меня, увы! очень много. В Москве пробуду до 28, а потом, можете себе представить, поеду в Петербург. Итак, до свиданья. Смените гнев на милость и согласитесь поужинать со мной или пообедать. Право, это будет хорошо. Теперь я не надую Вас ни в коем случае, задержать меня дома может только болезнь. Жму Вам руку, низко кланяюсь. Ваш Чехов». Лидия Алексеевна сообщила Чехову свой адрес и вскоре получила от него, уже будучи в Москве, записку, присланную с посыльным. «Б. Московская гостиница, N 5. Суббота. Я приехал в Москву раньше, чем предполагал, когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома. Не найдёте ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к Вам? Желаю Вам всего хорошего. Ваш Чехов». Авилова отправила ответ с обещанием быть у него в тот же вечер. Она снова ждала встречи, ждала и волновалась, ждала и размышляла: «Пусть этот вечер решит все вопросы, которые так измучили меня. Затем мы и назначили друг другу это свидание, чтобы всё выяснить и решить. Я знала, что мы решим расстаться, но как? Скажет ли он мне, наконец, что я значу для него? Одинаково ли трудно будет нам расстаться, или он, жалея меня, сам отнесётся к этому равнодушно? Конечно, я пойму, я угадаю. Его письма всегда казались мне холодными, натянутыми, чужими…». Лидия Алексеевна пришла вовремя. Швейцар поинтересовался, к кому она направляется, и, услышав ответ, сообщил, что Чехова нет дома. Куда и с кем уехал, не пояснил. Она продолжала допрашивать швейцара, ещё не веря в то, что он сказал: «– Не может быть! Вероятно, он не велел принимать? Он нездоров. Он мне писал... – Не могу знать. Только его нет. С утра уехал с Сувориным». Уехал с Сувориным… Словно ушат холодной воды вылили на голову. Хорошо, что поддержал брат Алексей, к которому она отправилась, сама не своя. Брат пошёл её провожать, и Авилова изливала ему свою душу: «– Пойми, Алеша. С тех пор, как я узнала, что люблю его, я только мучилась, только боролась, только старалась избавиться от этой любви. Я по-прежнему, нет! больше прежнего привязалась к Мише, а про детей... Ну, ты сам знаешь, что для меня дети! Видишь ли, я жила обыкновенной женской жизнью, пока не взошло для меня это солнце. Но когда оно взошло... Ты осуждаешь меня? Но подумай: если бы я полюбила бы какого-нибудь Коку, так как он красивей, веселей, забавней Миши – я презирала бы себя. И случись такая гадость, неужели было бы трудно избавиться от нее? Надо только порвать сразу, не видеть, не слышать. Могу ли я это с Чеховым? Ведь он всюду. Тогда не надо ни читать, ни бывать в театре, ни слушать разговоров. Где его нет? Как от него уйти? А если нельзя, все равно нельзя, то как отказаться от того, что он даёт мне? Пусть это мучительно, пусть отравлено, но то, что я имею от него, – это счастье! Его письма, его внимание, его голос, его глаза, устремлённые на меня, о, какое это счастье! Иногда, вообрази, мне кажется, что он любит меня. Да, это случается, и тогда... Ну, тогда ещё большая мука. Но какое счастье! Какое счастье! Видишь, я все говорю: счастье, а разве я счастлива? Это, знаешь, как улыбка на заплаканном лице. Нет, конечно, он меня не любит, но он знает, что я его люблю, и это ему не неприятно. Всё-таки это связывает нас, всё-таки это какая-то близость. За что осуждать меня, если я никому, никому зла не делаю, ни у кого ничего не отнимаю? В чём я виновата? ….На другой день пришёл Алеша и сообщил, что Антон Павлович серьёзно заболел, и его отвезли в клинику». Вот так снова сорвалась встреча наедине… Словно какой-то рок навис над этой высокой и чистой любовью – то вмешались бесцеремонные гости, то навалилась болезнь… Авилова тут же отправилась в клинику. Брат Алексей вызвался проводить. Но в приёмной клиники решительно отказали – Чехов чувствовал себя очень плохо. К нему допускали только сестру Марию Павловну. Больше никого. И всё-таки удалось уговорить приглашённого в приёмную врача сообщить Чехову о том, что приехала Авилова. Врач вернулся и сказал, что Чехов очень хочет её видеть… Врач строго инструктировал: «Чтобы он не говорил ни слова! Вредно. Помните: от разговора, от волнения опять пойдёт кровь. Даю вам три минуты. Три минуты, не больше.... Сами будьте спокойнее. Через три минуты приду. Авилова подробно описала этот свой печальный визит: «Он лежал один. Лежал на спине, повернув голову к двери. – Как вы добры... – тихо сказал он. – О, нельзя говорить! – испуганно прервала я. – Вы страдаете? Болит у вас что-нибудь? Он улыбнулся и показал мне на стул около самой кровати. – Три минуты, – сказала я и взяла со стола его часы. Он отнял их и удержал мою руку. – Скажите: вы пришли бы? – К вам? Но я была, дорогой мой. – Были?! О, как не везёт нам! не везёт нам!..» А на следующий день Лидия Алексеевна взяла корректуру книги. Из издательства вышла в расстроенных чувствах – там сочувствовали Чехову, но считали его умирающим. Говорили о том, что весна, что река пошла, а это время для таковых больных самое страшное. Поскольку в клинику было идти ещё рано, она пошла к реке, остановилась на мосту, глядя на очищавшуюся от остатков льда воду, и думая о Чехове: «До тридцати лет я жил припеваючи», – как-то сказал он. – После тридцати осилила, изломала жизнь? И теперь уносит?» Лидия Алексеевна задумалась над этими словами: «Эх, жизнь! Могла ли она удовлетворить такого исключительного человека, как Чехов? Могла ли не отравить его душу горечью и обидой? Эту глубокую, чистую душу, такую требовательную к себе. Не нашёл счастья Антон Павлович! Едва прошёл хмель молодости, когда беспредметно бьёт ключом в груди радость бытия, едва он серьёзно и требовательно оглянулся кругом, как уже начал себя чувствовать в пустыне, как уже стал одиноким. Быть может, смутно было вначале это чувство, но становилось все определённее, всё ощутимее… И, возможно, не понимал он и не знает и теперь, что слишком высоко стоит он над всеми и что по его росту в нашей жизни счастья для него ещё нет». Этот удивительный отзыв о Чехове, сделанный безгранично любящей его женщиной, писательницей, тонкой натурой, наверное, наиболее точен и правдив. И вот снова Авилова у койки больного в клинике. Она принесла цветы: «В палате я сразу увидела те же ласковые, зовущие глаза. Он взял букет в обе руки и спрятал в нем лицо. – Все мои любимые… Как хороши розы и ландыши... Вы опоздали, – сказал Антон Павлович и слабо пожал мою руку. – Нисколько. Раньше двух мне не приказано. Сейчас два. – Сейчас семь минут третьего, матушка. Семь минут! Я ждал, ждал... Он стал разбирать книги и газеты, которые я ему принесла. Корректуру положил на стол и слушал отчёт о моём посещении Гольцева. – К сожалению, я почти всё читал, – тихо говорил он. – Неизданные статьи Льва Николаевича Толстого? Последние? Да, это я прочту с удовольствием. Я не разделяю... – Нельзя вам говорить! – прервала я его, – а вы, кажется, собираетесь разбирать учение Льва Николаевича. – Когда вы едете? – Сегодня. – Нет! Останьтесь ещё на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу! Я достала и дала ему все три телеграммы. Он долго их читал и перечитывал. – По-моему, на один день – можно. – Меня смущает это «выезжай немедленно». Не заболели ли дети? – А я уверен, что все здоровы. Останьтесь один день для меня. Для меня, – повторил он. Я тихо сказала: – Антон Павлович! Не могу. Я представила себе: что будет? Я пошлю телеграмму, что задержалась, и Миша сегодня же вечером выедет в Москву. Но положим, что он не выедет, дождётся меня. Какой приём меня ожидает? И это бы ничего! Но ведь я дам ему уверенность, что люблю Антона Павловича, и сделаю так, что от нашего семейного счастья не останется и следа. И его и моя жизнь превратится в ад. А из-за чего? Из-за лишнего визита продолжительностью в три минуты. Мысли беспорядочно неслись в моей голове. – Значит, нельзя, – сказал Антон Павлович. И я убедилась, что он опять всё знает и всё понимает. И Мишину ревность, и мой страх. …Ах, как мне хотелось встать тут на колени, около самой постели, и сказать то, что рвалось наружу. Сказать: «Любовь моя! Ведь я не знаю... не смею верить... Хотя бы вы один раз сказали мне, что любите меня, что я вам необходима для вашего счастья. Но никогда... Если я останусь сегодня, это будет решительный шаг. А говорить об этом нельзя. Вы слабы, вас нельзя волновать». – Выздоравливайте! – сказала я и пожала руку Антону Павловичу сверху, как она лежала на одеяле. – Счастливого пути, – сказал он, и я быстро пошла к двери. И, как в прошлый раз, он меня окликнул. – В конце апреля я приеду в Петербург. Самое позднее в начале мая….» Вряд ли ещё кто-то описал Чехова в дни его болезни с такой любовью, с таким состраданием, с таким сочувствием. «Одинокому везде пустыня». Лидия Алексеевна вернулся в Петербург. Чехов остался в больнице, в тяжёлом состоянии. Эта встреча показала многое, она показала их чувства, хотя Авилова всё ещё не могла поверить во взаимность. Ей хотелось каких-то определённых слов, уверений, но разве всегда нужны эти уверения, разве не видно по отношению к ней Антона Павловича, какие чувства переполняли его. Уже через несколько дней пришло от него письмо. Чехов писал: «Москва 1897 г. марта 28. Ваши цветы не вянут, а становятся всё лучше. Коллеги разрешили мне держать их на столе. Вообще, Вы добры, очень добры, и я не знаю, как мне благодарить Вас. Отсюда меня выпустят не раньше пасхи; значит, в Петербург попаду не скоро. Мне легче, крови меньше, но всё ещё лежу, а если и пишу письма, то лежа. Будьте здоровы. Крепко жму Вам руку. Ваш Чехов». А Лидия Алексеевна вспоминала всё, что было в Москве, в его палате. Вспоминала, как он заслонял руками её цветы, чтобы она не унесла их, выполняя требования врачей. И особенно дорогую ей строчку, которую написал он: «Я Вас очень лю благодарю»? И думала свою печальную думу: «Просил он меня остаться? и виновато признавался: «Я слаб... Я не владею собой». И вот сейчас лежит он всё там же, и цветы мои стоят перед ним на столе, но он уже не ждёт меня. Я отказалась остаться «для него» даже на один день, и он понял, что для меня семья дороже его счастья, что моя любовь, между прочим, что во мне ничего нет настоящего: ни мужества, ни самоотверженности, ни силы. Он теперь понял меня до дна и грустно усмехнулся. «Одинокому везде пустыня…». Лидия Алексеевна мечтала о встрече, быть может, мечтала тайно даже от самой себя. Она ждала конца апреля, но здоровье Чехова ухудшалось, и он не смог приехать в Петербург, а осенью его врачи и вовсе отправили за границу. Он уехал лечиться в Ниццу. И началась переписка, которая изобиловала символами. Посылая Чехову вырезки газет со своими рассказами, Лидия Алексеевна надеялась, что он найдёт в рассказах то, что относится непосредственно к нему, признания, адресованные ему. Слова, адресованные Чехову, она вложила в уста героине рассказа «Забытые письма»: «…жизнь без тебя, даже без вести о тебе, больше чем подвиг – это мученичество». «Я счастлива, когда мне удаётся вызвать в памяти звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих губах… Я думаю только о тебе». «Я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь, что любишь меня? Мне так бы хотелось припомнить именно эту простую фразу… Ты говорил о том, что любовь всё очищает и упрощает… Любовь…» А в последнем письме как бы звучит завуалированный вопрос. К кому? Только они двое – Чехов и Авилова – знали, к кому он обращён, этот главный вопрос, столь необычным поставленный. И поставлен очень просто – героиня пишет на «вы», как прежде, а «ты»: «В Вашей веселой рассеянной жизни я была лишь развлечением – и только». Чехов прочитал рассказы в Ницце и в письме от 3 ноября 1897 года сообщил об этом и о своём впечатлении: «Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочитал Ваши «Забытые письма». Это хорошая, умная, изящная вещь. Это, маленькая, куцая вещь, но в ней пропасть искусства и таланта, и я не понимаю, почему Вы не продолжаете именно в этом роде. Письма – это неудачная, скучная форма, и притом лёгкая, но я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу… Гольцев был прав, когда говорил, что у Вас симпатичный талант, и если Вы до сих пор не верите этому, то потому, что сами виноваты». Авилова надеялась, что Чехов поймёт, и он понял, а она потом переживала и писала о своих переживаниях: «Зачем мне надо было писать ему в Ниццу, послать «Забытые письма», полные страсти, любви и тоски? Разве мог он не понять, что к нему взывали все эти чувства? Зачем я это сделала, тогда как уже твёрдо знала, что ничего я ему дать не могу» Лишь следующим летом Чехов приехал в Россию и тут же отправил письмо Авиловой: «Гостей так много, что никак не могу собраться ответить на Ваше последнее письмо. Хочется написать подлиннее, но руки отнимаются при мысли, что каждую минуту могут войти и помешать. И в самом деле, пока я пишу эти слова «помешать», вошла девочка и доложила, что пришёл больной. Надо идти. …Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости». Время шло, и Лидия Алексеевна всё чаще с горечью думала: «Неужели я никогда, никогда не принесу ему ничего, кроме огорчений?» И наконец, «собралась с духом и решила поговорить с Мишей». О Чехове, о его болезни, его одиночестве и тоске. «– Помнишь, ты жалел о том, что вытребовал меня телеграммами из Москвы, когда он лежал в клинике? Исправь теперь свою вину, отпусти меня на несколько дней в Ялту. Нельзя же, право, смотреть на мою дружбу с Чеховым с обычной точки зрения, нельзя не оказать ему больше доверия, больше уважения. Мой приезд развлечёт, доставит ему маленькую радость. Я говорила и удивлялась, что Миша меня не прерывает, а слушает молча. Я заранее была уверена, что наш разговор не пройдёт гладко, а вызовет гром и молнии, но у меня были причины надеяться, что дело может повернуться в мою пользу. – Почему бы мне не поехать? – продолжала я. – Ведь я уже не молода и не легкомысленна, Антон Павлович болен... Но тут-то и разразилась гроза. – Ах, он болен! В Ялту? К Чехову? Он болен? Конечно, болен, он чахоточный. Знаем мы этих чахоточных! Ведь это первые... (Он сказал слово, которое я повторить не могу.) Да! Это свойство болезни. Ведь это вы живёте в розовом тумане, ровно ничего не знаете, ничего не понимаете. Ах, как трудно было выдержать спокойный, мирный тон! Кровь бросилась в голову. – Ты несправедлив, – сказала я, – и то, что ты говоришь, возмутительно. Я десять лет знаю Антона Павловича. Знаю его хорошо. Знаю и его безукоризненное отношение ко мне... – Что ты знаешь?! – кричал Миша. – Что ты можешь знать? Тогда и я перестала владеть собой. Когда он любил меня и ревновал, я это понимала и прощала ему его грубость, но теперь, когда он был влюблён в другую, когда смотрел на меня только как на собственность, которую, отложив, всё-таки надо было приберечь, – теперь я возмутилась и негодовала. – Я уеду! – в заключение нашего длинного и бурного разговора заявила я. – Ты так и знай. Уеду! Почему я не только должна терпеть, но и должна всячески содействовать твоему увлечению ничтожной женщиной, а ты, где и как только можешь, препятствуешь моей дружбе с самым умным, благородным и талантливым человеком? – Ты истеричка! – визгливым голосом закричал Миша. – Тебя лечить надо. И ты воображаешь, я не понимаю: ведь ты мне устроила сцену ревности, как самая пошлая баба. Уедешь, а на другой день после твоего приезда в Ялту появится заметка в газете: «Писательница Авилова прибыла в Ялту к Чехову». Будет публичный скандал. Я буду басней города. А на другой день Миша был тих, любезен, предупредителен, но жаловался на здоровье – в сердце перебои, колотье. – Так было у отца незадолго до его смерти. Когда он ушёл на службу, моя маленькая Ниночка уселась у меня на коленях, прижалась ко мне и сказала: – Мамочка, не уезжай от нас. Нам будет очень плохо. Папа будет болен. А я буду плакать, плакать!.. – Это тебя папа научил сказать? – Да, папа. – А ещё что он просил сказать? – А я забыла. Я не уехала…» Трогательны воспоминания о последней встрече с Чеховым, о короткой встрече. О том, что она последняя, Авилова не знала. «Прощание в вагоне было прощанием навсегда…» В середине апреля Чехов приехал в Москву и сообщил об этом Лидии Алексеевне. А она собиралась на дачу. Причём путь пролегал через Москву, а, следовательно, можно было увидеться. Антон Павлович тут же ответил: «1-го мая я буду ещё в Москве. Не приедете ли Вы ко мне с вокзала утром пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины». Но ехать в гости было сложно. На всю пересадку с поезда на поезд было около двух часов. А она же была с детьми… Нужно было их покормить, взять билет. Словом, она описала все трудности поездки в гости. И Чехов приехал сам. Лидия Алексеевна вспоминала: «Едва мы кончили завтракать, как увидали Антона Павловича, который шёл, оглядываясь по сторонам, очевидно отыскивая нас. В руках у него был пакет. – Смотрите, какие карамельки, – сказал он поздоровавшись. – Писательские. Как вы думаете: удостоимся ли мы когда-нибудь такой чести? На обертке каждой карамельки были портреты: Тургенева, Толстого, Достоевского... – Чехова ещё нет? Странно! Успокойтесь: скоро будет. Антон Павлович подозвал к себе детей и взял Ниночку на колени. – А отчего она у вас похожа на классную даму? – спросил он. Я возмутилась. – Почему – классная дама? Но он так ласково перебирал локоны белокурых волос и заглядывал в большие серые глаза, что моё материнское самолюбие успокоилось. Ниночка припала головкой к его плечу и улыбалась. – Меня дети любят, – ответил он на моё удивление, что девочка нисколько не дичится его. Но вот объявили посадку на поезд. Авилова так описала расставание: «Но мы прощаемся не навсегда, – старалась я внушить самой себе. – Возможно, что он даже приедет ко мне или к Сергею Николаевичу». Я не видела, как Антон Павлович простился с детьми, но со мной он не простился вовсе и вышел в коридор. Я вышла за ним. Он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито. – Даже если заболеете, не приеду, – сказал он. – Я хороший врач, но я потребовал бы очень дорого... Вам не по средствам. Значит, не увидимся. Он быстро пожал мою руку и вышел. – Мама, мама, – кричали дети, – иди скорей, скорей... Поезд уже стал медленно двигаться. Я видела, как мимо окна проплыла фигура Антона Павловича, но он не оглянулся. Я тогда не знала, не могла предполагать, что вижу его в последний раз. Тем не менее, я больше никогда его не видела, и наше прощание в вагоне было прощанием навсегда. Почему? Я не знаю. В эту холодную весеннюю лунную ночь в нашем саду непрерывно пели соловьи. Их было несколько. Когда тот, который пел близко от дома, замолкал, слышны были более дальние, и от хрустального звука их щелканья, от прозрачной чистоты переливов и трелей воздух казался ещё более свежим и струистым. Я стояла на открытом выступе балкона, куталась в платок и глядела вдаль, где над верхушками деревьев, рассыпавшись, мерцали звёзды». А потом Лилия Алексеевна написала Чехову письмо, затем другое. Ответа не было. Она прожила в деревне до поздней осени. Было уже ясно, что с Чеховым всё кончено. И всё же ей хотелось узнать, почему, каковы причины, хотя, в принципе, она и об этом догадывалась. И вот ей в руки попал новый рассказ Антона Павловича «О любви». Едва начала читать и сразу поняла, кого Чехов вывел в образах Алёхина и Анны Луганович. Она читала строки, которые относились к ней: «Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали её робко, ревниво. Мы боялись того, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с ней, мне казалось невероятным, что эта моя тихая грустная любовь вдруг грубо оборвёт счастливое течение жизни её мужа, детей, всего дома… Честно ли это? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти?» И наконец, признание главного героя, что Луганович «лёгкой тенью легла на мою душу». Луганович – это она, Авилова. Лидия Алексеевна не сдерживала слёз. Она даже не подумала о том, что может рыданиями своими напугать детей. Но иначе не могла – она оплакивала свою любовь. В книге она рассказала: «Долго спустя, когда я узнала, что он в Крыму, я написала в Ялту. Этого последнего письма, которого я себе долго, долго простить не могла, потому что в нём я уж не могла скрыть ни своей любви, ни своей тоски, – этого письма он не мог не получить, так как оно было заказное. Но Антон Павлович и на него не ответил, и я поняла, что между нами не недоразумение, а полный разрыв. Я поняла, что Антон Павлович твёрдо решил порвать всякие отношения, а раз он это решил, так оно и будет. Я растерялась. Целыми часами сидела я где-нибудь в запущенной части сада, в грачиной роще или на канаве, и думала свою неразрешимую думу. Почему? За что? За то, что я отказалась остаться на представление «Чайки»? Нет, этого не может быть! За то, что я застегнула ему пальто? За то, что, возможно, после бессонной ночи в вагоне я была неавантажна, неинтересна, некрасива? Возможно ещё, что, окруженная детьми, багажом, у меня был вид самодовольной наседки? Чего я только не передумала! но ни на одном предположении остановиться не могла: все было слишком невероятно для Антона Павловича, не только невероятно, но даже обидно и унизительно для него. А если и приходило в голову, то... должно же было хоть что-нибудь прийти в голову. Но важно было не то, что я думала, а то, что я чувствовала. Это было не горе, а какая-то недоумевающая и испуганная растерянность». …Как-то вдруг захлопнулось окно на воздух, на солнце, на даль... И как итог переживаний, вырвалось признание – «душу свою я разорвала пополам». А между тем, Лидию Алексеевну ожидало ещё одно испытание. Чехов женился. Об этом сообщила сестра Надя. Лидия Алексеевна продемонстрировала полное безразличие – но это только внешне. В книге же призналась, что «сейчас же… почувствовала сильную слабость, холодный пот на лбу и опустилась на первый попавшийся стул. А когда с помощью сестры пришла в себя, заявила, смеясь: «– Вот история! С чего это мне стало дурно? Ведь мне правда безразлично!» И всё-таки сестра пошла провожать. Авилова продолжила разговор: « – На Книппер женился? – Да. Ужасно странная свадьба... Она стала рассказывать то, что слышала. – Ни любви, ни даже увлечения... – Ах, оставь, пожалуйста! – сказала я. – Конечно, увлёкся. И прекрасно сделал, что женился. Она артистка. Будет играть в его пьесах. Какая связь! Общее дело, общие интересы. Прекрасно. Я за него очень рада. – Но, понимаешь, он очень болен. Что же, она бросит сцену, чтобы ухаживать за ним? – Я уверена, что он этого и не допустит. Я знаю его взгляд на брак. – Нет, это не брак. Это какая-то непонятная выходка. Что же ты думаешь, что Книппер им увлечена? С её стороны это расчёт. А разве он этого не понимает? – Ну, что же? и расчёты часто бывают удачные. Всё-таки очень хорошо, что он женился. Жалко, что поздно. Надя опять стала рассказывать то, что говорили об этой свадьбе. – Даже никто из близких не знал и не ожидал. И на жениха он был так мало похож... Она проводила меня до дома и ушла обратно». Бунин о Чехове и Авиловой Иван Алексеевич Бунин сумел «разгадать» натуру Чехова, причём не без помощи мемуаров Лидии Алексеевны Авиловой. По свидетельству Веры Николаевны Муромцевой-Буниной, он, уже начав книгу о Чехове, вдруг стал сомневаться, продолжать ли её, дописывать ли? Но когда прочитал воспоминания Авиловой, на всех своих сомнениях поставил крест – он, уже, казалось бы, понявший Чехова, снова увидел его совершенно иным, нежели представлял. И Иван Алексеевич вновь засел за работу. Бунин так вспоминал о книге Авиловой и своём решении писать, чего бы это ни стоило: «Сегодня Зуров принёс мне книгу «Чехов в воспоминаниях современников» со словами: «Прочтите, прежде всего «Чехов в моей жизни» Авиловой, я ничего лучше не читал из женских воспоминаний, – необыкновенно талантливо, живо написано, с внутренней правдивостью, с исключительной деликатностью». Я очень заинтересовался, так как Лидию Алексеевну я знал ещё в молодых годах, а в эмиграции мы даже переписывались, но я ничего никогда не слыхал о её отношениях с Чеховым». Прочитав книгу, Иван Алексеевич решил написать не только об Антоне Павловиче, но и о Лидии Алексеевне. В его книге Авиловой посвящено немало страниц, а воспоминания её он цитировал в каждой главе, цитировал много, поскольку то, что написала эта великолепная женщина, иначе ведь и не скажешь. Грех такое переписывать своими словами. Решение писать об Авиловой он объяснял таким образом: «Ведь всем будет интересно знать, что за женщина, которую Чехов любил. Так вот почему он так долго не женился...» Вера Николаевна вспоминала: «В январе 1915 года, когда мы жили всю зиму в Москве между Плющихой и Девичьим Полем, в Долгом переулке, Иван Алексеевич однажды мне сказал: – Я пригласил к нам писательницу Лидию Алексеевну Авилову, с которой я случайно встретился в нашем Книгоиздательстве. Она хочет издать там свою книгу. Я узнал, что Авиловы переехали из Петербурга в Москву, где её муж получил какое-то место. Живут на Спиридоновке, наняли особняк. В назначенный вечер (11 января) она приехала к нам. Я увидела высокую статную женщину в хорошо сшитом чёрном платье, которая поздоровалась со мной с застенчивой улыбкой. Кроме неё, у нас в гостях были моя мать и профессор Политехнического Института А. Г. Гусаков, который в Петербурге встречался с Авиловой, когда был одним из редакторов газеты «Страна», – она там печаталась. Сели за чайный стол. Я стала рассматривать нашу новую гостью, её хорошо причёсанную седую голову, бледное лицо с внимательными серо-голубыми большими глазами. Сначала разговор шёл о войне, раненых, а затем о литературе. Меня поразило, как она не похожа на других писательниц своей скромностью, собранностью, уменьем спорить и выслушивать собеседника. Её литературные вкусы совпадали со вкусами Ивана Алексеевича, в оценке писателей и людей. Говорили мы тогда о нашем Книгоиздательстве писателей, где автор после покрытия расходов по печатанию весь остальной доход получает сам, оставляя на расходы по издательству десять процентов. – Вот и хорошо, что хотите у нас издать вашу книгу, – сказал ей Иван Алексеевич. – Я была бы очень рада, если примут. – А что это? Роман? – спросила моя мать. – Нет, книга рассказов. Потом заговорили о деревне. Авилова рассказывала, что у них имение в Тульской губернии, не родовое, а купленное лет пятнадцать тому назад. – Вот приезжайте, погостите у нас, – приглашала она. – У нас хорошо. Дети мои усадьбу очень любят. Отношения с мужиками хорошие. – А далеко она от Ясной Поляны? – спросила моя мать. – Нет не очень. – У моей бабушки было имение в двадцати верстах от Ясной, – сказала тут я, – мы слезали на станции Лазарево. – Нет, это с другой стороны Ясной, – ответила Авилова, – у нас пересадка в Туле. Иван Алексеевич пошёл её провожать до извозчика. Вернувшись, он сказал: – Представь себе, она сокрушается, что ничего не видала, ничего не знает, а у неё уже седая голова. Она много говорила и о моих вещах, – находит, что я основываю школу... Она на редкость всё понимает и тонко ценит». Лидия Авилова подробно рассказала и о том трагическом для неё дне, когда она узнала о кончине Антона Павловича Чехова: «Миша быстро подошёл ко мне, взял меня под руку и вывел на неосвещённый балкон. – Вот что… – сказал он резко, – вот что… Я требую, чтобы не было никаких истерик. Я требую. Слышишь? Из газет известно, что второго в Баденвейлере скончался Чехов… Так вот… Веди себя прилично. Помни!» Много лет спустя Авилова призналась: «Я пыталась распутать очень запутанный моток шелка, решить один вопрос: любили ли мы оба? Он? Я?.. Я не могу распутать этого клубка». Муж Авиловой умер в 1916 году, причём умер он на Кавказе, куда уехал лечиться, и последняя его телеграмма Лидии Алексеевне была таковой: «Всегда один, ухода нет…» Получила её Авилова уже после его смерти. Лидия Алексеевна надолго пережила мужа. Она умерла в сентябре 1943 года. Ну а после революции она, ещё в 1914 году ставшая членом «Общества любителей российской словесности», вступила во Всероссийский союз писателей, учреждённый в 1918 году. В 1929 году стала почётным членом «Общества А.П. Чехова и его эпохи». Ныне почти забытая, Лидия Алексеевна в конце девятнадцатого – начале двадцатого века получила известность, благодаря своим публикациям в периодической печати, появились и её первые книги. Она была знакома со многими великими мастерами пера того времени. Иван Алексеевич Бунин отметил в книге о Чехове: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой. Прочтя её воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нём приоткрылось. Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними». Он посвятил Лидии Алексеевне тёплые слова: «Вся бледная, с белыми волосами, с блестящими глазами… Молодая девушка с розами на щеках… Я любил с ней разговаривать как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения её были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всём этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела…» Такой Иван Алексеевич впервые увидел Лидию Алексеевну. Любил ли Чехов Авилову до самого последнего вздоха? Кто ответит на этот вопрос? Он ведь женился на Ольге Леонардовне Книппер, и во всяком случае, конечно же, испытывал какие-то чувства к своей законной супруге. Вот что вспоминала хранительница Ялтинского дома-музея А. П. Чехова А.В. Ханило: «Мария Павловна написала, что брат был счастлив. И она права. Чехов говорил, что ему нужна такая жена, которая бы, как луна, на его небосклоне являлась не каждый день. Такой женой и была актриса Московского художественного театра Ольга Леонардовна Книппер. Она любила Чехова и… готова была бросить всё и переехать из столицы к больному мужу в провинциальную Ялту. Но тот сам её остановил, написав, что они – идеальные супруги, ибо не мешают друг другу заниматься любимым делом. И умер он у неё на руках на немецком курорте Баденвейлер, куда приехал после Ялты в 1904 году». Впрочем, некоторые биографы утверждают, что роман «О любви», замысел которого уже сложился у Чехова, писатель собирался начать словами: «Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастливы...» Считается, что это целиком и полностью относится к супружеству Антона Павловича и Ольги Леонардовны. И всё же… Любовь!!! Обратимся к великому мастеру любовной прозы, к Ивану Алексеевичу Бунину… В своей книге он тоже ставил такой вопрос, касающийся любви Чехова: «Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? – Думаю, что нет. «Любовь, – писал он в своей записной книжке, – это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьётся в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, даёт гораздо меньше, чем ждёшь». (О других романах Антона Павловича рассказывается в очерке: «Тридцать романов» Чехова. От «дамы с собачкой» к «адской красавице». (см. Проза.ру Николай Шахмагонов) Вера Николаевна Муромцева-Бунина сделала такое важное замечание: «Эти строки (о Чехове) напечатаны Иваном Алексеевичем в десятом томе полного собрания сочинений, изданных «Петрополисом» в 1935 году. В 1953 году Иван Алексеевич в том же томе, на странице 237, красным карандашом, отметив слова «Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет», на нижнем поле страницы твёрдым почерком написал: «Нет, была. К Авиловой». Коснулся Иван Алексеевич и ещё одного важного момента, связанного с воспоминаниями Лидии Авиловой. Некоторые биографы высказывали сомнение в их правдивости. Бунин решительно возражал: «Чувствую, что некоторые спросят: а можно ли всецело доверять её воспоминаниям? Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрыла даже тех отрицательных замечаний, которые делал Чехов по поводу её писаний, как и замечаний о ней самой. Редкая женщина! А сколько лет она молчала. Ни одним словом не намекнула при жизни (ведь я с ней встречался) о своей любви. Её воспоминания напечатаны через десять лет после её смерти». А о Чехове Бунин сказал, что, прочитав Авилову, он по-новому прочувствовал скрытую от всех внутренне целомудренную жизнь Антона Павловича. И помогла эту сделать женщина, у которой был с Чеховым «роман всей жизни».
Фильм В.Соловьёва "Президент"
Фильм «Президент»
- доказательство силы России, выбравшей своим лидером Путина.
Вышедший на той неделе на телевидение фильм о Путине «Президент» вызвал широкий резонанс в мире. Кто-то был восхищен таким харизматичным лидером, последовательностью курса его политики на создание сильного государства. А кто-то наоборот искал в фильме ложь и пытался выставить Президента, как человека с большими комплексами. Русские диссиденты даже не постеснялись причислить Путина к категории людей маленького роста, которые из-за этого комплексуют.

Но тем не менее во всем мире здравомыслящих людей в этом году порадовали два хороших документальных фильма, где центральное место занимали высказывания Путина. Это фильм «Крым. Путь на Родину» и «Президент». Оба фильма вышли по случаю определенных дат. «Крым. Путь на Родину», вышедший 9 марта - это фильм о том, каким был процесс присоединения Крыма к России, как этого хотели жители полуострова, а также как бережно и осторожно действовали пророссийские силы, чтобы избежать кровопролития. Этим фильмом во многом разрушились постулаты агрессивно настроенного по отношению к России Запада и Украины, кричавшие об аннексии Крыма русскими весь год.
Путин представлен в этом фильме здравомыслящим стратегом, который понимал всю значимость происходящего и делал все от него зависящее, чтобы не пролилась кровь или не были бы ущемлены права какой-либо из народностей, проживающих в Крыму.

28 апреля на экранах телевизора миллионы людей увидели фильм «Президент». В.В.Путин -главный герой фильма уже 15 лет стоит у руля России, борясь с внешними угрозами и не дает утонуть российской экономике в пучине мировых экономических кризисов и санкций, налагаемых Евросоюзом за непокорность и собственное мнение, гуманитарную помощь русскоязычной восточной Украине.
Фильм рассказывает о пути, который Россия прошла вместе с президентом Путиным прошла с 1999 года, т.е. за последние 15 лет. Сдержанный в эмоциях фильм зарядил сумасшедшей позитивной энергетикой и верой в свою страну и в свои силы весь русский народ.

Те, кто уважал Путина, как президента и человека до просмотра фильма, получили для еще большего уважения дополнительный повод, но а для тех, кто не любил Путина, получили и испуг от его уверенности и силы, и повод чтобы не любить его и дальше. Поэтому интернет взорвался противоречивыми эмоциями, а в комментариях или на форумах пользователи иногда готовы вцепиться друг в друга, чтобы доказать свое видение президента и его позиции. Такой накал страстей может вызвать лишь настоящий, не показушный герой в правдивом и объективном фильме. В нем нет ненужной и неуместной надрывности, как и высокопарных фраз. Главный герой фильма: сильный, правдивый, а неожиданные вставки и исторические моменты в фильме, заставляют людей задуматься.
Благодаря фильму «Президент» многие увидели Путина таким, каким могли видеть его лишь некоторые. Открытость фильма стала отличительной чертой историко-документальных фильмов о сегодняшнем дне России. В них зритель видит и слезы, и нервы а, самое главное, ту степень ответственности, которую несет за всю страну один человек –это президент РФ Путин В.В.
Каждый, кто посмотрит этот фильм, то обязательно поймет: что честный, искренний труд на благо страны может творить чудеса. И еще, посмотрев этот фильм, можно совершенно точно предвидеть то, что нынешний Президент никогда под Новый год не скажет «Я устал, я ухожу». Описывать или пересказывать весь фильм – нет смысла. Это надо видеть. Хотя бы для того, чтобы самому проверить и проверить.
©Дилетант
Питер. Эрмитаж.

Санкт - Петербург это культурная столица России.
Мы конечно с ним люди далеко не бедные , однако, придерживаемся принципа который сформулировать можно так - "Сэкономленные деньги всё равно что заработанные" ( может, кстати, потому и не бедные ). Итак :
Культурный поход
Встретились на Канале Грибоедова и бодрым шагом двинулись к Эрмитажу через пешеходную улицу. Там внимание привлекло следующее.
Памятник Гоголю, вазон с цветами и флаг Новороссии.


Сфоткали и пошли дальше и наконец прибыли к Эрмитажу.
Ого. Давненько я такого не видел ...длиннющая очередь как на выставку Глазунова или на бразильский фильм "Донна Флор" и её два мужа» во времена СССР.

Поначалу даже хотели домой отправиться, но коли уж пришли. Словом встали в очередь. Погода питерская, типа, весна: два градуса тепла, дождь со снегом, ветер. Бр-р-р-р. Но делать нечего, искусство требует жертв.
Подняв воротники простояли полтора часа. Да-а-а-а, давненько я не припомню чтобы я в очереди полтора часа на дожде стоял.

Не весело.
Но долго ли коротко вот он бесплатный вход и гардероб и...выставка не в центральном корпусе, а в совершенно в другом месте - под Аркой Генерального штаба! Блин!
Ну да раз уж пришли двинулись по с детства знакомым залам в Рыцарский зал...ну а куда же ещё, но решили уточнить , где он ибо память уже не та.

И стар и млад.
Были отправлены на первый этаж, хотя прекрасно помню, что зал был всегда на втором. Подумали -может переехал, довольно долго плутали и оказались в совершенно НОВОМ ЗАЛЕ, где рыцари и витязи но...восточные!
Сюрприз. Новая экспозиция и экспонаты. С любопытством приступили к осмотру. Запомнился лютый кинжал с пятью лезвиями розочкой.
Жуть.


Глядя на лезвие это кинжала - " розчки ", подумалось :
"Если таким пырнут, то даже хороший еврейский доктор уже не поможет"
Осмотрев двинулись в классический - западный на втором.
По дороге прошли через знаменитую революционную лестницу,

Вспомнилось: "Бежит солдат, бежит матрос, стреляя на ходу"
Вот тут они и бежали !
через анфиладу залов и вот он с детства приводящий в восхищение зал...Вальтер Скотт, Айвенго, и всякие прочие «Крестоносцы».

Всё осмотрев и не смотря на усталость, всё же решили сходить ещё и на Ренуара, благо не далеко - пересечь Дворцовую площадь .
На Ренуара очереди не оказалось, но в гардероб простояли ещё полчаса.
Картина интересная оказалась, долго разглядывали нашли несколько огрехов ( ибо сами художники) -не внятно выписанное платье у центральной фигуры дамы в полосатом платье внизу, два совершенно лишних рыжих мазка в причёске стоящей рядом с ней дамы и невнятные пятна на пиджаке на спине у кавалера вызвали недоумение...словом ...немного покритиковали Ренуара и усталые и довольные отправились по домам.

Бал в Мулен де ла Галетт
Огюст Ренуар
1876 г.
Холст, масло. 131 х 175 см.
© Музей Орсэ, Париж
«Бал в Мулен де ла Галетт» – крупная и самая многофигурная композиция мастера, которой работал над ней в течение всего лета 1876 года. Мулен де ла Галетт (Галетная мельница), расположенная на вершине Монмартского холма, в середине 1870-х годов служила основным центром воскресного досуга для местной молодежи. Ренуар писал этот «дансинг» на пленэре, прямо под открытым небом, захваченный истинно народной атмосферой развлечений.
Младший брат художника, Эдмон Ренуар, в 1879 году так описывал работу Ренуара над «Балом»: «Он поселился там на полгода, перезнакомился со всем тамошним мирком и его особой жизнью, которой не передали бы никакие натурщики, и, вжившись в атмосферу этого популярного кабачка, с ошеломляющим подъемом изобразил царящую там бесшабашную суматоху».
На Украине доскакались, пробуют скакать в Беларуси
Каждый год 25 марта в Белоруссии собираются те же самые силы, что ввергли Украину в хаос и гражданскую войну. Те же «демократы» и националисты, которые убеждены, что белорусы это совсем «другой народ» нежели русские. Сходство идеологий и технологий налицо, те же лозунги (мы Еурапейцы), те же прыжки под крики “ кто не скачет — тот москаль”.
Спасибо Лукашенко за то, что эта гремучая смесь национализма, русофобии и «общечеловеческих ценностей» не может сделать то, что она сделала на Украине. Но расслабляться и терять бдительность нам всем не приходится. В России существуют те же самые силы, как микробы в организме - «обамыши». Пятая колонна ждёт ослабления государственного организма. Не дождутся…
Зверобой:
Хочется заметить, что эти технологии рассчитаны исключительно на молодежь. Почему я так думаю? Да всё проще простого. Ну не будет зрелый человек в знак одобрения или порицания чего либо, скакать как уебо дурак и ловить от этого кайф. А пожилому человеку скакать вообще физически тяжеловато.
Представляю =Нашу Дарью= (Дарья Колесникова)
Недавно открыл для себя одну певицу. Хочу поделиться открытием.
Сайт уже долгое время спит, и судя по всему не хочет просыпаться. Активность пользователей почти на нуле. Никто не желает высказываться. Только Крол пытается расшевелить спящее царство. Но пока это ему не удается.
Чем можно разбудить спящее царство ? Я думаю песней.
Вот открыл недавно для себя одну певицу, Хочу её представить вам. По телевизору её вряд ли покажут.
Мощно?
Параду ВСУ в Крыму — Быть !
Украина терпит временные трудности в связи с провалом блицкрига на Юго-Востоке! Положение может исправить указ Порошенко о мобилизации , который выполняется с необыкновенным энтузиазмом и гражданским сознанием. Однако на это надо время в течении которого режим Порошенко сдохнет .
Чтобы этого не произошло , на помощь украинским братьям пришли братья Эстонцы ! Еще в прошлом году , на параде латвийских «вооруженных сил» из комментариев диктора , нам стало известно , что коварные эстонцы взяли в долг у добрых и доверчивых латвийцев , - танк , который составлял костяк латвийского бронекулака.

И все мы , зрители этого исторического парада, как бы сердцем переживали боль и обиду латвийских рыцарей.
А оказалось — зря ! Столь хитрому стратегическому ходу позавидовали бы такие маститые полководцы как Кутузов , Суворов .. маршал Жуков в конце концов ! Итак , читаем внимательно :
Киев, 21 марта. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что эстонской армии удастся обратить в бегство российские войска, если те нападут на Эстонию. При этом Геращенко уверен в силе эстонской армии настолько, что, по его мнению, от них бы бежали якутская и бурятская гвардии. Такие мысли у нардепа ВР зародились после посещения Таллина, где он «изучал систему обороны и безопасности этого небольшого прибалтийского государства с численностью населения в 30 раз меньше населения Украины».
Так вот , оказывается , где была зарыта собака ! Нечестно присвоенный латвийский танк , вошел в систему обороны и безопасности маленького но гордого народа Эстонии ! Да так плотно вошел , что с его помощью эстонцы могут повергнуть в бегство бородатых дядек из якутской и бурятской гвардий.
Поговаривают , что узнав эту новость, Шойгу рыдал на бойцово-дзюдоистской груди ВВП , который в свою очередь гладил его по голове и по отечески успокаивал. Премьера сняли с борта лайнера , выполняющего рейс Москва -Тель-Авив . Свой поступок он объяснил тем , что устал и хотел отдохнуть на курортах Израиля. Не обошла радость и Петра Петровича (кстати, наш Владимир Владимирович .. укропский — Петр Петрович .. мистика).

Порошенко кланяется почетному караулу в Австралии , в припадке эйфории , перепутав его с эстонским !
Вот такая вот неожиданная и счастливая развязка эстонско-латвийского кризиса .
22.03. 2015 . До парада осталось -
Израиль . Достопримечательности.
Традиционно считается , что самым интересным и посещаемым местом , туристами в Израиле является Храм Гроба Господня .
Городской артефакт
Однако это расхожее мнение частично опроверг мой товарищ , который побывал на юге этой маленькой страны, в крепости Массада. Свою статью о путешествии , он украсил великолепнейшими фотографиями и описаниями к ним.
Вообще , в Израиле столько исторических достопримечательностей , что некоторые из них остаются незаслуженно обойденными вниманием туристов , а некоторые просто забыты и заброшены самими израильтянами. Такое место я нашел чуть ли не в центре города , буквально «под носом»
14 лет я ездил по дороге на работу, мимо гигантского оврага (площадь около полутора квадратных километра и глубиной метров 250 ) и практически его не замечал . Получить каких-то достоверных сведений о том, - что же это такое , мне не удалось. Карта Израиля с указанием исторических мест и раскопок, так же ничего не сообщала .Поэтому, пока, выложу только фотографии .

Общий вид сверху

Спуск по огороженным тропинкам

Что бы это могло быть ?

Очень похоже на рукотворную пещеру

Каменная площадка в центре

Граница веков ...

Может это все-таки сцена ?

Все что удалось охватить оптикой

Очень похоже !
Реплика о ватнике.
Гоблин разъясняет про ватник. Я с ним согласен.
Дурачки радуются: придумали мем - ватник! И что ?...отличная одежда, удобная, тёплая, лёгкая, недорогая.
Я , например, до сих пор на даче в ватнике, когда холодно, хожу и не собираюсь менять эту универсальную одежду на какое нибудь синтетическое синтепоновое дерьмо.
Как оно бывает в Иерусалиме иногда
Вот так заедешь да угодить можешь под шальную пулю. Тут поневоле будешь фаталистом !
Место где происходит действие мне хорошо знакомо - Старый город в Иерусалиме.
Смотрел и думал, когда меня предупреждали... в Израиле опасно! представлял в основном эту опасность в виде ракет, а вот о таком не помышлял.
А ведь можно попасть и под такую шальную пулю прямо в центре.
Жуть.
МЕСТО С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ ВО ВСЮ УЛИЦУ МНЕ ОСОБЕННО ХОРОШО ЗНАКОМО, ПО НИМ ДВА АРАБСКИХ ПОДРОСТКА ПРОВОЖАЛИ НАС ДО ВХОДА В АЛЬ- АКСУ.
Я им потом шекель дал.
Поразило и то, что в преследуемого видно не раз попали из крупнокалиберного пистолета и не смотря на это он продолжал весьма успешно убегать и отстреливаться.
Поразительная живучесть!
Есть возможность -не молчи.
Я всегда завидовал людям, которые вот таким доступным языком, не скатываясь в пословицу "простота - хуже воровства" могут изложить свои мысли.
К сожалению очень многие живут по принципу - всё понимают, а высказать не могут.
Гоблин - может.
Патриотизм - это хорошо !
Жить в стране и не быть её патриотом это нонсенс ! Особенно сейчас, когда все пути и границы открыты. Если ты не любишь свою страну или ещё что тебя не устраивает, ну так давай отправляйся туда где тебе по нутру, в чём вопрос ?
Находятся такие идиоты, которые видят в патриотизме что -то постыдное и почему то постоянно сравнивают с нацистской Германией и так ехидно псевдоумничают, дескать, мы все знаем к чему это привело...всегда хочется спросить такого вот долбоёба а почему он не хочет сравнить с советским патриотизмом ? мы же все знаем к чему это привело - к победе над самым лютым врагом...или его этого патриотизма не было ? ...трупами завалили да заградотрядами победили ?
А почему не вспоминается патриотизм американский или израильский или английский или шотландский или французский, где поди скажи какому французу что просрали страну немцам за два месяца и что во ВМВ из 500 тысяч погибших французов в сопротивлении было всего 50 тычяч, а где же остальные голову сложили...так за такие вопросы и в морду дадут не раздумывая.
А вот российским патриотами быть стыдно и не прилично !
А почему?
Я вот например патриот и считаю что это очень даже прекрасное чувство и мне лично ничуть не стыдно этого и даже наоборот.
Ещё раз повторю - не понимаю как в условиях открытого общества можно жить там где тебе не нравится и тебя корёжит...ну если только не мазохист или не враг засланный для подрыва ненавистной тебе страны.
Не смотрел, но...осуждаю !
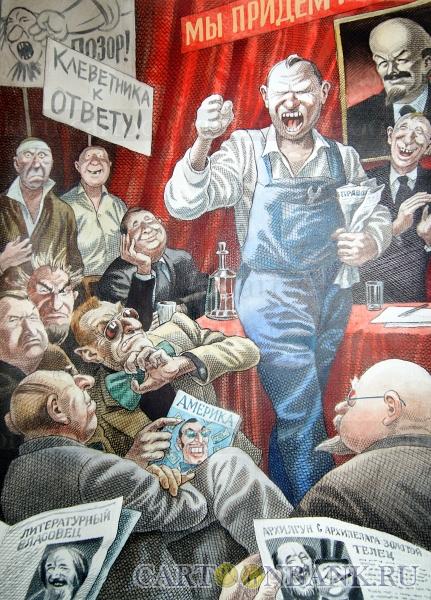
Я фильм "БатальонЪ" не смотрел и не собираюсь, но мнение имею !
Давным, давно ещё на заре «перестройки», а на самом деле добровольного безумия, когда наши граждане с упоение громили собственное государство, где они жили как у Христа за пазухой - мой приятель, который по собственному признанию, даже письма из армии не мог написать, заделался...журналистом!

Да, да. Тогда были такие времена, что каждый мог объявить себя кем угодно и заниматься чем угодно.
И объявляли и занимались.
Взял себе псевдоним инфернального западного актёришки, умудрился найти работу в одной из бесчисленных газетёнок, открывшихся на деньги западных фондов и начал писать на всякие разные темы в стиле - что вижу о том и пишу, выступал секс-экспертом - давая советы в стиле: «обработав верх своей дамы приступайте к низу» ну и конечно на чём свет клял свою Родину, которая ему дала бесплатное жильё, медицинскую помощь, бесплатное образование, ну и понятно восторгался светоносным Западом и невидимой рукой рынка и демократией.

Перевод с польского - мы тут единогласно решили что ты должен отдать нам портфель. Или ты против демократии ?
Короче, представлял собой классический тип майданутого, что мы в реальном времени наблюдаем сейчас на бывшей Украине.

Но поскольку со свободой на просторы бывшего СССР пришло много всякого разного то это всякое разное не обошло и моего приятеля. А именно — жидкость для розжига каминов спирт «Рояль» в литровых бутылях. Ой много народа полегло тогда от этой дряни.
Этот самый спирт категорически не способствовал творчеству и довольно скоро стало моему приятелю нечего писать так как самой главной темы «что вижу то и пишу» он лишился ибо ничего кроме бутыли спирта «РОЯЛЬ» он в стенах своей комнаты (а жил, да и живёт до сих пор с мамой) он не видел.
Творческий кризис !
Вышел он из него довольно легко. В ту пору телефон был бесплатный фактически ( у-у-у, проклятый совок!!!) и по нему болтать можно было часами, чем и занялся наш горе - журналист.
Целый день он обзванивал всех своих знакомых и интересовался - где кто был и что видел, а потом на чистом глазу выдавал репортаж от первого лица, якобы он сам там присутствовал.
Коснулось это и меня.
Я как рокер в те времена тоже , типа, наслаждался, бля, »свободой и демократией» (стыдно то сейчас как !) и активно посещал почти все более или менее интересные рок - концерты.

Тогда это можно было позволить так как групп в Питере, тогда ещё Ленинграде, было не очень много ( это сейчас только в Питере официально более 4 тысяч!!! ) и посещать почти все выступления « вновь вспыхнувших звёзд» было вполне реально, чем я и занимался.
Почти каждый день я ходил на рок тусовки и почти каждый день мне звонил «журналист» и я ему восторженно рассказывал как всё проходило, правда, помню, тогда ещё удивлялся обилию вопросов по мелким деталям.
И вот однажды занесла меня судьба в берлогу «прогрессивного журналиста» на «чашку чая».
Ну, то да сё , смотрю лежит газетёнка, дай, думаю ознакомлюсь.
Смотрю, чуть не во весь разворот репортаж с концерта «Странных игр» от первого лица, типа...захожу я в зал, справа...» и дальше всё то, что я ему недавно рассказывал, причём знаю точно !... что он там не был.
Конфуз.
Говорю — как же так ? это же, блин, ты это ...там не был !
Короче, залили всё этим самым спиртом.
Вот тогда то я и получил свой первый урок цинизма на счёт «честных независимых журналистов».
Время летело и постепенно никаких иллюзий о «не предвзятых» журналистах у меня не осталось.
Пожалуй стоит упомянуть последний пример с фильмом «Сталинград».
Этот фильм в оснтовном был снят у нас в Питере. На берегу Невы были возведены грандиозные декорации и мой одноклассиник руководил возведением, а после разбором этих декораций.
Понятно, я как человек любознательный, побывал на этом месте и фильм «Сталинград» для меня стал не просто так, словом я отслеживал всё что было связанно с ним.


И вдруг мне попадается статья « честного, неполживого либерального» журналюги, который в пух и прах разругивает этот фильм правда при этом честно заявляет - что я дескать этот фильм не смотрел, не буду смотреть ибо мне название даже тошно, но рецензию написал на три экрана монитора....
Во, высший пилотаж !
И вот подумал — а я что хуже ?
Дай как напишу о фильме «БатальонЪ» не смотря его. Собственно и тема интересная , ведь батальон женский
Итак.
На фильм не пойду так мне, как советскому человеку всё что связанно с Ъ знаком подозрительно, весь этот «хруст французской булки, все эти поручики Голицыны и прочии «АдмиралЪ» вызывают у меня отторжение. Исключение — фильмы Михалкова на эту тему ибо Михалков...гений!
Женский батальон фильм 2014
Далее героиня.
|
Вот мнение " очевидца " просмотревшего только трейлер фильма батальон :
|
Как то ничего другого и не ожидал.
И кстати. На пресс - конференции " тварьцы " сидели с красными маками в петлицах.
Угу.
Знаем, знаем откуда это.
|
Жёлтый Камень и писец
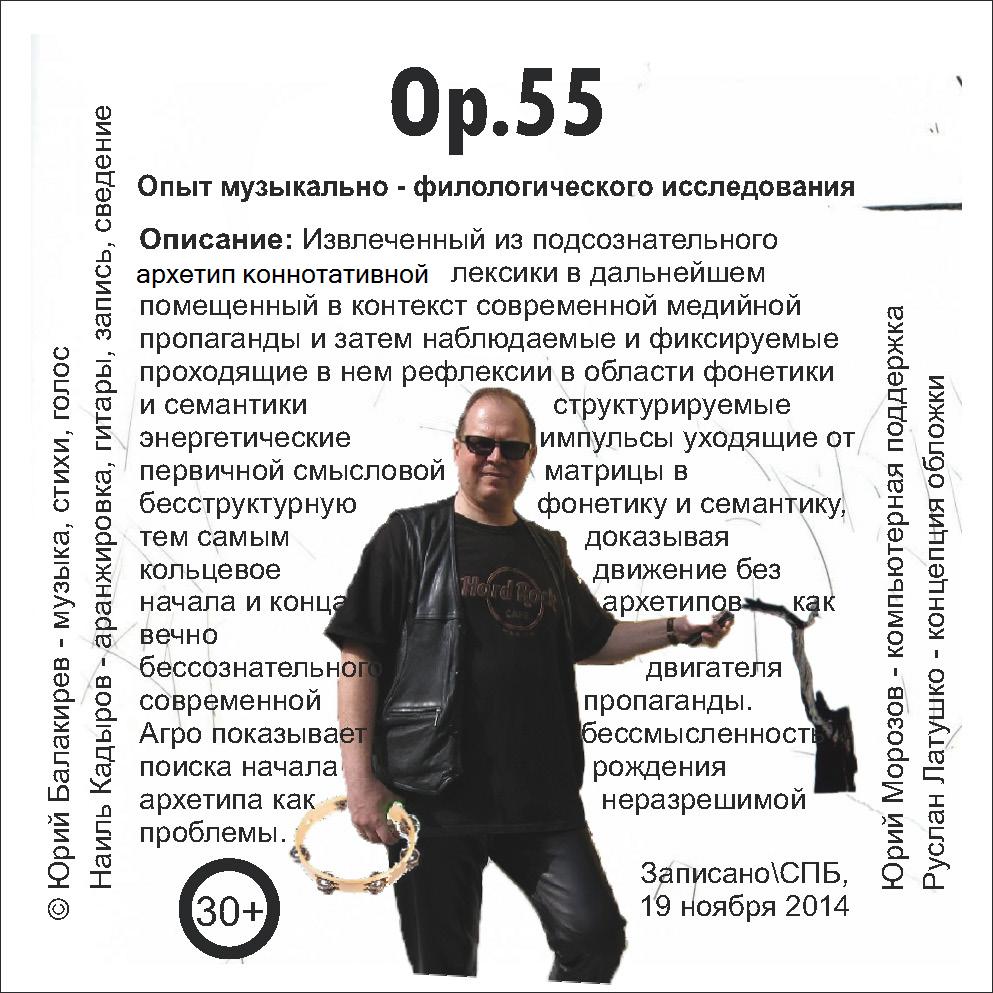
А вот стоит ли посылать пушистого северного зверя писца к американскому Жёлтому Камню ?
Стоит !
Когда записывалось знаменитое произведение «Камлание», то у участников группы , да и у слушателей были серьёзные опасения по третьему пункту.
Если по двум первым все были единогласно согласны, то пожелания что - бы писец заглянул в гости к Жёлтому Камню вызывало споры...надо ли его туда призывать ? ведь если что, то нам всем хана.
Но поскольку наши «западные партнёры» готовят нам своего пушистого зверя, после прихода которого ( не дай Бог) нам всё равно всем хана ( за редким исключением) то принято было решение всё же направить нашего зверя к ним в «гости» и по третьему пункту .
Однако в душе как - то было не спокойно и потому послание не работало в полную силу ибо люди всё же сдерживали себя
Кстати, почти день в день с выпуском композиции в Фергюсоне произошли крупные волнения, так что ...работает.
Словом, лично меня тоже не покидал неприятный осадок и я начал более внимательно относится ко всему что связано с Жёлтым Камнем.
Сразу скажу, информации о-очень мало и в основном она описательно - пугательного плана, конкретики никакой, ну да как говорится - кто ищет, тот всегда найдёт ! и вот что удалось «нарыть».
Если объём кальдеры до 50-ти тысяч кубических километров, то писец только северной америке.
Если до 100 тысяч км. кубических то заденет всех, кого сильней, кого послабже, но всех !
А вот если 150 и больше то конец всей планете !
Так что опасения совсем были не напрасны, а стоит ли насылать ?
Причём, почему то нигде никаких цифр о размерах котла увидеть не удавалось...до сегодняшнего дня.
И вот что выяснилось.
Недавно была опубликована уточнённая информация относительно объема вулканических масс, готовых вырваться из недр земли. Так, общая протяженность камеры вулкана, заполненной магмой, местами смешанной с затвердевшими породами, составляет около 90 км, ширина равняется 30 км, глубина варьирует от 2 до 15 км.
Подсчёт показывает, что объём менее 50 кубических километров.
Так что если рванёт, то писец штатам и оплоту недобитых бандеровцев Канаде, правда частично.
КАК ГОРА С ПЛЕЧ...ЖМЁМ НА КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК И КАМЛАЕМ ОТ ВСЁЙ ДУШИ!
http://diletant.org/content/gruppa-trud-super-hit
Могут возразить, но там же люди и всё такое. И что дескать , это всё политики, а простые фермеры или там рыбаки да прочие бездельники - они не причём.
Минуточку, а кто голосовал за этих политиков ? И потом, а у нас в России, что не люди.
А то что нам готовят эти самые «простые люди» отдавая голоса на выборах за всяких Рейганов, Бушей да Обам ( который заявил , что их санкции порвали экономику России в клочья, это кстати на заметку тем кто орёт что все беды от Путина и правительства ) можно узнать если прослушать КУРГИНЯНА -79.
http://diletant.org/content/kurginyan-79
Так что пусть писец приходит к Жёлтому Камню и поскорее.
Ну и ещё.
Для того же, чтобы Йеллоустоунская кальдера проснулась достаточно землетрясения магнитудой всего 6 баллов. Что касается нанесения ядерного удара по территории национального парка, то следует отметить, что сейсмическая энергия, выделяемая при ядерном взрыве мощностью всего лишь 1 мегатонна, эквивалентна землетрясению с магнитудой около 7,2 баллов. Что уже говорить о последствиях, к которым способно привести точное попадание одной российской ракеты «Тополь-М».
Для того, чтобы США одержали победу в ядерном противостоянии американцам придётся нанести одновременно результативные удары по нескольким сотням целей на территории Российской Федерации. России же в свою очередь достаточно нанести один результативный удар в одно место.
И это место Йеллоустоунский национальный парк.
Безусловно, у обеих сторон есть системы предупреждения ядерных ударов, обнаружения ракет противника, радиолокационные станции и многие другие средства защиты. Но согласитесь, что сотни целей и обязательные результативные атаки по ним, против одного результативного удара по одной цели, не идут ни в какие сравнения. России достаточно сконцентрировать свой ядерный потенциал в одну точку, разом совершить запуск хотя бы пары десятков ракет и существование всего континента Северная Америка уйдет в прошлое.
Это, так к слову, для любителей побряцать оружием.
ЛЁД ТРОНУЛСЯ. СОСТОЯЛСЯ ЧЕСТНЫЙ РАЗГВОР ОБ ИСТОРИИ ВО ВЕСЬ ГОЛОС!
Полковник Николай Шахмагонов, член Союза писателей России
Вот информационное сообщение в интернете об этом семинаре.
"В Подмосковье продолжается работа семинара с участием руководителей регионов. Одной из вызвавших резонанс стала лекция, в которой упоминались тайные операции Лондона против России. Судя по недоуменной реакции некоторых участников, многим сложно расставаться с уютной картиной русской истории, в которой во всем виноваты сами русские.
На семинаре в Аносино в четверг выступал президент Путин, а ещё до него выступал и отвечал на вопросы глава кремлевской администрации. После Сергея Иванова лекцию о доме Романовых прочел историк Александр Мясников, один из авторов проходившей в Манеже выставки «Романовы. Моя история». Текста выступления Мясникова нет в открытом доступе, но вот как его излагает РБК:
«Его лекция полностью вписывалась в «консервативный» тренд: многие успешные русские цари гибли при загадочных обстоятельствах из-за того, что не устраивали страны Запада, оппозиционеров финансировали из-за рубежа, а Новороссию образовали вовсе не украинцы. Борис Годунов был первым избранным царем и гениальным управленцем, отмечал Мясников. Но начались голод и «внешнее противодействие». В итоге Годунов неожиданно умер, причем из его симптомов однозначно следует, что «человеку со всего маху разбивают сзади голову». Николай Первый якобы не пережил страданий из-за поражения в крымской кампании. «Но мы не потеряли ни одного метра в результате Крымской войны», – заметил Мясников и предположил, что о тяжелых последствиях кампании заговорили «со стороны Запада». Мясников не преминул добавить, что «Колокол» Герцена, в котором критиковалась Россия, финансировал Ротшильд. «Это первый «Викиликс», – сообщил он и рассказал, что в газете публиковались отчеты о закрытых заседаниях Госсовета».
Выступающие говорили и об английском следе в зверском убийстве Императора Павла Первого, и об информационной лжи о так называемой Крымской войне, о Севастопольской обороне 1854-1855 годах в ходе Восточной войны 1853-1856 годов. Именно в ходе Восточной войны, а никакой не Крымской войны, само название которой надумано и относится к информационной войне. То есть, Крымской войны не было – никто такую войну не объявлял. Это была операция на Крымской ТВД в ходе Восточной войны и не более того.
В чём же дело? В 1853 году началась Восточная война, в ходе которой успехов, кроме как в Крыму у гейропейских бандитов-союзничков и у турок не было. На Балтике гейропейцев отбили, на Камчатке побили, на Дунае побили. Павда на Дунайском театре военных действий войска пришлось отвести отвели, поскольку Австрия и Германия стали угрожать вступлением в европейскую ОПГ. И надёжнее было обороняться за Дунаем – ведь числом враг превосходил бы многократно.
Зато на Кавказе Муравьёв взял Карс, что потрясло всю ОПГ Гей-ропы и особенно Турцию. А вот в Крыму предатель масон Меньшиков обеспечил союзничкам возможность высадки в Евпатории и даже умышленно оставил огромные запасы хлеба и другого продовольствия. А потом были организованные этим мерзавцем нелепые манёвры и отход к Севастополю, причём действия Меньшикова удивляли тех вражеских генералов, которые не знали, что он тайно служит Европейской (Гейропейской) ОПГ. И всё закончилось Севастопольской обороной. Поистине Героической обороной! Нам внушают, что мы в Крымской войне потеряли Севастополь. Мол, союзнички – Турция, Англия и Франция с примкнувшей к ним Сардинией (совершенно напрасно, как выяснилось, спасённой нами в 1799 году) победили в Крымской войне. Но это же не война, а операция на Крымском ТВД в ходе Восточной войны. То есть, только в одной операции успех, да и то не полный.
Теперь… Кто сказал, что пал Севастополь? Достаточно прочитать рапорт Потёмкина от 1783 года о строительстве крепости Севастопольской. Он называется «Севастопольское пристанище». Там говорилось, что укрепления в Севастополе будут построены так, что даже овладение неприятелем одной из сторон бухты не будет взятием города и противник не получит возможность господствовать в бухте, поскольку наши войска смогут прочно оборонять её другую сторону. А в 1854 году бухта к тому же была перегорожена затопленными кораблями. После долговременной обороны наши войска по приказу командования спокойно, организованно оставили Южную (Корабельную) сторону и перешли на Северную. Южная сторона была превращена в сплошные развалины, уже не представлявшие никакой ценности – не надо забывать, что священными те места стали именно в силу памяти об их обороне. Сегодня да! Это город-мемориал Русской воинской славы – панорама Севастопольской обороны, диорама – Штурм Сапун-горы, уникальные музеи. А сколько памятников!!! И Нахимову, и Тотлебену и Корнилову, И Казарскому «Потомству в пример», да всех и не перечислить. А вот памятника основателю Севастополя Генерал-фельдмаршалу Светлейшему Князю Григорию Александровичу Потёмкину-Таврическому так до сих пор и нет. А ведь именно его трудами совершенно бескровно присоединён Крым к России и основан город Русской Славы.
И во много благодаря его великому замыслу создания неприступной Русской Твердыни на Чёрном Море Севастополь бандитской ОПГ Гей-ропы взять не удалось!!! И не было у гей-ропейских отморозком победы в Крымской войне, но был успех в одной из операций Восточной войны на Крымском ТВД, успех в занятии территории, но не в овладении Севастополем. Ведь занята была только лишь часть города, а это ещё не победа.
Вот представьте… Если бы, скажем, в Германии пожелали оспаривать полное поражение в войне, могли бы выдумать похожее… написали бы книгу о победе, скажем так, в Барвенковской… войне, и давили бы на эту педаль, умышленно забывая о войне Великой Отечественной. Действительно, Хрущёв с Тимошенко позаботились о том, чтобы загнать в Барвенковский котёл нашу группировку и обеспечить её окружение гитлеровцами. Там был полный успех у них… Временный… И временным был успех у Гейропейской ОПГ в Крыму в 1855 году, потому что после взятия Карса, они убрались оттуда – только чтоб мы вернули Карс. Ну а «позорный мир» дело рук тогдашних либерастов, в лице Нессельроде и прочих уродов.
Так что, если пользоваться военной терминологией и рассматривать события операции на Крымском ТВД в ходе Восточной войны 1853-1856 годов, Севастополь сдан не был, а была оставлена лишь часто города после того как удержание её потеряло смысл. На Северной сторону русские войска встали прочно и не отступили ни на шаг.
--
Николай Шахмагонов ©
ТАЙНА МОСКОВСКОГО ПОЖАРА Когда посланец Наполеона Лористон вымаливал мир или хотя бы перемирие, падая к ногам Кутузова в Тарутино, русский главнокомандующий отверг обвинение в том, что пожары в Москве случились по вине русских. Он твёрдо заявил: "Я уже давно живу на свете, приобрёл много опытности воинской и пользуюсь доверенностью Русской нации: итак не удивляйтесь, что ежедневно и ежечасно получаю достоверные сведения обо всём, в Москве происходящем. Я сам приказал истребить некоторые магазины, и русские по вступлении французов истребили только запасы экипажей, приметивши, что французы хотят их разделить между собою для собственной забавы. От жителей было очень мало пожаров: напротив того, французы выжгли столицу по обдуманному плану; определяли дни для зажигательства и назначали кварталы по очереди, когда именно какому надлежало истребиться пламенем. Я имею обо всём весьма точные известия. Вот доказательства, что не жители опустошили столицу: прочные дома и здания, которых не можно истребить пламенем, разрушаемы были посредством пушечных выстрелов. Будьте уверены, что мы постараемся заплатить вам!" Есть и ещё один документ, свидетельствующий о том, что французы, а не русские варварски уничтожали Москву. Перед своим бегством из Москвы Наполеон отдал приказ: "Надо сжечь остатки Москвы, идти через Тверь на Петербург…" Как известно, план этот пришлось отменить, ибо сил у французов для похода на столицу уже не было. И тогда Наполеон отдал варварский приказ о чудовищной акции в отношении Москвы. Он поручил маршалу Мортье со специальным отрядом поджигателей и специалистов по взрывному делу сравнять город с землёй. Покинув Москву и полагая, что Мортье с задачей справился, Наполеон с пафосом писал во Францию: "Кремль, Арсенал и магазины - всё разрушено, древняя столица России и древнейший дворец её царей не существуют более. Москва превращена в груды развалин, в нечистую и зловонную клоаку, она утратила всякое значение, военное и политическое". Поторопился Наполеон. Как всегда, подвела его излишняя самоуверенность. Подвёл и маршал Мортье, который оказался не в состоянии выполнить приказ. Впрочем, и сам Наполеон и его маршалы, ещё не осознавая, что пришёл конец их бесчеловечным жестокостям и изуверствам, всё ещё заботились о том, в каком ореоле славы будут перед потомками. Когда же возмездие настигло их, стали выдумывать, что вовсе не они, а, якобы, русские варвары жгли свой город, уничтожая безжалостно произведения труда своего и своих предков. Им вторили историки из лагеря так называемого Ордена Русской Интеллигенции (О.Р.И.), то есть ордена, постоянно и коварно воюющего с Русской Православной национальной идеей, с правдивым изложением хода истории, воюющего с помощью клеветы и лжи. Вот и получилось, что в учебниках, по которым мы учились, в книгах и кинофильмах, пропагандируемых О.Р.И., значится, будто именно Русские сожгли свой родной город, чтобы он не достался французам. Почему же им верили? Да потому что не было альтернативной информацией, во-первых, и потому что всё-это преподносилась чуть ли не как подвиги. Ведь на памяти более старших поколений были примеры, когда Красная Армия, оставляла в 1941 году западные территории СССР. И Советские руководители вынуждены были уничтожать заводы, фабрики, мосты, стратегические железнодорожные узлы, дабы их не мог использовать враг. Но там было совсем иное положение. Но в 1941 году Советское командование не уничтожало жилые здания, не было в том нужды и в 1812 году. И мало кто задумывался о том, что, ещё можно как-то понять и объяснить разрушение города, если он навсегда оставляется врагу. Но никто из русских в 1812 году даже мысли не допускал, что Москва достанется французам на вечные времена. Так зачем же жечь родной город, причём выжигать всё подряд, уничтожать памятники старины, если французы скоро будут изгнаны. А ведь даже песни выдумывали о пожаре Московском, но о причине его "забыли" спросить того, кто с болью в сердце принял решение о временном оставлении Москвы ради спасения армии, "забыли" спросить человека, наиболее осведомлённого, ибо всё, что происходило вокруг Москвы, происходило уже по его воле, по его стратегическим планам. А "забыли" историки спросить лишь одного человека - они "забыли" спросить Кутузова, чьи слова приведены в начале главы. Слова Михаила Илларионовича Кутузова подтверждены множеством документов и воспоминаний очевидцев и участников событий, которые полностью опровергают клеветнические вымыслы историков из О.Р.И. ПРАВДА О БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ После Бородинской битвы Михаил Илларионович Кутузов часто повторял, что если и не одержан полный успех, на какой, по своим соображениям, мог он надеяться, тому причиной была смерть генерала Кутайсова… Гибель талантливейшего начальника артиллерии русской армии генерал-майора Александра Ивановича Кутайсова до некоторой степени отразилась на исходе битвы. Но, говоря о влиянии на исход сражения трагической гибели Кутайсова, Кутузов ещё не знал, кто в действительности помешал ему осуществить полный разгром французской армии… Историки же договорились до того, что, якобы, Кутузов и не собирался одерживать победу, а для успокоения общественного мнения дал "искупительное" сражение, чтобы потом оправдать оставление Москвы. Может быть, этим историкам и наплевать на десятки тысяч погибших, но Кутузов мыслил иначе. К началу Отечественной войны 1812 года он прошёл колоссальный путь полководца, приобрёл уникальный боевой опыт, и встреча с Наполеоном его не пугала, подобно тому как пугала она всех без исключения западных войсковых начальников, коих и полководцами то назвать было стыдно. По этому поводу удивительные строки написал в своём историческом труде летописец наполеоновских войн генерал-лейтенант Александр Иванович Михайловский-Данилевский. Но об этом в своё время Кутузов прошёл блистательную школу великих русских полководцев, которую создали генерал-фельдмаршал граф Пётр Александрович Румянцев Задунайский, генерал-фельдмаршал Светлейший Князь Григорий Александрович Потёмкин Таврический, Князь Италийский и граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский. Кутузов, как и его великие учителя никогда не устраивал "игрищ" во искупление и в оправдание. Победу сорвало прямое предательство одного из соратников Императора, коего мы знаем под именем Александра Первого, барона Беннигсена, активного участника чудовищного преступления против Русской Государственности и России, совершенного 11 марта 1801 года. Роль барона Беннигсена в Бородинском сражении обычно замалчивается сочинителями мифов о русской истории. А между тем, он числился начальником Главного штаба русской армии и имел право отдавать приказания от имени главнокомандующего Михаила Илларионовича Кутузова. Есть достоверные сведения о том, что если бы не прямое предательство Беннигсена, победа при Бородине была бы полной!.. Михаил Илларионович Кутузов всегда уделял серьёзное внимание резервам. Он часто говорил: "Резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который ещё сохранит резерв, не побеждён". В замыслах сражения при Бородине Кутузов отвёл резервам решающую роль. 1-й кавалерийский корпус генерала Уварова и Донской казачий корпус генерала Платова предназначались для мощного контрудара по французам с правого фланга. Одновременно на левом фланге должен был нанести по французам контрудар 3-й пехотный корпус генерала Тучкова, усиленный Московским ополчением, и скрытый заблаговременно в Утицком лесу за левым флангом Русской армии. Лес был окружён четырьмя полками егерей, и французы не подозревали о столь мощном ударном кулаке. Общая численность группировки составляла 20 тысяч человек. Учитывая соотношение сил на поле сражения и вообще число участников битвы, группировка была способна изменить ход и исход дела. Правильно предвидя, что главный удар Наполеон нанесёт на левом фланге, по Семёновским флешам, Кутузов намеревался измотать врага в оборонительном бою, а затем нанести внезапный мощный удар и с правого, и с левого флангов. Удар кавалерии был осуществлён. Удара пехоты в нужный момент боя не состоялось… Гибельность для французской армии удара Тучковского корпуса признал талантливый полководец французской армии, начальник Главного штаба Наполеона маршал Бертье, заявивший, что появление к концу боя за Семёновские флеши "скрытого отряда, по плану Кутузова, на фланге и в тылу", было бы для французов гибельно. Но… "План Кутузова сохранить до переломного момента в засаде свежий пехотный корпус и Московское ополчение, - писал советский военный историк генерал-майор Николай Фёдорович Гарнич, - был сорван его начальником штаба, бездарным и завистливым бароном Беннигсеном. Объезжая вечером 25 августа (6 сентября) русские позиции, Беннигсен попал в расположение 3-го пехотного корпуса, который уже почти сутки находился в засаде, и приказал Тучкову выдвинуться из леса вперёд на запад и стать непосредственно за егерскими полками на виду у противника. На возражение Тучкова Беннигсен настойчиво повторил приказание. Не смея ослушаться начальника Главного штаба, Тучков выполнил его приказание". О том же свидетельствуют воспоминания рядовых участников Бородинской битвы, в частности капитана Щербинина… Только гений Кутузова помог спасти положение, только мужество русских генералов позволили отстоять позиции. Участь русских солдат и офицеров умышленно поставленных Беннигсеном под истребительный французский огонь, хорошо показана в романе Льва Толстова "Война и мир" на примере солдат полка Андрея Болконского. В конце сражения Дмитрий Сергеевич Дохтуров, принявший командование 2-й армией после смертельного ранения генерала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона, вполне справедливо заявил: "Я полагаю Бородинское сражение совершенно выигранным!" Если бы не предательство Беннигсена, Наполеону, безусловно, было бы не видать Москвы. Таково мнение не только русских историков патриотического крыла, но и, как мы уже говорили, начальника главного штаба Наполеона маршала Бертье. Оставить же Москву пришлось по причине слабой подготовленности к войне всей страны. Политика Императора, которого мы знаем под именем Александра Первого, более заботившегося о благополучии Западных режимов, нежели о мощи России, не обеспечила создания достаточных резервов. А ведь ещё недавно, в годы правления Екатерины Великой, всё было по-иному. Канцлер Андрей Андреевич Безбородко, выступая перед молодыми дипломатами, уверенно заявил: "При Матушке-Государыне ни одна пушка в Европе не смела пальнуть без её на то ведома". Наполеон, уцелевший благодаря Беннигсену, сразу назвал себя победителем, хотя добросовестные историки опровергли это заявление ещё в те далёкие годы. Так Керр-Портер писал: "Французы отступили с поля битвы, когда уже нельзя было различить ни одного предмета". И далее: "Будучи принуждён отступать двенадцать вёрст, не останавливаясь, Наполеон требует себе право на успех дня". А вот что сообщалось в изданных штабом Кутузова "Известиях из Армии": "Отбитый по всем пунктам неприятель отступил в начале ночи, и мы остались на поле боя. На следующий день генерал Платов был послан для его преследования и нагнал арьергард в одиннадцати верстах от деревни Бородино". Французская армия бежала, бросив на поле боя до пятидесяти тысяч мёртвых тел солдат и офицеров, и сорока семи генералов. Брошено было бесчисленное множество раненых… Но это уже не ново. Вспомним, сколько раненых было брошено французами после панического бегства из под Прейсиш-Эйлау в 1807 году! Кутузов был намерен атаковать. Но стали поступать сведения о потерях. Потери были огромны. Поскольку французская армия превосходила численно, а потери оказались примерно равными, то соотношение сил, таким образом, выросло в пользу французов. К тому же Кутузову докладывали о подходе к французам новых свежих частей и соединений. Наши же резервы как в воду канули. Не успели их прислать к началу битвы, где-то они пропадали и в критический момент, когда необходимость в них неизмеримо выросла. Не будем останавливаться на дальнейших событиях, связанных с тяжелейшим, вынужденным решением Кутузова оставить в Москву. Они описаны в главе, посвящённой совету в Филях. Кутузов вынужден был оставить Москву, но оставлением этим, говоря его же словами "приуготовил гибель неприятеля" Именно гибель неприятеля, а не уничтожение города. Оставив Москву, Кутузов мгновенно оцепил её армейскими летучими отрядами и призвал на усиление этого оцепления отряды партизанские. Враг оказался в осаде. Вот тогда он и озверел… МОСКОВСКИЙ СУСАНИН Всё начиналось в Москве не так, как мечталось Наполеону. Первое разочарование постигло его уже на Поклонной горе, где пузатый коротышка-император (так он изображался на карикатурах того времени, что было недалеко от истины) не сумел возвыситься над Древней Русской Столицей, даже забравшись на самую высокую точку. Никто не принёс ему ключей от Москвы - никто не подал хлеб-соль, как, по его мнению, должно было произойти. Всё складывалось не по его планам и замыслам. Даже в Кремль он не решился войти в тот же день, ибо повсюду гремели выстрелы русских патриотов, не желавших мириться с вступлением в город варварской грабительской армии. Лишь 3 сентября под вечер он тихо въехал в Кремль, а утром 4 числа, проснувшись, услышал дурные вести. Доктор Мотивье сообщил о грандиозном пожаре в городе, высказав предположение, зафиксированное, кстати, документально: "Это неосторожность солдат. Они расположили огни слишком близко к деревянным домам и постройкам!" Наполеон встал, подошёл к окну, взглянул в него и, по свидетельству Мотивье, в ужасе отшатнулся. Москва горела. Дым заслонял солнце, багровые языки пламени с разных направлений подступали к Кремлю. Что же это? Нет, он тогда ещё не успел отдать приказ на преднамеренное уничтожение города - Москва нужна была ему для размещения армии, для отдыха, для подготовки похода на Петербург, если русские не пойдут на заключение выгодного дня него мира, для зимовки, наконец, если кампания затянется до зимы. Впрочем, он ещё надеялся, что со дня на день прибудут представители Императора России просить пощады. Он не знал, что даже тот, кто довёл страну до столь тягостного положения, даже тот, кого мы знаем под именем Александра Первого, не станет просить пощады, что он в первые же дни поклялся перед своим окружением, что не вложит меч в ножны, пока хотя бы один неприятель будет оставаться на Русской Земле. Велика, непревзойдённа и неразгаданна сила и стойкость Святой Руси! Даже те правители, которые заступали на государственное служение, будучи запутаными в сети тёмных сил, эти сети рано или поздно рвали в клочья. И пробуждалось в них несгибаемое чувство Русского Патриотизма. В первые дни сентября Наполеон вовсе не думал о сожжении Москвы. Москва была нужна, очень нужна, хотя и пока нужна, ведь ещё в 1997 году тёмные силы Запада приняли решение - разграбить и сжечь Москву, чтобы нанести смертельный удар России. Дальнейшие планы относительно Москвы не расходились с решениями, принятыми в последствии. Но пожар, возникший стихийно, возникший из-за необузданности грабительской армии, бросившейся за добычей, испугал не на шутку. Император поспешил на Кремлёвскую стену, чтобы осмотреться, оценить размеры опасности. Дышать было нечем, ветер, поднятый пожаром, разносил искры. Летели по воздуху целые горящие головешки, с треском рушились дома. Жалости к жилищам русских, да и к самому этому народу, которому он раз и навсегда определил роль рабов, не было, как впрочем, не было жалости и к любому другому народу, в том числе и к французскому. Недаром Наполеон - единственный в истории военачальник, который не однажды бросал свои армии, своих солдат и спасал собственную шкуру, сбегая с театров военных действий, когда армия его терпела поражение. Он обещал своим солдатам Москву на разграбление, и если они, грабительствуя, что-то сожгли, кого-то убили - его не печалило. Испугало его другое - уж очень разгорался огонь, уж очень разрастался пожар. Он разрастался с такою стремительностью, что стал угрожать и ему самому. К полудню огонь ещё более усилился, он даже достиг Троицкой башни, и солдаты гвардии едва потушили его, дабы он не проник в Кремль. На тревожном военном совете маршалы порекомендовали временно покинуть Кремль и перебраться в роскошный Петровский дворец, расположенный в предместьях Москвы (тогда это были предместья). Наполеон согласился и тут же пустился в первый, пока ещё временный побег из Кремля. Дорогу знали плохо, проводников не было. Некоторое время пробирались по набережной Москвы-реки, как беглецы - не как победители. Всё было в дыму, и вскоре свита императора окончательно сбилась с пути. Возмущенный Наполеон излил свой гнев на сопровождающих и, не видя иного выхода, решил возвратиться под защиту Кремлёвских стен. Укрывшись там, приказал срочно найти проводника. Вскоре привели пожилого мужчину в потрёпанной одежде, с седой, вьющейся бородой. Тот пообещал вывести императора со свитой к Петровскому дворцу. Снова двинулись в путь, снова плутали в дыму… Минул час, истекал второй…. Сопровождавшие Наполеона генералы стали беспокоиться - по их расчётам, пора было уже достичь дворца или по крайней мере вырваться из огненной западни, коей стал город. В узком, охваченном огнём переулке проводник остановился. Император понял, что оказался в огненном плену. Никто не знал, куда нужно идти. Вот когда Сегюр, летописец наполеоновского похода, вспомнил о русском герое Иване Сусанине, который завёл отряд польских интервентов в непроходимые лесные чащи и там погубил его. Это случилось два века назад, но не перевелись на Русской Земле герои. Ивана Сусанина поляки зверски изрубили. Нынешний его последователь стоял перед императором, спокойно ожидая своей участи. Он знал, на что шёл, и готов был отдать жизнь за Отечество. Наполеон был в бешенстве. В истерике он отдал распоряжения. Смерть русского патриота была ужасна. Даже французский летописец Сегюр содрогнулся, описывая её… Глядя на изрубленное тело проводника, Наполеон решил, что будет всячески поощрять зверства и жестокости своей банды, что русских будут казнить за непокорность, за свободолюбие, за то, что, наконец, они русские. Ну и, конечно, казнить, якобы, за поджигательство, ибо он понимал, что сожжение города даже в Европе, мягко говоря, прохладно относившейся к России, не прибавит ему авторитета. Ну а Москву он решил выжечь расчётливо, по заранее составленному плану. Но, чтобы сделать это, предстояло ещё выбраться из гиблого места, в которое завёл проводник. Наполеон не сразу оценил весь ужас обстановки, в которой оказался вместе со своей свитой. Сегюр впоследствии описал те жуткие минуты: "Вокруг нас ежеминутно возрастал рёв пламени. Всего лишь одна улица, узкая, извилистая и вся охваченная огнём, открывалась перед нами, но и она была скорее входом в этот ад, нежели выходом из него. Император пеший, в отчаянии бросился в этот проход. Он шёл среди треска костров, грохота рушившихся сводов, балок и крыш из раскалённого железа. Все эти обломки затрудняли движение. Огненные языки, с треском пожиравшие строения, то взвивались к небу, то почти касались наших голов. Мы продвигались по огненной земле, под огненным небом, меж двух огненных стен. Нестерпимый жар палил наши глаза, но нам нельзя было даже зажмуриться, так как опасность заставляла идти вперёд. Дышать этим раскалённым воздухом было почти невозможно. Наши руки были опалены, потому что приходилось то защищать лицо от огня, то отбрасывать горящие головешки, ежеминутно падавшие на наши одежды… Казалось, должен был наступить конец нашей полной приключений жизни, как вдруг солдаты первого корпуса, занимавшиеся грабежом, распознали императора посреди вихря и пламени, подоспели на помощь и вывели его к дымящимся развалинам одного квартала, который ещё с утра превратился в пепел". Затем беглецов во главе с императором вывели к Москве-реке. Перебравшись на противоположный берег по Дорогомиловскому мосту, они добрались сначала до Пресненской заставы, потом до Ходынского поля и через него направились к Петровскому дворцу. Прибыли туда уже в сумерках. В покоях дворца, расположенного в версте от города, можно было вздохнуть спокойно. Утром император приказал доложить об обстановке в Москве. Ему сообщили об усилении пожара. Один из адъютантов спросил, не угодно ли императору отдать распоряжение навести порядок в городе и потушить пожары. Наполеон долго молчал. Конечно, полностью ликвидировать Москву время ещё не пришло, ещё неясной оставалась обстановка, но и спасать древнюю столицу России он тоже не собирался. А потому, не сделав никаких указаний о тушении пожаров, в то же время приказал ловить и уничтожать поджигателей - чем больше, тем лучше. Он знал, что солдаты сами постараются друг перед другом произвести как можно больше казней. И никто не станет искать истинных виновников, а начнут хватать первого встречного. Собственно, это прекрасно показано в романе "Война и Мiр" Льва Толстого, когда в поджигатели зачислили никак уж не подходящего к подобной роли Пьера Безухова. Писатель много работал с документами того времени и был совершенно убеждён, что поджигателей-то никаких и не было, поскольку русские напротив старались тушить пожары, твёрдо зная: долго французы в Москве не продержатся. В Петровском дворце пришлось просидеть несколько дней. Лишь после сильных дождей пожар стих, и появилась возможность возвратиться в Кремль. Теперь уже Наполеон входил в Москву без той помпезности, что в первый раз. Осмотрев Кремль, Наполеон приказал устроить в Успенском соборе мастерскую по переплавке золота, платины, серебра. Всё это варварским способом сдирали со стен соборов и переплавляли в слитки, удобные для транспортировки во Францию. Вот такова судьба драгоценных металлов: в добрых руках они становятся произведениями искусства, окладами икон и иконостасов, радуют глаз, но в руках злых людей, в руках слуг тёмных сил, становятся товаром, а точнее, даже не товаром, а средством, на которые покупаются товары - орудия убийства, средства ведения войн. Ну и, конечно, они становились средством для приобретения предметов роскоши. Агрессоры никогда не забывали о своей главной задаче, о своих вожделенных "многомятежных человеческих хотениях" - тешить и лелеять не дух свой, а тело, то есть оболочку, данную для прохождения земной школы Души. Сегюр писал о грабежах: "…Император велел ободрать из кремлёвских церквей всё, что могло служить трофеями… Стоило неимоверных усилий, чтобы сорвать с колокольни Ивана Великого её гигантский крест". Для чего? Ну конечно же переплавить и переделать на деньги, деньги, деньги, которые застилали глаза, которые затмевали разум императору и его свите. Развёртывался беспрецедентный грабёж Москвы. Наполеон приказал распределить между армейскими корпусами кварталы города, в которых они могли, не мешая друг другу, "заготавливать для войск продовольствие и имущество". По этому поводу Сегюр отметил в дневнике: "Был установлен очередной порядок мародёрства, которое, подобно другим служебным обязанностям, было распределено между различными корпусами…" Даже будучи горячим почитателем Наполеона, Сегюр не мог не ужаснуться происходящему и признался: "Что скажет о нас Европа? Мы становились армией преступников, которых осудит Провидение, Небо и весь цивилизованный мир!" Впрочем, о создании общественного мнения Наполеон позаботился со всею дальновидностью. В своих лживых письмах и записках он постоянно с упрямой настойчивостью указывал, будто Москву грабят и жгут сами русские, армия же, напротив, борется с поджигателями. А на улицах между тем гибли безвинные люди, которых в эти поджигатели и назначали сами французы, без какого бы то ни было к тому повода. Однако, как водится, по мере разрастания грабежей и убийств безвинных людей, падала дисциплина, резко снижалась боеспособность армии. Наполеон не мог не видеть этого, но продолжал ждать, когда же, наконец, русские встанут на колени и попросят мира. Он не хотел верить в то, что даже оставление Москвы не поколебало Россию. В те дни его поразило страшное видение… Ему приснился русский старец, который грозил ему и требовал, чтобы он убирался из Москвы. Наутро он вспомнил, что где-то уже видел лик этого старца. Нашёл этот лик в одном из Соборов. Велел призвать к себе старика, который приносил из деревни молоко. Спросил, знает ли старик старца, изображённого на иконе? - Святой преподобный Сергий Радонежский, - отвечал старик. - Это великий молитвенник и заступник Земли Русской. Он предсказал Дмитрию Донскому победу над ордынскими полчищами Мамая… Наполеон, как известно, нигде и никогда толком не учился. Плохо он знал историю, причём, если плохо знал историю европейскую, то уж совсем почти не знал историю России. И всё же с помощью свиты, с помощью Сегюра, смог разобраться, что это были за события, о которых говорил старик из близлежащей деревеньки. С того дня Наполеон был особенно задумчив. Можно ли назвать его верующим? Едва ли. Верующие люди не могут быть жестокими по определению, верующие люди не могут собирать грабительские банды и рыскать с ними по территориям других государств, бесчинствуя и убивая других людей. Но что-то мистическое встречало его на каждом шагу в этой стране. Видение как бы подытожило то, к чему он приходил и сам в своих раздумьях. Ему напомнили о гибели поляков на полях России ровно двести лет тому назад. Поляки достигли больших, нежели он успехов, но и то их смели как мусор с Русской Земли. Ему же удалось занять Москву, но в Москву он привёл не ту армию, которая в начале июня стояла на границе, ожидая приказа на вторжение. В Москву он привёл израненную змею, которая ещё могла жалить, но жало было далеко не столь смертельным. А русская армия ускользнула от него, она исчезла, разъезды, посылаемые ей вслед, потеряли её. Кутузов позаботился о том, чтобы эти разъезды практически на всех направлениях натыкались на аванпосты, которые отражали попытки напасть на них с одинаковой силой. Русская армия совершила Тарутинский марш-манёвр, блистательно задуманный и осуществлённый Кутузовым. Там она расположилась лагерем, там приняла солидные пополнения, полученные, наконец, из разных концов страны. Там непрерывно шли занятия, на которых вчерашних необученных юнцов превращали в грамотных, знающих свой манёвр солдат. Москва же была окружена, и всё ощутимее становились удары летучих армейских и партизанских отрядов. Даже связь с Парижем висела на тоненьком волоске, ибо для отправки любой депеши требовалось снаряжать сильный отряд. Да и то не было гарантии, что он прорвёт цепь блокады. Оценив все "за" и "против" продолжения войны, Наполеон понял, что продолжать боевые действия не в состоянии. И тогда он направил своего адъютанта маркиза Лористона к Императору России с предложением мира. Он твердил как заклинание: "Я желаю мира, мне нужен мир; я непременно хочу заключить его, только бы честь была спасена!" Странное понятие о чести было у Наполеона. Добравшегося до русских аванпостов Лористона в Петербург не пустили. Его отвезли в Тарутино, к главнокомандующему Русском армией Михаилу Илларионовичу Кутузову. Уже по пути к избе, в которой находился Кутузов, Лористон был поражён тем, что увидел вокруг. Уезжая из Москвы, он постоянно встречал на улицах полупьяные шарашки уже не солдат, а скорее бывших солдат в оборванной, истрёпанной форме, без головных уборов, а зачастую и без оружия. Но зато все эти с позволения сказать воины, были обвешаны с ног до головы всяким награбленным скарбом. В Тарутине шёл обычный день занятий. Маршировали стройные ряды воинов, одетых в полушубки. Лица были румяными, довольными. Радостными. Где-то гремели выстрелы - там учились стрелять из ружей, где-то ухали пушки - там готовились артиллеристы. Лористон мог сравнить две армии, и сравнение было, безусловно, в пользу русских. Кутузов встретил его равнодушно, даже не пригасил сесть. Смотрел как на мальчишку нашкодившего, не скрывая неприязни, ведь он уже знал, что натворили в Москве эти горе-победители, эти чудовища, считавшие себя представителями просвещённой Европы, которую полагали более цивилизованной, нежели Россия. Лористон пытался задать какие-то вопросы, но Кутузов отмахивался от них. Отказался он обсуждать и проблемы, которые поставил перед ним Лористон. Русский главнокомандующий проявил полное равнодушие и безразличие ко всему тому, что говорил посланец Наполеона. А Лористон пытался уверить Кутузова в глубоком уважении Наполеона к Императору Александру Первому и к самому Кутузову. Наконец, поняв, что Кутузов просто издевается над ним, Лористон воскликнул: - Неужели вы не понимаете, что пора закончить эту войну… Только после этих слов Кутузов оживился и резко перебил: - Закончить войну?! - резко переспросил он и, ударив по столу кулаком, отрезал: - Помилуйте, так мы её только начинаем! Тогда Лористон сделал ещё одну ошибку: он попросил Кутузова отдать распоряжение о прекращении поджигательств в городе. Вот тут-то и получил полный и исчерпывающий ответ: "Я уже давно живу на свете, приобрёл много опытности воинской и пользуюсь доверенностью Русской нации: итак не удивляйтесь, что ежедневно и ежечасно получаю достоверные сведения обо всём, в Москве происходящем. Я сам приказал истребить некоторые магазины, и русские по вступлении французов истребили только запасы экипажей, приметивши, что французы хотят их разделить между собою для собственной забавы. От жителей было очень мало пожаров: напротив того, французы выжгли столицу по обдуманному плану; определяли дни для зажигательства и назначали кварталы по очереди, когда именно какому надлежало истребиться пламенем. Я имею обо всём весьма точные известия. Вот доказательства, что не жители опустошили столицу: прочные дома и здания, которых не можно истребить пламенем, разрушаемы были посредством пушечных выстрелов. Будьте уверены, что мы постараемся заплатить вам!" Сказав это, Кутузов встал, давая понять, что разговор окончен, и велел проводить Лористона за линию аванпостов. А Наполеон тем временем с нетерпением ждал ответа. Ему всё ещё казалось, что Александр Первый уступит, что будет покладист также как во время переговоров в Тильзите. Но тогда ведь и речи не было о нападении Франции на Россию. Сообщение о том, что Император Александр Первый даже слышать не желает о каких-либо переговоров, что Лористон был допущен лишь до Кутузова, который обошёлся с ним весьма сухо, привело Наполеона в отчаяние. Да, он и прежде оказывался в сложных положениях, ему даже приходилось бежать, бросая армию в Египте. Но тогда, хоть и с трудом, но убежать было ещё можно. Куда же убежишь из оцепленной русскими Москвы? Но он не сразу осознал до конца всю тяжесть своего положения, а потому первая реакция была бурной: - Надо сжечь остатки Москвы, идти через Тверь на Петербург, к нам присоединится Макдональд. Мюрат и Даву составят арьергард. Но тут же ему доложили, что Петербургское направление надёжно прикрыто крупными силами русских войск. Что же делать? Покидать город было необходимо. Ещё немного, и армия перестала бы существовать окончательно. Разграбив всё, что можно было разграбить, солдаты теперь пытались отбирать награбленное друг у друга, вовсе не понимая, что всё то, что они набрали, вывести во Францию не будет никакой возможности. Пора бы подумать о том, как хотя бы самим вернуться в Европу из этой страны, которой они принесли столько зла и горя и на снисхождение народа которой рассчитывать не могли. Армия "просвещённой Европы" даже по отношению к раненым вела себя варварски. Это признали впоследствии и сами французы. Так, в изданной во Франции "Истории ХIХ века" содержалось сообщение о том, что из числа русских раненых, оставшихся в госпиталях Москвы, 15 тысяч было сожжено французами, причём сожжено преднамеренно, что подтверждается многими свидетельствами очевидцев и историческими документами. Вот лишь одно подтверждение, которое приводится в книге советского военного историка Н.Ф.Гарнича: "В документах Отечественной войны, изданных П.И.Щукиным, содержится потрясающий по своему трагизму рассказ о гибели многих сотен тяжелораненых русских солдат в подожжённом французами Вдовьем доме: "Кудринский Вдовий дом сгорел 3 сентября, во вторник не от соседственных дворов, но от явного зажигательства французов, которые, видя, что в том доме раненых русских было около трёх тысяч человек, стреляли в оный горючими веществами, и сколько смотритель Мирицкий ни просил варваров сих о пощаде дома, до 700 раненых наших в оном сгорели: имевшие силы выбежали и кой-куда разбрелись…" В книге Гарнича приводятся и другие доказательства того, что армия Наполеона грабила и жгла Москву совершенно сознательно, с нечеловеческой жестокостью. В прочные здания стреляли из пушек ядрами с зажигательными составами или посыпали трудновоспламеняемые места порохом. Причём в первую очередь жгли дома с русскими ранеными, наслаждаясь тем, как гибли в огне люди, как мучились на глазах тиранов. Не сродни ли зверства наполеоновской армии зверствам поляков в 1612 году? Не сродни ли они зверствам армии гитлеровской? Не сродни ли бесчинствам грузин в Южной Осетии в 2008 году? Сродни!!! Любые завоеватели, любые захватчики чужих земель жестоки и бесчеловечны. Разве могут обладать чувством достоинства и доблести люди, которые идут в другую страну, чтобы поработить её жителей, отнять у них имущество, лишить продовольствия, убить, растерзать… Священник Машков свидетельствовал: "Конные неприятели, имея при себе зажжённые фитили, около рук обвившиеся, натёршим сперва дерево фосфорическим составом, зажигали там вдруг здания, и никто из русских не осмеливался гасить оные…" В тех, кто пытался погасить пламя, стреляли на поражение. И одновременно с этим в Москве по приказу Наполеона хватали первых попавшихся на глаза жителей, особенно тех, кто пытался тушить дома, обвиняли в поджигательстве и расстреливали, либо вешали, смотря по тому, насколько были настроены на жестокость палачи. По самым скромным подсчётам, таким образом, по ложному обвинению в поджигательстве, уже в первые дни после приказа Наполеона было расстреляно и повешено свыше тысячи русских патриотов. Сегюр ошибся… Мир не осудил, мир удовлетворился версией, сочинённой Наполеоном и разнесённой его почитателями и раболепными поклонниками. Западному миру выгоднее было считать варварами русских, но не гуннов XIX века, запятнавших себя грабительскими походами в рядах наполеоновской армии. Недолго был Наполеон в Москве, но преуспел во многом. После освобождения Москвы было подсчитано, что из 9128 каменных зданий осталось 1725, а из 8788 деревянных - 2479. Убытки же жителей от пожара составили 83 500 000 рублей движимого имущества и на 166 000 000 недвижимого. Вот какою представилась Москва будущему известному писателю, автору "Походных записок Русского офицера" Ивану Ивановичу Лажечникову, участнику Отечественной войны 1812 года: "Это ли столица белокаменная? - спрашивал я себя со вздохом, подъезжая к Москве. - Где златые купола церквей, венчавшие столицу городов русских? Где высокие палаты, украшение, гордость её? Один Иван Великий печально возносится над обширной грудой развалин; только одинокие колокольни и дома с мрачным клеймом пожаров кое где показываются. Быстро промчалась буря разрушения над стенами Московскими, но глубокие следы ею оставлены! Подъезжаю к Таганской заставе… Здесь стоят стены без кровель и церкви обезглавленные; там возносятся одинокие трубы; тут лежат одни пепелища домов, ещё дымящиеся и наполняющие улицы тяжёлым смрадом: везде следы опустошения, везде памятники злодеяний врагов и предметы к оживлению мщения нашего! Ужасно воет ветер, пролетая сквозь окна и двери опустошённых домов, или стонет совою, шевеля железные листы, отрывки кровель. Вокруг меня мрак и тишина могил!..." Чудовищным было преступление наполеоновских полчищ в Москве. Оно было бы ещё более страшным, если бы не своевременный прорыв в Москву казачьих частей братьев-генералов Ивана Дмитриевича и Василия Дмитриевича Иловайских… А случилось следующее… Покидая Москву, Наполеон отдал распоряжение маршалу Мортье остаться в городе с восьмитысячным отрядом и превратить Москву в руины. Под вечер 5 октября 1812 года Василию Дмитриевичу Иловайскому доложили, что южнее Чашникова, села, в котором стояли предводительствуемые им казачьи полки, не наблюдается аванпостов французов. - Вы уверены, что они ушли? - спросил генерал-майор Иловайский у казачьего офицера, прибывшего из разведки. - В нескольких верстах от нас чисто… Французов нигде нет. Иловайский подошёл к столу, на котором лежала карта, и тут в горницу крестьянской избы вошёл ротмистр Нарышкин, адъютант генерала Винценгероде. Генерал-лейтенант Фердинанд Фёдорович Винценгероде командовал отдельным отрядом русской армии, который прикрывал Петербургское направление и дислоцировался у села Пешковского, что в тридцати верстах южнее Клина. Генерал-майор Василий Дмитриевич Иловайский возглавлял авангард этого отряда, состоящий из трёх донских казачьих полков. Нарышкин привёз пакет от генерала Винценгероде. В пакете был приказ, подтверждавший предположение разведчиков - французы покидали Москву. Иловайскому было приказано произвести разведку предместий и выяснить обстановку в самом городе. Поблагодарив Нарышкина за радостную весть, Иловайский стал изучать местность в направлении предстоящих действий. Впереди, в нескольких верстах от Чашникова, лежали Химки - место уже знакомое. Там казаки уже Иловайского уже побывали 14 сентября в глубоком поиске, во время которого положили на месте немало захватчиков, а 270 привели в плен. О том деле генерал Винценгероде счёл необходимым доложить Императору, отметив в рапорте: "…Особенно рекомендую… полковника Иловайского 12-го: своею храбростью, деятельностью и искусным распоряжением он заслуживает монаршего вознаграждения". Указ о производстве в генерал-майоры последовал через несколько дней. После того памятного боя Василий Дмитриевич Иловайский не раз тревожил французов, уничтожая их аванпосты и отдельные отряды, вылавливая мародёров, рыскавших в окрестных сёлах. И вот поистине настоящее дело. Предстояло первыми идти на французов, по сути, освобождать Москву. К Химкам подошли в сумерках. Внезапным ударом опрокинули стоявший там отряд французов и рассеяли его. Впереди лежала Москва!.. Организовав разведку и походное охранение, генерал Иловайский повёл своих казаков к городу. На рассвете приблизились к Тверской заставе и атаковали стоявший там арьергард французов. После жестокой рубки враг бежал. Однако, прежде чем начать преследование, Иловайский допросил пленных. Они показали, что главные силы Наполеона действительно спешно покидают Москву, но в городе оставлен крупный отряд маршала Мортье, который имеет особое задание от самого императора. Ничего определённого об этом задании пленные сказать не могли. Впрочем, итак было ясно, что ничего хорошего Наполеон приказать своему маршалу не может. Иловайский не сомневался, что над городом нависла беда. Он двинулся вперёд по Тверской, продолжая разведку. С каждым шагом отряд приближался к центру города. В версте от Страстной площади путь казакам преградил сильный отряд пехоты с артиллерией. Русский авангард смело атаковал врага, но к французам тут же подошли подкрепления, и успеха добиться не удалось. Иловайскому стало ясно, что Наполеон затеял по отношению Москвы что-то чрезвычайно подлое, если на пути русских войск воздвигнуты столь серьёзные заслоны. Французы наращивали группировку, и Иловайский решил отвести свой небольшой отряд к Петровскому дворцу, рассчитывая, что Винценгероде пришлёт подкрепления. Возле самого Петровского дворца отряд Иловайского попал в засаду. Очевидно, французы заранее направили в обход крупные силы, чтобы преградить путь казакам. Такое яростное и активное сопротивление арьергарда французов в момент отхода главной наполеоновской армии всё более убеждало, что необходимо действовать быстро и решительно. Попав в засаду, генерал Иловайский не растерялся. Он оставил часть сил на месте, чтобы отвлечь внимание французов, остальные сам повёл для удара во фланг и тыл. Удар был неожиданным, схватка жестокой. Десятки вражеских трупов остались на поле боя. Многие французы предпочли сдаться в плен. Свидетелем этого боя стал генерал Винценгероде, который подъехал в этот момент к Петровскому дворцу с небольшой свитой. Помочь ничем не мог, ибо основные силы были ещё только на подходе. Рядом с Винценгероде был в то время старший брат Василия Дмитриевича Иловайского генерал-майор Иван Дмитриевич Иловайский, возглавлявший казачьи части, включенные в состав отряда. Винценгероде был восхищен действиями казаков и решительностью Василия Иловайского. Описав Императору бой, он заключил: "Быв очевидным свидетелем сей кавалерийской стычки, я не могу довольно нахвалиться искусством и мужеством генерал-майора Иловайского 12-го и полков, ему вверенных. Несмотря на превосходные силы неприятеля, он так искусно располагал своими полками, что, ударив неприятеля во фланги, привёл его в большое расстройство и, обратив в бегство, гнался за ним до самого города, положив на месте человек 50, в том числе нескольких офицеров, и взял в плен 62 человека… Привыкши всегда считать венгерскую конницу первою в мире, я должен отдать преимущество казакам перед венгерскими гусарами.." Спорно, разумеется, утверждение о том, что венгерская конница - лучшая в мире. Ведь оно принадлежало гессенцу Фердинанду Винценгероде. А он состоял на русской службе не постоянно, а периодами с 1797 по 1799 и с 1801 по 1807 годы, а затем вновь поступил на неё перед самой Отечественной войной в мае 1812 года. Потому недостаточно был знаком с тем, какую выдающуюся роль играли казаки во многих кампаниях и войнах XVIII - начала XIX века. Не ведал он, очевидно, что казаки являлись грозной силой, приводившей в трепет многочисленных агрессоров, пытавшихся в разное время вторгаться в пределы России. Но, отдав предпочтение казакам он уж точно не ошибся, поскольку именно казаки генерал-майора Василия Дмитриевича Иловайского впоследствии отбили у французов его самого, пленённого ими. Попал же Винценгероде в плен при следующих обстоятельствах. Пока Иловайский преследовал французов, бежавших к Тверской заставе, Винценгероде допрашивал пленных. И среди них нашёлся довольно осведомлённый офицер, который рассказал о планах уничтожения города. Что было делать? Как спасти столицу? Винценгероде не был русским, но Россия стала для него Родиной, поскольку сражалась с врагом, поправшим его отечество. Да и в национальности ли дело? Каждый честный человек мог бы содрогнуться от злодеяний французов в Москве. Не укладывалось, видимо, и в голове Винценгероде, что представитель считавшейся цивилизованной нации Мортье, выходец из "просвещённой Европы", сможет выполнить столь ужасный приказ Наполеона. Он решил, что сможет убедить маршала Мортье отказаться от варварского замысла, и поехал к нему в качестве парламентёра. Уезжая, он возложил командование отрядом на генерал-майора Ивана Дмитриевича Иловайского. Взяв с собой адъютанта ротмистра Нарышкина, Винценгероде отправился к французам. Утром 7 октября он вдвоём с адъютантом добрался до аванпостов. Нарышкин помахал белым платком. Флага не было - русские на милость победителей никогда не сдавались и не имели нужды в белых тряпках. Иван Дмитриевич Иловайский прождал командира отряда до исхода дня. Известий не было, а в городе, между тем, то здесь, то там раздавались взрывы. Как стало известно впоследствии, 7 октября французы взорвали винный двор и ещё некоторые строения. 8 октября снова слышались взрывы. Иловайский ещё некоторое время ждал, надеясь, что французы не способны и ещё на одну подлость… Но миссия Винценгероде заранее была обречена на провал, ибо Мортье не мог, да и, наверное, не имел желания ослушаться Наполеона, обуреваемого желанием разрушить Москву. Ведь не зря же Наполеон именно древнюю русскую столицу избрал целью своего похода. Заняв Москву, он рассчитывал подорвать русский дух, волю к победе, надеялся покончить с Россией, как с суверенным государством, непреодолимой преградой на пути к мировому господству многих завоевателей. 7 октября Мортье приступил к выполнению варварского приказа. В тот день были разрушены многие здания, а 9 октября взрывы начались в Кремле, где были уничтожены Арсенал, часть Кремлёвской стены, Водовзводная, Петровская и частично Никольская и Боровицкая башни, а также башни, обращённые к Москве-реке. В Грановитой палате и соборах начались пожары. Эти взрывы слышали Иван Дмитриевич и Василий Дмитриевич Иловайские ещё 7 октября. Взрывы 9 октября убедили окончательно, что более ждать нельзя. Стало ясно, что и с Винценгероде приключилось что-то непонятное. Братья Иловайские были близки к истине. Мортье, выслушав генерала, нашёл его просьбу бессмысленной и невыполнимой, причем, сам её факт возмутил маршала. Иноземец на русской службе просит не разрушать Москву? К чему жалеть чужие памятники старины? Что-то в этом роде и высказал Мортье Винценгероде. А потом заключил: - Бросьте, какой вы парламентёр? Скажите лучше, что случайно оторвались от основных сил и оказались у нас в руках. Винценгероде напомнил, что прибыл вдвоём с адъютантом с конкретным предложением. - Вы, верно, хотите сим своим подвигом снискать себе в России новую Родину? Вы пленены и отдайте шпагу… Между тем уже закладывались заряды под "многоглавую мечеть", как называл неуч Наполеон Храм Покрова на рву или Храм Василия Блаженного, подводились фугасы под Кремлёвские дворы и под колокольню Ивана Великого. Взрыв намечался на 10 октября (по французскому календарю - 22-е число). Но именно 10 октября генерал-майор Иван Дмитриевич Иловайский отдал приказ своему младшему брату Василию Дмитриевичу сбить французские заслоны и идти к Кремлю. Следом выступил весь отряд. Разгромив врага у Тверской заставы, авангард быстро достиг Страстной площади и на этот раз, отбив контратаки, опрокинул французов. Французы бежали по Тверской мимо разграбленного ими салона Волконской, мимо дворца графа Чернышёва, зияющего глазницами окон, мимо доходных домов до самой Красной площади. Через Спасские, Боровицкие и Никольские ворота русская кавалерия ворвалась в Кремль. Французы, находившиеся там, были истреблены. Мортье с горсткой солдат и офицеров едва успел бежать на Можайскую дорогу. Иван Дмитриевич Иловайский приказал немедленно найти и обезвредить заложенные врагом фугасы, что и было с успехом выполнено. То, что врагу не удалось произвести самых варварских взрывов, подтверждают ныне стоящие Храм Покрова на рву, Иван Великий. Вот только спасённые Чудов монастырь и Вознесенский монастырь не уцелели в годы революции. Иван Дмитриевич Иловайский направил своего младшего брата преследовать бегущих французов. Сам же занялся наведением порядка в городе. О подвиге донских казаков напоминает нам раскрашенная гравюра И.Иванова, которая называется: "Изгнание из Москвы остатков наполеоновской армии отрядом лёгкой кавалерии под командованием Иловайского 10 октября 1812 года". Иван Дмитриевич Иловайский стал первым комендантом Москвы после её освобождения от французов. Историк Отечественной войны 1812 года М.Богданович писал, что "…первыми предметами заботливости генерала Иловайского 4-го было водворение по возможности порядка в городе и подание помощи его несчастным жителям… Грабежи и бесчинства были быстро прекращены разосланными по всем направлениям разъездами и выставленными в важнейших пунктах караулами. Воспитательный дом, заваленный ранеными и больными, нашими и неприятельскими, был очищен от гниющих трупов, которые валялись рядом с ещё живыми страдальцами. Последних разместили более свободно по Москве и вверили их лечение и уход надлежащим людям, а затем, часть их, по мере улучшения здоровья, вывезена была в другие города…" Причём, помощь оказывалась не только немногим уцелевшим после варварского нашествия на город русским раненым, но и французам, брошенным алчными соотечественниками на произвол судьбы, в жутких условиях, среди, как уже говорилось убитых и искалеченных, в полной антисанитарии, в голоде и холоде… Сохранился документ, писанный рукой донского генерала Василия Дмитриевича Иловайского: "Уведомление об уходе французской армии из Москвы и о неудачной попытке французов взорвать Кремль. Неприятель, теснимый и вседневно поражаемый нашими войсками, вынужден был очистить Москву 11 октября; но и убегая, умышлял он поразить новою скорбию христолюбивый народ русский, взорвав подкопами Кремль и Божии Храмы, в коих опочивают телеса угодников. Дивен Бог во Святых его! Часть стен Кремлёвских и почти все здания взлетели на воздух или истребились пожаром, а Соборы и Храмы, вмещающие мощи Святых, остались целы и невредимы в Знамении милосердия Господня к Царю и Царству Русскому. 1812 октября 12-го дня". А Наполеон, не ведая о том, что план его не удался, почти в то же самое время хвастливо писал в Париж: "Кремль, Арсенал и магазины - всё разрушено, древняя столица России и древнейший дворец её царей не существуют более. Москва превращена в груды развалин, в нечистую и зловонную клоаку, она утратила всякое значение, военное и политическое!" Удивительно, как могут французы доныне гордится этаким своим национальным чудовищем? Как они могут спать спокойно, зная, что Москва не отмщена, а ведь Господь заповедал: "Мне отмщение и Аз Воздам!" То есть я отомщу за вас, поруганные нелюдями дети Мои! Одно из пророчеств великого провидца Земли Русской святого преподобного Серафима Саровского завершается такими словами: "…Соединёнными силами России и других Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией…). И вот тут, как правило, пророчество обрывается - не печатают далее то, что предречено великим старцем. Почему? Видимо, тем, кто печатает, не очень нравятся последующие слова. А святой говорил далее: "…Россия соединёнными силами со многими другими государствами возьмёт Вену, а за домом Габсбургов останется около 7 миллионов коренных венцев, и там устроится территория Австрийской империи. Франции за её любовь к Богородице - Св. Мадонне - дастся до 17 миллионов французов со столицей городом Реймсом, а Париж будет совершенно уничтожен…" Кстати, относительно Парижа… Известна истина евангельская: "Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки" (Мф. 7, 12). Поляки сожгли и разграбили Москву в смутное время начала XVII века. Во Вторую мировую войну немцы почти сравняли с землёй Варшаву. Гитлер мечтал залить водой Москву и Ленинград со всеми жителями. Но случилось так, что именно он залил берлинцев в подземке в 1945 году. Господь предупреждает: "Мне отмщение и воздаяние… И никто не избавит от руки Моей". Отмщена Москва не руками русских, а руками немцев. Остаётся не отмщённым Париж за те недостойные звания человека зверства, что учинили в Москве в 1812 году бандиты Наполеона. Грузины, вероятно, полагают, что сожжение Цхинвали сущая безделица, и что не пошёл уже отсчёт отмщения для Тбилиси. Но этот отсчёт идёт!!! Только вот отмщение будет содеяно не руками милосердных Русских. Отмщение будет попущено за тот великий грех великими грешниками, коим Господь попустит исполнить то, в чём "закон и пророки". Иного и быть не может, ибо, повторяю, в евангелие не говорится о безнаказанности для мерзавцев безбожников. Никто и никогда не уходил и впредь не уйдёт от расплаты. Когда Русские войска вошли в Париж в 1814 году, ни один волос не упал с Парижанина. Господь не попустил свершения отмщения руками возлюбленного Им Боголюбивого народа Русского. Когда Советские войска вошли в Берлин, советские воины спасали из развалин детей, стариков, женщин и кормили их. Грузины же в Цхинвали отрезали таковым головы. Евангелие говорит: "если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 14-15). Но врагам Бога, врагам веры, врагам Отечества и народа своего - нет пощады! Но не мстительны Русские сердца. Государственный секретарь адмирал Александр Семёнович Шишков перед вступлением русских войск в Париж, подготовил обращение к воинам, в котором содержался призыв бережно относиться к историческим памятникам французской столицы. В Париже не было повреждено ни одного дома, ни один волос не упал с голов его жителей. Вот строки из "Послания к французам…": "…отечества вашего мы не тронем, но, напротив, оставляем в целокупности". Не случайно берёт на себя Всемогущий Бог воздаяния нелюдям. Он заботится прежде всего о тех, чьи достойные души следуют путём к Добру, путём к Истине, а месть - это зло, оно ранит души, сбивает их с пути вверх по спирали совершенствования. Это недопустимо. Но, с другой стороны, не может быть на Земле и всепрощенчества - каждое злодеяние должно быть наказано, и история предоставляет нам немало примеров сурового и достойного воздаяния агрессорам за их бесчеловечность, за их изуверства. Во что превратили так называемые просвещённые европейцы прекрасный цветущий город! Что вытворяли в нём французы! И хочется посоветовать им - молитесь, слёзно молитесь, пока ещё не поздно, чтобы Всемогущий Бог простил вас за все злодеяния, которые творили по отношению к России и явно и тайно, ведь тайных злодеяний, о которых мы не говорим - не по теме нынче это - и вовсе не счесть! А между тем, в Москве устанавливался порядок. Комендант Москвы генерал-майор Иван Дмитриевич Иловайский издал первый приказ-воззвание: "Объявление о безопасности проезда в Москву и необходимости провоза туда продовольствия. Хвала Богу! Первопрестольный град очищен от врагов: окрестные жители могут быть теперь спокойны и привозить безопасно в древнюю столицу все произведения земли и изделия свои. Обитатели Москвы нуждаются в жизненных припасах: я уверен, что всякий русский будет продавать привезённое им за умеренную цену. Торговые дни назначаются те же, что и прежде. Проезд в Москву обеспечен воинскими отрядами. Господь милосерден! Государь наш благотворителен. Народ русский единодушен, и скоро Древняя Столица возвратит прежнюю свою славу и благоденствие… Октябрь 14 дня 1812". Почему же враг направил свой удар именно на Москву? Обстоятельный ответ содержится в книге "Герои 1812 года", выпущенной Издательством "Молодая гвардия" в 1987 года к 175-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Вячеслав Корда в очерке "П.П.Коновницын", включённом в книгу, пишет: "Традиционный уклад жизни народа, его нравственность, духовность препятствовали проникновению новых отношений в Россию более, чем что-либо другое, поэтому его и нужно было сломить, а для этого врагу нужно было поразить Россию в самое сердце. Сердцем страны, из которого произрастали корни духа народного, была Москва со своими старинными церквами, с росписями, с иконостасным богатством; со старинными библиотеками с манускриптами, летописями, книгами; со всей живописью и произведениями декоративного и прикладного искусства; со своими легендами, сказаниями, преданиями, молвой, духом; со своим материальным богатством; со своими старинным ансамблем, со своими названиями и признаками и со всем прочим, чего нельзя было измерить ни гирями, ни аршинами, ни золотниками, ни штуками, но что составляло и составляет душу и сердце каждого русского и что так до слёз было и есть дорого ему, и не только ему, но и не так давно обрусевшему инородцу. Недаром Пётр I в борьбе с боярской оппозицией, да и с народом, чтобы оторвать страну от традиций, перенёс столицу в болото, в пустыню, на ровное голое место, в чухонию. Этот акт был свидетельством беспримерной проницательности Царя, зревшего в самые корень проблемы. Как говорил историк Иван Егорович Забелин, занимавшийся историей Москвы, она втянула в себя всё самое выдающееся, самое прекрасное, что создали разные края России в области культуры. Все народы России видели в ней свою святыню, символ своей Родины, свою матушку. И с тем большей лёгкостью пошли народы Европы на международный заговор против России, чем больше он отвечал интересам их буржуазии, а точнее - того самого ротшильдовского спрута, которого она олицетворяла, и который был её фактическим хозяином. Наполеону гораздо важнее и удобнее было бы взять Петербург и навязать на выгодных для себя условиях кабальный для России мир, но этим не достигалась бы тайная цель похода. Вот почему он вопреки всякой логике, о которой говорило большинство писателей, не ограничился ни Витебском, ни Смоленском, а как бы вынужденно пошёл дальше, на Москву, взятие которой не сулило ему никаких особенных выгод, но которую он должен был уничтожить, а Кремль взорвать, чтобы не осталось и памяти об утверждении русской государственности, символом которой и был Кремль, как не осталось бы и свидетеля бесчисленных поражений международного зла, пытавшегося "раздавить" Русь во все времена, проламывая её рубежи то с Востока, то с Запада, то аварами, то печенегами, то монголами, то поляками, то шведами, а то французами с "двадцатью при них нациями". Проникая за его стены, все эти набродные толпы, сброд, или, как часто тогда говорили, "сволочь", неизменно убирались восвояси, если их не вышвыривали железной рукой
Коль любишь - время не излечит
Рассказ
«Всё, кружась, исчезает во мгле.
Неподвижно лишь солнце любви»
Владимир Соловьёв
Средь юных, невоздержных лет
Мы любим блеск и пыл огня;
Но полурадость, полусвет
Теперь отрадней для меня!
Я не вынашивал никаких амурных планов, потому что приехал дописывать роман, в котором любовь занимала основное место, а о любви писать лучше в тихом уединении. Тем не менее, в столовой я внимательно огляделся, но не заметил, на кого можно было бы, как говорят, глаз положить. Народ всё больше пожилой. Или пары – муж с женой. Вот и весь контингент. Впрочем, я, конечно, долго не засиживался, а потому не мог видеть всех – наверняка, кто-то уже пообедал, кто-то задерживался.
Прежде чем сесть за письменный стол, я решил прогуляться. Собственно, это было правилом на протяжении всего отдыха и прежде. На знаменитой берёзовой аллее уже поблекли последние золотые лепестки листьев, но зато яркой и сочной была трава газонов. Я шёл по дорожке, мокрой от дождя, когда услышал шаги позади себя. Кто-то догонял меня. Я обернулся и увидел миловидную женщину, спешившую куда-то и державшую под мышкой пальто, которое, как видно, не было время надеть. Она слегка запыхалась и, остановившись возле меня, чуточку прерывистым голосом пояснила:
– Увидела вас в окно… Вы только приехали? – и, не дожидаясь ответа, спросила: – Вы удивлены? Вы меня помните?
Лицо её показалось мне знакомым.
– Помню, – на всякий случай сказал я, полагая, что это одна из слушательниц моих бесед с читателями, которые я неизменно проводил, приезжая сюда на отдых.
– Я была на вашей встрече в прошлом году, была ещё и летом. Но вы отдыхали не один, а потому не могла подойти. А вы мне сразу понравились. Ваши пронзительные стихи сводят с ума. Они раскрыли вашу душу. Я почувствовала, что ваша душа родственная моей. Я тоже пишу стихи. Можно мне вам их показать?
Она говорила без умолку, а я украдкой разглядывал её. Была она молода, во всяком случае, много моложе меня, стройна, русоволоса. Глаза – вот что сразу приковывало внимание. Выразительные и внимательные, они не просто смотрели – они словно бы играли.
– Я с удовольствием почитаю ваши стихи. И, если не будете возражать, даже скажу своё мнение, как профессиональный редактор.
– Лучше как поэт. Редакторы – сухари. Сами ничего не умеют, а потому не понимают. Значит, прочитаете? О, как я буду благодарна! Так я зайду к вам? Можно сразу после дискотеки? Забегу в номер чтоб привести себя в порядок. И сразу к вам.
– Конечно! Буду ждать, – сказал я, чувствуя, что она мне всё больше нравится.
А сам подумал:
«Чем чёрт не шутит, может, заведу знакомство, даже роман со временем».
– А вы на дискотеку пойдёте?
– Не думал об этом.
– Пойдёмте. А то и потанцевать не с кем. А я видела, как вы хорошо танцуете, – сказала она.
– Ну что ж… Только если вы будете танцевать со мной, – поставил я условие.
– Только с вами. Обещаю.
Мы действительно протанцевали весь вечер, причём во время медленных танцев, она тесно прижималась ко мне, мешая водить её по залу, выписывая различные пируэты – я был мастером импровизаций. Я ощущал в эти моменты её упругое, гибкое тело, весьма волновавшее всё моё существо.
Когда отыграл последний вальс, она шепнула:
– Ну, я побегу. Будете ждать? Вы же не рано ложитесь?
– Я долго работаю. Так что не беспокойтесь.
В моём двухкомнатном номере в спальне стоял очень удобный письменный стол. Шампанское, конфеты и фрукты я решил, сам не знаю почему, поставить именно на него, а не на столик в гостиной.
Она всё больше занимала меня. Я знал, что женщины, пишущие стихи, непредсказуемы и необычны.
Она пришла минут через сорок. Осторожно постучала, и я открыл дверь.
– Пожалуйста, сюда, – сказал я. – Раз речь пойдёт о творчестве, присаживайтесь к рабочему верстаку.
Она остановилась перед столом и сказала:
– О, да вы подготовились не совсем к работе… Так встречаете свою почитательницу? – кивком головы указала она на шампанское и бокалы. – Тронута, весьма тронута.
Она присела на краешек кровати, я опустился рядом на стул.
– Позволите снять туфли? Устала от каблуков, – спросила она и, не дожидаясь ответа, забралась на кровать с ногами, поджав их под себя.
– Стихи принесли?
– Да, вот они. Но это потом. – И она положила тетрадку на стол, отодвинув её подальше, за вазу с фруктами. – Да вы садитесь ближе. Или боитесь меня? – прибавила игриво. – Право, вы такой скромный. А по вашим стихам и, особенно по роману, этого не скажешь.
Я пересел на кровать, подвинулся к ней, взял бутылку.
– Не спешите. Я хочу попросить вас что-то прочесть. Прочтите такое, чтоб я почувствовала – это мне, это для меня. Пусть на самом деле не так, но я представлю себе…
– Прочитать? – переспросил я. – Вы застали меня врасплох. Вам? Прочитать вам что-то написанное другим? Да вам надо посвящать стихи. Вы этого достойны. Ну, вот хоть так:
Посредь угрюмого осеннего пейзажа,
Где солнца не видать сквозь ширму тёмных туч,
Где холодна река, где сиротливы пляжи,
Явился ваших глаз животворящий луч.
И я уж не хочу уединенья,
Покоя, право, больше не хочу,
Во мне растёт мятежное стремленье.
К чему стремлюсь, пока я умолчу!
– Браво! – воскликнула она. – Это экспромт?
– Конечно! – подтвердил я.
– Значит, мне?! Тогда наливайте. За это можно выпить.
– Причём на брудершафт. Возражений нет?
– Нет.
Её губы были мягкими, тёплыми и нежными. Поцелуй наш затянулся и я, чувствуя, что она не делает попыток прервать его, осторожно коснулся верхней пуговки её кофточки.
Она не препятствовала, более того, когда я прильнул губами к прикрытому ещё ажурной тканью холмику, ощутив его почти девическую упругость, сама расстегнула остальные пуговки, чтобы освободить мне дорогу. И вдруг сказала, поднимаясь и становясь на кровати на коленки:
– Раздень меня сам!
Я снял кофточку и прильнул к обнажённому животику, затем поднялся вверх к завораживающим холмикам. А руки мои завершали своё дело. Её короткая юбочка уже оказалась на стуле, следом туда же отправились остальные части туалета.
Она вытянулась на кровати, не только не стесняясь, но, напротив, дразня совершенством своей фигуры. Я потянулся к ней и утонул в её объятиях, а губы наши снова слились в долгом поцелуе.
Её жаркий шепот будоражил сознание, её импровизации сводили сума. Она оказалась необыкновенно изобретательной и дерзкой во всех своих изобретениях. Столь дерзкой, что у меня не хватает сил описать всё, что мы проделывали с нею той поистине волшебной ночью. И лишь под утро она спохватилась. Светало-то поздно, и незаметно подкралось время, когда начинал постепенно пробуждаться и оживать дом отдыха.
– Мне пора! Помоги одеться…
Я начал помогать, но, прервав эту помощь, снова обнял её, сливаясь с нею в клубок страсти.
– Всё, всё… Мне пора, – повторила она. – Потерпи до вечера…
– Ты сегодня придёшь?
– Конечно, конечно, милый…
Я закрыл за нею дверь, полный невероятных впечатлений и ещё более радужных ожиданий. Я вытянулся на постели, ещё хранящей её запахи, в сладкой истоме и не заметил, как заснул крепким сном.
Проснулся уже около полудня. До обеда оставалось часа полтора. Но мне нестерпимо хотелось видеть её, а потому вышел прогуляться, в надежде, что она снова увидит меня, как накануне, и мы погуляем вместе.
День выдался солнечным, таким, какие очень редко бывают в дни поздней осени. Ещё кое-где на берёзках желтели последние листочки, невидимые накануне в хмурую дождливую непогодь, а теперь посылающие своё последнее прости. Я вышел на берег. Ослабевшие лучи солнца уже не пробивали, как это бывало летом, толщу воды, помутневшую и потемневшую, какую-то с виду густую и тяжёлую. Правда, небольшие рыбёшки ещё иногда сверкали своей серебристой чешуей, попадая у самой поверхности в отсветы, словно бы удаляющегося от нас на зимний покой светила. Оно смогло лишь слегка подсушить асфальт, но трава на газонах была покрыта густой и тягучей росой.
Я долго гулял перед окнами, но она не вышла, и тогда поспешил на обед, чтобы быть в столовой в числе первых. Я даже не знал, за каким столом она сидела, мало того, оказывается, что впопыхах не спросил её имени.
В столовой просидел дольше обычного. Наконец, обратился к знакомой официантке с просьбой узнать, где столик миловидной женщины? И описал её.
– Это высокая такая блондинка?
– Да, да, да…
– Сейчас схожу, узнаю, – пообещала официантка.
Вскоре я уже знал, что путёвка моей волшебной поэтессы окончилась ещё накануне, и она уехала утренним автобусом.
Я вышел из столовой в подавленном состоянии. Почему, почему она ничего не сказала? Кто она? Откуда?
И тут я вспомнил про её тетрадь и почти побежал в номер.
Тетрадь продолжала лежать на столе за вазой с фруктами.
Я открыл первую страницу и увидел короткую записку: «Во время беседы Вы не раз с восторгом упомянули рассказ Бунина «Солнечный удар», упомянули с какой-то лёгкой завистью к герою. Я решила подарить Вам такой вот солнечный удар, настолько, насколько могла, потому что безнадёжно и бессмысленно люблю Вас. Быть может даже не именно Вас, а Вас в герое Вашего романа. Но прошу, очень прошу: меня не ищите!».
Я сел за стол, придвинул к себе её тетрадь и, как бы разговаривая с нею, стал быстро, почти без правок и уточнений писать:
Вы просите меня про всё забыть
И не искать уж больше с вами встречи,
Что любите, но время вас излечит,
Что с прошлым рвёте тоненькую нить.
Но как забыть сиянье в час ночной,
Очей прекрасных, поцелуев чудо?
Нет, никогда такое не забуду –
Жить обречён я памятью одной.
Вы просите меня про всё забыть,
И не искать уж с вами новой встречи?!
Но если любите, то время не излечит –
Меж нами лишь прочнее станет нить.
Вы не словами правду, а глазами
Скажите мне, чтобы поверил я.
Зачем же нам ошибки повторять
Ведь очень часто счастье губим сами.
Вы просите меня о всём забыть?
А я искать намерен с вами встречи,
И верю, что в один прекрасный вечер
Судьба должна нас вновь соединить.
В тот день я вновь проводил встречу с отдыхающими. Что-то рассказывал, а думал о ней, даже пытался вспомнить, где сидела она, когда слушала меня здесь в прошлом году. Но разве это вспомнишь? Я почему-то ни в первый, ни во второй раз не заметил её. А ведь она наверняка подходила, и наверняка я подписывал ей свои книги. Недаром же она упомянула в записке о моём герое. Всё шло по плану, лишь один отдыхающий, какой-то бесцветный, серый и насупленный – такими бывают ворчуны, которые всем недовольны, но на всё имеют своё мнение – что-то бубнил с явным неудовольствием, конечно, тем самым мешая вести рассказ. Выступал я без каких-либо записок, всё говорил на память, да и сюжет выступления не давал отвлекаться на всякие нелепые вопросы во время беседы – все вопросы потом. Но тут я всё сделал замечание и попросил не мешать. Причём сначала это сделал мягко, а затем строже, напомнив, что у меня на встречах порядок такой – свободный вход, но и свободный выход, и если комментарии с места не прекратятся, буду вынужден вспомнить свою командирскую молодость и перейти на язык командирский, который, как шутят обычно, суть одно и тоже с… Уточнять не стал – военные поняли, невоенные, которые всё чаще после развала стали прорываться в дом отдыха, сразу выдали себя, недоумённо перешёптываясь. Неуёмный же слушатель процедил: – Ну и пожалуйста… Историю вы не знаете… И ваши выдумки разлагают молодёжь… Особенно рассказики о любви – тошнит от них. Какая любовь вне семьи? Преступление!!! А вы настраиваете на романтику и из-за вас потом жёны рога добропорядочным мужьям наставляют… Женщина, сидевшая на первом ряду, бросила: – Добропорядочным не наставляют. Так, мужчинка, бывает… – Что, да вы… с этим сладострастником… вы… – он захлёбывался от злости и никак не мог подобрать слов. В гостиной наступила тишина, многие недоумённо переглядывались и ждали, что отвечу я. Я, чтобы разрядить обстановку, попросил: – Будьте любезны, назовитесь. Кто я, вы знаете, было бы справедливо, что бы я знал, кто ко мне обращается. Но ответить я не успел, потому что бесцветный тип бросил: – Вы в женщинах не разбираетесь, у вас, у вас недо… неудовлетворённость. Вы хоть женщину то познали хоть раз… Это была неудачная попытка оскорбить, как-то побольнее поддеть, что вызвало снег – многие отдыхающие прекрасно меня знали, знали и о периодически случавшихся романах. Разве такое утаишь? Я ответил, разведя руками: – Увы, увы… Трудно найти женщину, которая бы, как вы изволили выразиться, подарила полную удовлетворённость… Но давайте перейдём к истории, не надо трогать темы щекотливые. Разговор начинал забавлять, но не тягаться же в рассказах о любовных приключениях, а то ведь чего доброго начнёт хвастать, а хвастают как раз те, кто ничего не познал, кроме скучных физических упражнений. И тут он меня поставил в затруднительное положение: – Давайте об истории. Вы хоть историка Карамазова читали? Признаться, я на минуту задумался – вот тебе и раз… Поддел… Что же это за историк такой. И тут всё понял. Ответил с улыбкой: – Нет, не читал. А вот братьев Карамзиных читать приходилось. Неуёмный отдыхающий покинул гостиную под общий хохот – практическим все догадались, что он перепутал фамилию… Вместо Карамзина назвал Карамазова. После окончания встречи ко мне подошла одна молодая женщина и сказала: – Вы не обращайте внимания. Он – тип, что не давал вам говорить – просто тут перед нами старается, чтобы внимание на себя обратить. И в столовой придирается к официанткам, да и везде… А мы на него ноль внимания – скучные, склочный человечек. Ну, как бы вам сказать – недомужчинка что ли? – А как же в наш дом отдыха попал? – Сами знаете, кто теперь только не попадает… Даже шутка появилась… Мол вот… в пальмах окурки, в лифте – лужи. Фирма приехала… Да, действительно, чтобы выжить в трудные времена руководство вынуждено сдавать дом отдыха на выходные всяким фирмам, где культура, конечно, никак не дотягивает до высокой культуры прежде Генштабовского дома отдыха. – Как хоть его имя? – поинтересовался я. – Или скрывает? – Нет, почему же, когда пытался ухаживать, представился – имя Александр, фамилия какая-то странная, видно укро-, точнее теперь урко-инская – Зверобойник. С одной стороны, такой прямо нравственник, но с другой – обычный приставала. – Когда приставалы получают от ворот поворот, сразу нравственниками становятся. Помните, был такой писатель Борис Васильев. Так он написал: «Когда стареет плоть, возрастает нравственность». Мы расстались. В другое бы время я непременно постарался завести знакомство с этой очень милой и умненькой барышней, но… сердце моё было занято другой… Но разве это вспомнишь? Я почему-то ни в первый, ни во второй раз не заметил её. А ведь она наверняка подходила, и наверняка я подписывал ей свои книги, ведь недаром же она упомянула в записке о моём герое.
Вернувшись в номер, я долго не мог решиться лечь на постель, ещё хранившую о ней память. Мне казалось, что я не перенесу одиночества. Вышел на балкон. Моросил дождь, поблескивали лужицы в свете фонарей на берёзовой аллее. Я отыскал то место, где накануне она догнала меня и обрушила свои неожиданные предложения, суть которых я в первые минуты не разгадал.
Спать хочу, но мне не спится,
Выхожу я на балкон,
Вдаль душа моя стремится,
В сердце трепетный огонь.
Лунный свет блуждает в парке,
Отражается в воде.
Глаз её сияньем жарким
Озарён вчера был здесь.
А сегодня одиноко,
Мне сегодня не до сна,
Мир задёрнув поволокой,
Осень разлучила нас.
На балконе была зябко, но я долго стоял, пытаясь продолжить стихотворение. Ничего не получалось. Нужно было осмыслить происшедшее. Проще бы, конечно, всё забыть, сделать над собою усилие, сесть за стол и продолжить работу над романом, который уже ждали издатели. Но возможно ли? Встреч, подобной только что поразившей меня, я не ведал, и теперь хорошо представил себе состояние Бунинского героя после перенесённого им «солнечного удара». Моя чудная незнакомка, делая мне ночной подарок, видимо, не учла всего этого. Может быть, просто не внимательно читала рассказ.
Где она теперь? Дома, в Москве, с мужем? Или, может быть, трясётся в поезде, если она не москвичка. Отдыхала-то по путёвке дома отдыха, а не пансионата, предназначенного только для москвичей. Почему она не хотела допустить продолжения отношений? Да, у неё семья. И у меня тоже некоторое подобие этой общественной организации, так сказать, ячейки общества. Но мы живём в мире, в котором семьи не помеха для отношений, порою, самых необыкновенных.
Я открыл её тетрадь. Адреса не было. Только стихи, одни стихи. Я принялся читать. От их пронзительности захватывало сердце. (Здесь и далее в уста героини повести Татьяны автор вставляет стихи, посвящённые ему женщиной, не лишённой поэтического дара, имя которой упоминать некорректно).
Знаю я, что любовь безответна.
Знаю я, ты не будешь со мной,
Но томима мечтою заветной,
Хоть бы раз быть твоей и с тобой,
Хоть бы раз, может быть, только на ночь
Я тебя украду у людей,
Пусть откроются старые раны,
Путь мне будет намного больней
Расставаться с тобою навеки,
Знать, что ты далеко и не мой,
И пускай будут влажными веки
От тоски безысходной немой.
У меня озноб пробежал по телу. Боже мой!. Неужели это написано мне, неужели мне посвящено? Мне редко посвящали стихи, причём, обычно это были довольно спокойные, выдержанные в размерах, четверостишия. Они не затрагивали самых тонких струн души, хотя получать их было приятно. Впрочем, я писал и посвящал неизмеримо больше.
Вот и отпуск уж мой на исходе,
Я брожу по дорожкам одна.
Не к тебе прижимаюсь – к природе,
Обнимает меня лишь она.
Чудеса сотворяем мы сами –
Говорят так у нас иногда.
Вас прошу, Небеса, вы громами
Позовите его мне сюда.
Пусть не мне обратит свои речи,
Пусть он ласки не мне обратит,
Но я буду мечтать – только вечность,
С ним когда-то нас соединит.
Я понял, что это она писала уже здесь, прогуливаясь по дорожкам, в тайной надежде, что увидит меня, что приеду сюда отдыхать. Но, очевидно, она даже не предполагала, что могу приехать один.
Странно, откуда у неё взялась эта любовь, откуда эти чувства? Может быть, она меня просто придумала? Бывает же такое. Дома семейные неурядицы, дома грубость, а здесь, здесь что-то светлое… Да, да, да. Она была как-то на вечере поэзии, который я проводил.
Я б к нему подошла на мгновенье,
И пока он на книге писал
Что-то обще, обыкновенно,
Взгляд мой нежный его бы ласкал.
Помню славную я минуту,
Когда он прикоснулся ко мне.
Нет, не обнял, а взял мою руку,
Это было как в сказочном сне.
Мне хотелось сказать ему: «Милый!»,
Мне хотелось признаться во всём,
Только сердце стрелою пронзило,
А язык отрубило мечом.
Да и что же промолвить могла я?
Нет, сказать ничего не могла.
И рыдая, я рифмы слагала,
И в душе расступалася мгла.
Больше я читать не мог. Меня потрясло то, что рядом со мною прошла такая любовь, которой, быть может, не видал я за всю свою жизнь. Всего несколько часов назад в моих объятиях была женщина, столь горячо любившая, что пустившаяся на отчаянный шаг – вот так, довольно дерзко прийти в гости и сделать то, что прежде всего хотела сделать сама, не вопреки, конечно, моим желаниям, но заставив меня повиноваться ей во всем её необузданном и неповторимом волшебном деянии.
Что же было делать? Идти к администратору и просить её адрес, телефон? А если сходить к соседке по номеру. Наверняка же они обменялись адресами. Мне вспомнилась эта соседка – миловидная молодая женщина, судя по обрывкам фраз, приехавшая откуда-то издалека, кажется из Старой Руссы.
Номер я знал, потому что видел брелок с ключами, когда она уходила с дискотеки, и машинально запомнил. И я отправился к соседке. Спустился на первый этаж, пересёк вестибюль с попугайчиками, аквариумом и фонтаном. В вестибюле и в холле, который был за ним, было пусто. Я поднялся на лифте на четвёртый этаж и, отыскав нужный номер, осторожно постучал.
– Кто там? – ответил приятный женский голос.
Я назвался.
– О, Боже… Минуточку, подождите минуточку. Я сейчас открою.
И тут же на пороге появилась соседка моей загадочной незнакомки.
– Проходите, проходите, пожалуйста, – приглашала она, называя меня на «вы» и по имени и отчеству.
– Вас, кажется, зовут Людмилой?
– Да, да. Откуда вам известно?
– Вчера на дискотеке вас называла так ваша подруга, а вот как её имя, для меня осталось тайной.
– Пусть тайной и останется, – сказала Людмила.
– Почему же?
– Вам же, как понимаю, обо всём написали.
– Это верно. И вы согласны с таким решением? – спросил я.
– А иного и быть не может. Я её здесь две недели убеждала выбросить вас без головы. Такая любовь, при полной её безответности, добром не может кончиться. Вы же сами должны понимать. Она сказала мне, что только раз побудет с вами, только раз и всё. Запретит себе думать о вас и выкинет из головы. Хотя, конечно, в это слабо верится.
– Но почему же любовь безответная?
– Вы несколько раз отдыхали здесь одновременно с ней, но всегда были с семьей. Мы с ней давно дружны и стараемся вместе ездить отдыхать, если получается. Вот и теперь путёвки почти совпали.
– Откуда она? Из какого города? Ведь не москвичка?
– К её, да и к вашему счастью, – сказала Людмила.
– Послушайте, отчего вы говорите таким томном, будто я в чём-то виноват? – спросил я с лёгким раздражением. – Да, я отдыхал с нею в одно и тоже время, но я даже не ухаживал за ней, не знал её, ни в чём не обманывал.
– Вы правы, вины вашей нет. Но мне всё равно за Татьяну обидно…
– Ну вот, хотя бы прояснилось, что зовут её Татьяной.
– Имя вам ничего не даст. Да и зачем вам всё это? Зачем? Поймите же, что лёгкий флирт с ней невозможен. Она очень порядочный и достойный человек. Я не знаю, какое у вас о ней сложилось впечатление минувшей ночью, поскольку мы едва обмолвились словом – она опаздывала на автобус. Но я хочу сказать: по тому, что было, не судите. Женщина иногда может себе позволить такое, что никто от неё и даже сама от себя не ожидает.
– Почему вы говорите о лёгком флирте?
– Да потому что с нею может быть либо всё, либо ничего. А всего у вас с ней быть не может. Я о вас наслышана. Знаю, что и здесь у вас бывали романы. Но всем известно..
– Кому это всем?
– Ну, скажем так, тем, кто интересуется вашей персоной, прекрасно известно, что семью вы никогда не бросите, а потому героини ваших романов должны быть готовы к весьма недолгим, хотя порой и ярким отношениям.
– Знаете что, душно как-то здесь… Пойдёмте прогуляемся, если у вас есть время. И поговорим. Тем более, кажется, дождик кончился.
– Тогда выйдете, пожалуйста, чтоб могла одеться. А то я в одном халате… Вы меня застали врасплох, почти нагишом.
Зачем она это уточнила, мне было не совсем ясно, а точнее, я просто оставил без всякого внимания эту фразу.
– Я подожду вас у входа в корпус…
Я стоял на мокром асфальте и думал, думал о Татьяне. Мне живо представлялось всё, что было минувшей ночью, и от этого сладкая истома разливалась по всему телу. Но эта истома требовала повторения… Я стоял и не знал, что вообще мне нужно. Повторения волшебной ночи? Множества таких ночей? Но это же не любовь, это просто увлечение. Имею ли я право разыскивать женщину, чтобы принести ей боль?
Вышла Людмила и тут же предложила пройтись до залива.
– Можно и до залива, – согласился я. – Так продолжим нашу дискуссию. Вы сказали, что брак мой незыблем. Да, безусловно, ещё сравнительно недавно так и было. А теперь дети выросли. У сына семья, две детей, дочь заканчивает институт. Замуж собирается. А жена?! Жена имела и имеет полное право сетовать на меня – были грехи, были. Так вот она прощать не умеет и живёт со мною разве что из привычки и нежелания заводить карусель развода, поскольку он никому не нужен. Но любви у неё давно уже нет.
– А у вас? – спросила Людмила.
– Вот эту тему прошу не трогать.
– Почему?
– Ответа на ваш вопрос у меня нет. У жены – застарелая обида на моё поведение,
– А Татьяна замужем?
– Да, да, конечно замужем, – как-то уж очень поспешно ответила Людмила.
– И дети есть…
– Есть, есть… Мальчик и девочка.
Я внимательно посмотрел на Людмилу, которая тут же отвернулась и стала разглядывать что-то в воде, посмотрел и не поверил. В эти минуты я пожалел, что разоткровенничался с нею. Ответ, на вопрос, который собирался задать и задал, я уже знал заранее:
– Так вы её адрес и телефон мне не дадите?
– Нет.
– А сами напишете то, что я попрошу от меня написать?
Она некоторое время молчала, и мне пришлось повторить просьбу.
– Хорошо, напишу, но это вам ничего не даст. У неё хорошая семья, она не пойдёт на разрыв, даже если вы этого захотите. И потом… Ещё вчера вы её знать не знали, а сейчас влюблены без памяти.
– Значит, есть на то причина, – сказал я.
– Неужели ради неё готовы развестись?
– Не знаю… Но она потрясла меня…
– Даже так…
– Потрясла не тем, о чём вы подумали. Потрясла своими стихами. Ведь они, как я понял, мне посвящены?
– Не знаю, не читала, – ответила Людмила и вдруг поинтересовалась: – Так что ж живёте с женой, если всё так ужасно?
– Одно название, что живём. Мы ведь в разных квартирах… Так, встречаемся иногда.
– Для секса?
– Какой там секс!? Она давно уже заявила, что всё в ней убил, а недавно с гордостью напомнила, что мы с нею уже несколько лет в губы не целовались. Словом, как вернулся я из госпиталя, так и не целовались.
– Прямо по законам проституток, – усмехнулась Людмила. – Это у них допускается только то, что оплачено, а оплачено известно что. И как же вы?
– Просто как-то так существуем.
– А помните, мы с Татьяной однажды хотели вас вытащить в сауну и подослали одного вашего знакомого отдыхающего?
– Так это были вы? Помню. Удивил он меня. Пришёл и стал звать в сауну, пояснив, что там компания. Жена, кстати, советовала идти.
– И он не сказал, что за компания?
– Шепнул, что его послала женщина, которой я очень нравлюсь… Но я не хотел в сауну, да и не мог по здоровью.
– Сауна была прикрытием. Мы бы вас с Татьяной отправили в номер, ну а сами уж пошли бы туда.
– Если б знал, может, и согласился бы. Только всё же не слишком это удобно. Вот если бы один отдыхал.
– Да вы, по-моему, впервые один здесь.
– Но как же мне всё-таки найти Татьяну? – спросил я, переводя разговор на другую тему.
– Пойдёмте лучше в корпус. Смотрите, какой ветер поднялся.
Ветер действительно усилился, и стало заметно холоднее. Мы вернулись в корпус, не окончив разговора, но до ужина оставалось не более получаса, и я откланялся.
В номере было зябко. Я не плотно закрыл балконную дверь, она распахнулась, и ветер играл занавесками, швыряя их в разные стороны и поднимая тюль едва ли не до потолка. Прежде чем закрыть дверь, я всё же вышел на балкон. В лицо ударил леденящий порыв – сыпалась снежная крупа. Сыпалась, пока ещё скупо покрывая землю и не задерживаясь на дорожках, откуда её сдувал ветер.
Я вернулся в комнату, прикрыл дверь и, сев за стол, стал писать:
Уж вечер. Ветер дико воет:
То свист в нём слышится, то смех,
И скупо, мелкою крупою
Ложится наземь первый снег.
Он робко прячется в низинах,
С дорог гонимый и с холмов,
След от него пока не зимний
И ветхий на полях покров.
И всё ж земля уж поменяла
Угрюмый и печальный вид,
И грозное зимы начало
За первою крупой стоит.
Морозит, и река дымится,
Пожар закатный догорел,
Но у берез светлеют лица,
А вот кустарник поседел.
Стою один я у окошка.
Сегодня ты совсем ушла.
И грустно, грустно мне немножко:
Вот так и осень умерла.
Всё в нашем мире быстротечно,
Но чувства, коль они сильны,
Должны вести путём извечным,
Коли не растрачены они.
Зачем ушла ты спозаранку?
Зачем оставила мне грусть?
Я помню чудную осанку,
И помню я девичью грудь.
Что так прелестна и упруга,
Я помню поцелуев жар.
Сотворены мы друг для друга –
Ты для меня как Божий дар…
Божий дар… На этой фразе я задержал своё внимание. Уместно ли так писать? Правильно ли? Но, вспоминая отношение ко мне моей жены, я всё чаще начинал думать, что поддержание их становится всё более и более безнравственным. Мне захотелось продолжить разговор с Людмилой, излить душу такой женщине, которая умеет слушать, умеет воспринимать и, несомненно, искренне заинтересована в моей судьбе. А главное, она издалека – уедет и увезёт с собою все мои откровения.
Сама по себе, как женщина, она меня не интересовала, а может, я просто не думал об этом. Татьяна, исчезнувшая столь внезапно и, как видно, навсегда, казалась мне по сравнению с нею земной Богиней. И я, несмотря на то, что уже было время ужина, вновь взялся за перо, ведь стихи такая штука – если не записать их сразу, улетучатся тут же.
И я снова стал писать, торопясь и едва поспевая за мыслями. Минувшей ночью я себя почувствовал с нею помолодевшим лет на двадцать – пожалуй, примерно такая разница и была у нас. А сейчас это чувство усиливалось.
Я прочитал её стих, интуитивно почувствовал, что она перенесла какую-то трагедию, какое-то горе. Был намёк на это:
Как мне с такой любовью жить,
Ведь ты о ней не знаешь даже,
О, если б крошку мне родить,
О Боже, что на это скажешь?
Имею ль право я на счастье,
Имею ль право на любовь?
Я столько вынесла несчастья,
Что в жилах леденеет кровь…
Любовь и кровь, рифмы, конечно, много раз высмеянные, но здесь они были на месте.
Ты обо мне не помнишь, милый,
Но всю себя тебе отдам,
Но где найти такую силу,
Чтоб счастье подарила нам?!
И словно отвечая ей, я стал быстро писать:
Когда погаснет день осенний,
Завоет ветер за окном,
Когда внезапно во Вселенной
Вдруг станет мрачно и темно,
Я упаду пред образами,
Взирая на их строгий лик…
Да, к Богу мы приходим сами,
Коль настаёт заветный миг,
Когда мы верим, что в молитве
Одно спасение для нас.
Мы на земле в жестокой битве
И каждый день, и каждый час.
Но нынче, пусть кому-то странно,
Не за себя я попрошу.
Я обращаюсь непрестанно
С тем, что в душе своей ношу.
Молюсь за ту, которой имя
Не престаю я повторять,
За ту, что я Земной Богиней
Дерзнул в восторге называть.
Она Богиня, но за что же
Злой рок дал горе испытать,
Лишив всего, что нет дороже.
Как счастье ей теперь познать?
И как поверить в это счастье?
Поверить в то, что есть оно?
Нельзя же в миг унять ненастье,
Что грозно воет за окном!
И осенив себя знаменьем,
У Богородицы прошу,
Дай силы мне и разуменье,
И боль её я погашу.
А в мыслях бьётся непрерывно,
Мечта и мысль о ней одной!
О Боже, с ней хочу я сына…
И чтоб она была женой!
Я перечитал заключительное четверостишие и подумал, что как-то само собою вылились на бумагу мысли о ней как о жене, и мысли о сыне. Но случайностей не бывает… Отчего же я подумал об этом, если даже не знаю, как её найти и возможно ли с ней завершить задуманное.
Стихи вновь растревожили душу. Я с трудом заставил себя оторваться от них и пойти на ужин. В столовой уже было пусто, но Людмила ещё не ушла, и я понял, что она специально дожидалась меня. Быстро расправившись с ужином, пошёл с нею в бар, чтобы продолжить разговор. Там играла музыка, правда быстрая и кто-то уже подскакивал под её раздражающие аккорды. Но вот поставили плавную, спокойную мелодию, и Людмила попросила пригласить её на танец.
– Вот уеду через несколько дней, и всё: прощай танцы на целый год, а может и больше – не каждый же раз удаётся вырваться.
Она, вероятно, ждала вопросов о себе, о её жизни, но я снова заговорил о Татьяне. Мне не давало покоя её стихотворение, и потому я спросил о её муже, о семье вообще.
– Да я же всё сказала, что знала.
Просидели мы в баре долго, несколько раз танцевали, но больше ничего путного мне выведать не удалось.
Мы расстались в холле, и я, поблагодарив её за приятно проведённое время, поспешил в номер, рассчитывая всё-таки, наконец, начать работу над очередной книгой романа. Но снова взялся за её стихотворения. Она раскрывались через них, и раскрывалась так, что у меня дух захватывало. Во многих содержался намёк, на трагедию, которую она перенесла, на боль, не отпускавшую её до сих пор. Но ни единого, конкретного слова. Да и понятно, если раны не зарубцевались, лучше их не бередить.
Я почувствовал желание писать, но не роман. У меня опять рождались стихи – это в который же раз за день. Прежде такого со мною не бывало. Мне хотелось написать что-то такое, что стало бы заочным разговором с нею, далёкой и близкой.
Вновь писал стихотворение:
Вот и листья в парке поблёкли.
Золотой огонь догорел,
И мне стало так одиноко,
И никто меня не согрел.
Я не знаю все ли экзамены
Перед Богом душа сдала,
Путь, объятый мятежным пламенем,
Не сгорел и теперь дотла.
Мне к истокам вернуться хочется,
Но давно позади стена.
И томит теперь одиночество:
Дни в раздумьях, ночи без сна.
Где ж вы милые, где любимые?
Иль былое всё – суета.
Пролетело, промчалось мимо,
На душе теперь пустота.
Может, шёл я не той дорогой,
И пора уже сверить путь?
Может быть, только в воле Бога
Нас на верный курс повернуть?
На следующий день я подошёл к дежурному администратору и спросил, можно ли узнать адрес отдыхавшей до позавчерашнего дня женщины по имени Татьяна.
– Не положено, – был ответ. – Но для вас, Дмитрий Николаевич, мы бы, конечно, исключение сделали, если бы смогли. Просто документы уже сданы в архив, и теперь разрешение на то, чтобы их посмотреть, нужно получить у начальника дома отдыха. Сходите. Он же к вам хорошо относится…
– Хорошо, я так и сделаю.
Но так я не сделал. Посчитал не слишком удобным, а потом Людмила усиленно старалась убедить меня, что не все стихи адресованы мне, а некоторые, скорее всего, просто где-то списаны.
Вскоре отдых её подошёл к концу, и она в канун отъезда, вечером, точно также как и Татьяна, после дискотеки, нанесла мне визит. Но принял я её в гостиной, хотя и с таким же джентльменским набором.

Она вошла в пальтишке, пояснив, что, якобы, в холлах нынче очень холодно. Но когда сняла пальто, оказалось, что на ней только красивые чёрные сапоги, белые чулки, шорты и какое-то странное подобие платья, более напоминающего широкий шарф и прикрывавшего слегка животик и груди, явственно проглядывавшие сквозь него.
Я был чрезвычайно озадачен таким явлением, но ничего не сказал, пока она сама не потребовала, чтобы дал оценку её наряду.
– О, да. Подобного мне встречать не доводилось, – только и смог вымолвить я.
– И я вам совсем не нравлюсь? – вдруг спросила она. – Что вы всё о Татьяне, да о Татьяне. Говорю же, у неё хорошая прочная семья. А стихи, стихи это, как бы вам сказать. Просто она вас себе придумала. Бывает же так. Дома всё хорошо, даже слишком, а романтики нет. А романтики хочется… Не такой, чтобы, простите, переспать здесь накоротке с кем-то из коллекционеров побеждённых женщин, а именно с человеком необыкновенным, коим являетесь вы.
– По её мнению, – усмехнулся я.
– И по моему тоже, – ответила Людмила. – Так наливайте шампанское, коли уж приготовили. Я даже знаю, что сделаете дальше. Предложите выпить на брудершафт.
– А если нет?
– Тогда предложу я… Могу же я подарить вам хотя бы страстные поцелуи, которых вы лишены много лет…
Я не знал, что делать. С одной стороны, у меня в номере была весьма миловидная и привлекательная женщина, готовая на всё, с другой, мне мешали чувства к чему-то эфемерному, несбыточному.
И я отдался вскипевшему во мне желанию. Не буду сравнивать – это было бы не корректно. Они, конечно, были разными – эти две подруги, которые, наверное, всё-таки подругами только звались.
Людмила уезжала утром, но не на первом автобусе, а потому задержалась у меня до самого завтрака. Правда, ей пришлось забежать к себе в номер, чтобы одеться для похода в столовую соответствующим образом.
В столовой она подошла ко мне и попросила проводить её до посёлка, откуда уходили автобусы и маршрутки до метро. Она была растеряна, печальна и чем-то удручена.
– Что с тобой? – спросил я.
– Уезжать не хочется. Очень не хочется уезжать…
За эти несколько дней я привязался к ней, и мне тоже было жалко расставаться, потому что она оставалась какой-то незримой нитью, связывающей меня с Татьяной, хотя я и понимал, что никогда она, особенно теперь, не даст мне ни телефона, ни адреса.
Прощаясь, она напомнила:
– Татьяна написала тебе, чтобы её не искал. Так не ищи. Она завещала тебя мне, потому что ей нужно или всё или ничего. Ну а я согласна и на редкие встречи. Если позовёшь, приеду. Позовёшь?
Хотелось сказать «не позову», но я не привык обижать женщин, тем более таких, что были мне близки.
– Время покажет. Наверняка ведь здесь ещё не раз встретимся. А позвать? Для этого нужны соответствующие обстоятельства.
– Понимаю. Жена всё ещё держит…
Я не ответил и, поцеловав её в щёку, помог сесть в маршрутку.

Если бы я знал тогда, что относительно Татьяны и её семьи она всё лгала от первого до последнего слова. Если бы я знал, что Татьяна, которая столь взволновала меня и странным своим посещением и пронзительными стихами, перенесла большое горе – потеряв в один год и мужа и сына. Если бы я знал, что она была нрава более чем строгого, а потому, решившись завести ребёнка, сделала это столь стремительно и тайно, не желая никого, даже Людмилу, посвящать в эту свою тайну. Она не хотела никого связывать этим своим деянием, тем более того, кого полюбила, но кого полагала недосягаемым в виду известных обстоятельств. Если бы я тогда всё это знал! Ведь на самом деле, меня, пожалуй, уже ничто не держало. Я был одинок. Правда, верным моим другом после того, как сын отошёл от меня, поскольку ничем я ему уже в жизни помочь был не в состоянии, стала дочь, со всю страстью окунувшаяся в мир литературы. Но дети – это одно. А любимая женщина, которая должна сопровождать мужчину на протяжении всей его жизни – и только тогда он будет по-настоящему счастлив – совсем другое.
Подходил возраст, когда уже пора было заниматься внуками… Помните, как в песне: «Будут внуки потом – всё опять повториться с начала». Но этого я был лишён. Сын затаил обиды, на некоторые вещи, о которых и говорить смешно, а жена в нём всё это подогревала. Одна из обид была на то, что я когда-то поздней ночью, в гололёд не дал ему машину, чтобы отвести в Обираловку загулявшую с ним профурсетку. Просто интуитивно почувствовал опасность такой поездки, и не дал. Равно как однажды, когда он был совсем маленьким, не пустил с приятелем смотреть щенков за неширокую ещё тогда кольцевую автодорогу. Товарищ после этого перехода через дорогу долгое время пролежал с переломами – сбила машина. Думаю, что не дав автомобиль, я ещё раз уберёг сына от беды. Тем не менее, сын все больше отдалялся от меня и, однажды, даже сочувственно заявил своей маме: как же ей не повезло, что она вышла за меня замуж.
Впрочем, я весьма равнодушно относился к этим мелочным пересудам, понимая, что многое, очень многое пока мешает понять сыну «зло от юности его». Я воспитывал его правильно, он прошёл суворовское и высшее общевойсковое училище, а значит, за плечами была не шкурно-либеральная подленькая бурса, а настоящая военная школа. Настоящая же военная школа выпускала настоящих мужчин, а не женоподобных волосатиков. И основы воспитания должны были рано или поздно проявиться, поставив всё на место.
Я постепенно возвращался к активной литературной деятельности. Много ездил по гарнизонам и ближайшим к столице городам. И, конечно же, нередко бывал в своём родном Тверском суворовском военном училище.
Ещё с госпиталя была у меня мечта: вот стану окончательно на ноги и приеду на берег Волги, к памятнику Афанасию Никитину, чтобы просто постоять там.
Настал такой час. Приехал и, попросив друзей, которые были со мной, не сопровождать меня, прошёл к памятнику, в каменную его ладью.
Справа красовался старинный Екатерининский цельнометаллический мост, слева, чуть дальше, каменный мост, скрывавший Речной вокзал, только шпиль которого был виден из ладьи Афанасия. Напротив – знаменитый горсад, воспетый Михаилом кругом и кинотеатр, когда-то, в бытность мою суворовцем, считавшийся центральным в городе.
Я вспомнил, как однажды в госпитале, где я держался твёрдо, стараясь подавать пример другим, хотя, порой кошки потихонечку скребли, мне поставили диск Михаила Круга, и я впервые тогда услышал песню «Милый мой город…». Глаза защипало сразу, а когда прозвучали строки «И Афанасий спускает ладью», слёзы полились сами по себе, но это были тёплые слёзы, если и не умиления, то чего-то наподобие этого.
А потом они высохли сразу, потому что я заметил внимание к себе и сказал:
– Я одолею болезнь… Я вернусь в строй. И обязательно приду к Афанасию со своей любимой, истинно и горячо любимой женщиной. Хотя и не знаю, кто она будет…
Вспомнились эти слова, и я усмехнулся. Сбылось, да не всё. Так я и не встретил пока той женщины, о которой мечтал.
Я прошёлся по каменной ладье, остановился на самом носу, и вдруг словно бы почувствовал на себе чей-то пристальный, обжигающий взгляд. Я обернулся. На меня смотрела женщина, державшая за руку мальчугана лет трех-четырёх. Я оцепенел, потому что узнал её сразу. Это была Татьяна.
Немая сцена продолжалась до тех пор, пока мальчуган не спросил:
– Мама, а кто этот дядя. Почему он на тебя так смотрит?
Та с грустной усмешкой и с нескрываемой обидой в голосе сказала:
– Это твой папа, сынок… Посмотри на него. Ведь он сейчас уедет, – она помялась, подыскивая слова и, наконец, придумала, что сказать: – Уедет на очень важное задание, и мы его с тобой больше не увидим.
Состояние у меня было в те минуты примерно такое же, как при слушании песни Михаила Круга в госпитале. Я с трудом справился с собой и, подойдя совсем близко к этим двум дорогим мне существам, тихо, с расстановкой, чтобы не дрогнул голос, сказал:
– Мама на этот раз ошибается, сынок. Я вернулся с важного задания, и теперь мы уедем в Москву все вместе.
И подняв сына на руки, освободил одну руку, чтобы крепко прижать к себе поражённую и оцепеневшую от неожиданности Татьяну.
" Левиафан" и Териберка.

Посмотрел "Левиафан" и как в детстве побывал.

Дом, в котором я провёл детство - стоял на самом берегу Баренцева моря.
Совершенно не являюсь поклонником Звягинцева. Из его творчества смотрел только «Возвращение» - фильм ни о чём, своего рода графоманства в кино.
И пресловутый его новый фильм» Левиафан» и не собирался смотреть, даже и не знал что он его снял.
Но вдруг поднялся та-а-а-кой шум вокруг него, так все стали его наругивать, начиная от Зюганова и кончая, короче кончая всеми.
Член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает, что режиссёр Звягинцев должен извиниться перед россиянами за свою картину "Левиафан" "В фильме показано, что жизнь русских настолько ужасна, что, получается, и отобрать её – не такой уж большой грех. По сути, фильм производит расчеловечевание русских и является идеологическим обоснованием геноцида русского народа. Я бы на месте Звягинцева этот фильм с проката снял, пришёл на Красную площадь, встал на колени и попросил прощения у русского народа"
Прочитал пару таких вот ругательных рецензий, что дескать фильм русофобский .Подумал, ну раз русофобский так и тем более смотреть не буду...принципиально.
И забыл о нём.
И вдруг в потоке новостей попалось сообщение что фильм то снимался ни где нибудь, а в Териберке !
Это совсем другое дело...для меня.
Поясню.
Я родился в Ленинграде, в знаменитом роддоме на Гороховой ( в соседнем доме располагалась Питерская ЧК).
Однако, поскольку отец у меня был военный, то мы вскоре после моего рождения отправились по месту новой службы отца — на знаменитую военно — морскую базу в Гремихе.
А она находится всего то в 300 км от Териберки.

И вот там то и прошло моё детство - вплоть до 10 лет я прожил сначала в Гремихе, а потом рядом в Островном, на самом берегу Баренцева моря.
Причём в самом прямом смысле - наш дом стоял на с-а-а-амом берегу моря и из окон открывался вид на суровое северное море и скалы.

Вот он ...красавец "ВОРОВСКИЙ " в Мурманске
Во время отпуска отца мы до «Большой землм» добирались на опять же самом знаменитом в тех местах теплоходе «Вацлав Воровский», а если он из -за ледовой обстановки не мог ходить - то на биплане с замёрзшего озера..

Правда такое было на моей памяти всего раз...но было.
Остановку «Териберка» прекрасно помню ибо это была последняя остановка перед Мурманском. Но туда мы не заходили ибо не было причала , а стояли, типа, на рейде - а люди подплывали на катере.
Словом, при слове «Териберка», нахлынули совсем уж детские воспоминания и посему принял решение — глянуть фильм...исключительно ради видов посёлка и окружающей природы.
Глянул.
Блин, прям как в детстве побывал !
Так же сурово, монументально и ...пронзительно холодно. Всё узнаваемо.
Но, поскольку уж глянул скажу пару слов о фильме.
Совершенно не понимаю ажиотажа вокруг него. Про сюжет рассказывать не буду и так уже сто раз расписан.
Каких то особых кинематографических находок - нет. Течение фильма -вялое, так и хочется перемотать, что и делал частенько.
Лично моё мнение таково - фильм никакой и ни о чём. Повторение повторенного. Ньюреализм и всего то. Даже чернухой нельзя назвать. Бытовщина. Серуха. Вот и всё.
Почему его так раздули - решительно не понимаю.
Если дадут «Оскар» порадуюсь. Всё же в нашу копилку награда и ...удивлюсь, как за такую серь могут награды давать, хотя в последнее время с умопомешательством, которое сейчас происходит в мире - ничему не удивляюсь.
Рекомендации.
Хотя мне и понравилось, правда исключительно по личным причинам, ни рекомендовать ни отговаривать не буду ибо обсуждать ...нечего.
Такие дела.
Я ПРОЩАТЬ НЕ УМЕЮ...
Рассказ
Кассовый зал железнодорожного вокзала, ещё недавно шумный и многолюдный, с длинными хвостами очередей между мраморными колоннами, в тот сентябрьский день встретил непривычной тишиной.
– А ты боялся, что за билетом не достоишься, – воскликнул мой товарищ. – Только взгляни: по одному человеку, да и то не у каждой кассы. Это тебе не лето…
Он хотел ещё что-то сказать, но, словно наткнувшись на невидимую преграду, побледнел, отпрянул назад и спрятался за ближайшую колонну. Я успел проследить за его быстрым взглядом, заметил отражённые на лице растерянность и удивление. Нет, точнее даже не так. Вначале было что-то иное – какое-то мгновенное озарение, какая-то яркая вспышка радости. Но это лишь на мгновение, а затем – полное смятение. И всё это от одного только взгляда на женщину в чёрной кожаной куртке и таких чёрных брюках, миниатюрную, хрупкую на вид и элегантную. Тонкие, запоминающиеся черты её лица, яркого и неотразимого, не могли не броситься в глаза любому случайному прохожему, но я ощутил, что не мимолётное очарование красотой взволновало моего товарища, что он видит её не впервые, что наверняка знаком с нею, а, скорее всего, – более чем знаком. Он схватил меня за плечо, увлёк за колонну, заговорил срывающимся полушёпотом, взволнованно, даже с оттенками мольбы в голосе – редко я видел его, умеющего держать себя в руках и скрывать, коли надо, свои чувства, в таком странном и неестественном для него состоянии. – Это она… Понимаешь, она! Прошу тебя, скорее, – заговорил он. – Возьми билет на тот же поезд, попроси место в тот же вагон, в то же купе, куда возьмёт она. Я потом тебе всё объясню. Иди один. Она не долдна меня вилеть. Я медлил, осмысливая его слова, а он торопил: – Ну, скорее же, скорее. Упустишь момент и окажешься в другом купе… Ну, объясню же тебе, объясню, и ты поймешь меня. Пришлось поспешить к кассе. Просьба заинтриговала меня, но я торопился, понимая, что нужный мне билет могут продать другому пассажиру в любой из соседних касс. Когда подошёл к окошечку, за которым стучал билетный автомат, кассирша уже протягивала билет, сдачу и поясняла таинственной незнакомке: – Поезд двадцать третий, вагон одиннадцатый, место двадцать седьмое… Я, конечно, досадовал, что придётся трястись дневным малоудобным поездом в вагоне с «сидячими» местами-креслами, что дорога будет очень долгой, но не мог отказать товарищу, чувствуя, сколь ему всё это важно. Едва таинственная незнакомка взяла билет из рук кассирши, я почти прокричал: – Будьте любезны мне один билет на двадцать третий поезд в одиннадцатый вагон и, если можно, на двадцать восьмое место… Незнакомка не успела ещё отойти от окошечка, проверяя билет и сдачу. Она услышала мою просьбу, смерила меня удивлённым взглядом, скривила губы в пренебрежительной усмешке, словно говорящей «тоже мне, ухажёр нашёлся». Не удивительно. Женщин, наделённых яркой, неотразимой красотой обычно раздражают постоянные ухаживания. Наверняка она приняла меня за очередного ухажера, решившего воспользоваться столь удобным способом – проехать рядом в поезде. Поймав на себе этот её полупрезрительный взгляд, я отвернулся, стараясь продемонстрировать полное равнодушие. Наконец, получил и я свой билет. Когда повернулся, чтобы отойти от кассы, незнакомки в зале уже не было. Товарищ мой вышел из-за колонны и теперь смотрел в окно, ожидая, видимо, когда эта взволновавшая его женщина, появится на улице. Я почувствовал, что ему хочется увидеть её, обязательно увидеть, хотя бы ещё раз. Лишь проводив её взглядом, он вспомнил обо мне и тихо проговорил: – Да, она также неотразимо прекрасна. Годы не меняют её. Впрочем, прошло не так уж и много – он хотел сказать ещё что-то для меня малопонятное, но я, не дав договорить, перебил вопросом: – Так что же всё-таки за дела? Что означает твоя странная просьба? Ты обещал пояснить. Он ответил не сразу. Он ещё некоторое время смотрел в окно, хотя незнакомка давно уже скрылась из глаз. Наконец, повернувшись ко мне, посмотрел каким-то отсутствующим взглядом – он всё ещё думал о чём-то своём, впрочем, не о чём-то, а о ком-то – думал о ней. – Так ты объяснишь, что случилось? И что это за женщина? Кто она? – Да, да, конечно. Я всё тебе объясню. И знаешь, если, конечно, не будешь возражать, кое-что попрошу сделать. – Уж не попытаться ли соблазнить её? – со смехом спросил я. – Хотя, думаю, это будет весьма сложно. – Да ты что? – перебил он. – Впрочем, это, действительно, не так просто сделать. – Но это как сказать, – продолжал я шутливым тоном, рассчитывая вывести приятеля из непонятного мне оцепенения. – Да, неожиданная встреча, – проговорил он. – Даже не предполагал, что когда-то снова увижу её. Впрочем, пойдём в город. До отправления ещё много времени. – Ты хотел о чём-то меня попросить, – напомнил я. – Да, да, конечно. Скажи мне, смог бы ты заговорить с ней? Попытаться вызвать на откровенность? Нет-нет. Только без всякого флирта. Просто заговорить? – Попытаюсь. Но для чего? – Попытайся. Ты умеешь. Я знаю, что у тебя получится, – сказал он. Мы вышли на улицу, раскрыли зонтики. Всё также моросил дождику, всё так же спешили куда-то прохожие, обходя лужи на асфальте тротуара. По серому Ленинградскому небу бежали мутные облака. Обогнув привокзальную площадь, мы оказались на многолюдном даже в дождь Невском проспекте. – Так в котором часу отправление? – спросил он. Я ответил. – Времени ещё вагон, – и, вспомнив о своём билете, прибавил: – Кстати, о вагоне. Только ради тебя еду в этакой трясучке. – Спасибо за такую жертву, – с усмешкой молвил он. – Сейчас, только устроимся где-нибудь, и я тебе всё расскажу: ты поймёшь, как для меня это важно. – Ну, так не тяни… – Не здесь же, на улице. Это ведь длинная история. Давай-ка зайдём в ресторан, посидим в тишине. За обедом и поговорим. И потом мне что-то захотелось выпить. Я знал, что выпивать он не любитель, но не удивился, видя его состояние. Мы зашли в старинный ресторан на Невском с огромным залом, увенчанным различными украшениями, с фонтаном в центре и уютными кабинетами, устроенными на втором этаже в виде балконов. Выбрали такой кабинет, и удобно устроившись в креслах, попросили меню. Подошёл чопорный, несколько слащавый паренёк и согнулся, учтиво спросив: – Чего изволите? – Водки, – сказал мой приятель. – А что на закуску, он скажет, – и кивнул в мою сторону. – Ну, так пообедаем. Что там у вас? Я сделал заказ, а он повторил: – Только, пожалуйста, водку и закуску побыстрее. – Мигом, – пообещал официант. Мы были в командировке в городе на Неве. Касалась она издательских дел. Мне пришлось уезжать раньше – позвали срочные дела. Он же обещал сам всё завершить и через несколько дней выехать следом. Тот труд, над которым мы работали, не очень его занимал. Вечерами в гостинице он работал над новым своим романом, в котором особенно хорошо удавались жизненные, особенно любовные сцены. Работать с ним было непросто. Он мог часами ничего не делать, хандрить, переживать по каким-то пустякам, выбивавшим его из равновесия, затем вновь садиться за компьютер и уже накрепко. В любую минуту дня и ночи он мог ворваться ко мне в номер, разбудить и заставить слушать новые главы, будто нельзя это отложить до утра. Впрочем, слушал я с удовольствием. Я знал, что он очень часто отрывался от нашей совместной работы, что его более привлекало его новое произведение. Что-то очень сокровенное, личное, видимо, было в нём. Что поделать? Человека не изменишь. Не заставишь писать то, что в данный момент не пишется. Это можно по необходимости сменить пилку дров на их рубку. А любовный роман вот так вдруг, без вдохновения, не напишешь – это не исторический трактат, заранее продуманный и спланированный. В любой роман, в любую повесть и даже рассказ человек вкладывает что-то личное, пережитое и, садясь за стол, вновь, и подчас, с большей силой переживает всё сызнова. Вот и теперь он был занят своими мыслями, и кто знает, что рождалось в его голове. Нам подали запотевший графинчик, поставили хрустальные рюмочки и фужеры, раскинули веером по столу заманчивого вида закуску. Официант наполнил рюмки водкой и фужеры минеральной водой, откланялся и, молча, удалился. – Первый тост за тобой, – сказал я. – Не до тостов, – отмахнулся он. – Так выпьем! – Ну, тогда давай хоть за ту красавицу, с которой мне теперь предстоит ехать до Москвы, – предложил я. Он молча опрокинул рюмку. Я последовал его примеру и вопросительно посмотрел на него. Он всё почему-то тянул с началом рассказа. Я не торопил, понимая его состояние. Наконец, он сказал: – Ты знаешь, кто эта женщина? – Откуда же мне знать? – удивлённо переспросил я. – Она была мне очень дорогим и близким человеком, – задумчиво проговорил он. – Именно она вернула меня в литературу. Я бы сейчас ничего не писал, если бы не она. А ты знаешь!? – вдруг оживился мой приятель. – Я не стану рассказывать. Я просто прочту тебе несколько страничек из новой своей книги. Не могу пока точно сказать, что из неё выйдет – повесть или роман. Может быть, просто перечитаю, окончив её, да порву и выброшу в корзину. Но вот сегодня, сейчас, не могу не писать, потому что накопилось вот так, – и он провёл ладонью по горлу, – потому что само льётся из души, и не могу остановить этот бурный поток. – Читай, – попросил я. Литераторы не любят слушать друг друга, не любят читать друг друга, но здесь было исключение – уж если мой товарищ решался что-то прочесть, всегда было интересно послушать. К тому же он умел читать столь эмоционально, что это по-настоящему трогало, и, признаться, доставляло удовольствие. Он взял свой портфель, положил на колени, открыл и некоторое время рылся в бумагах, перекладывая тоненькие папочки. Затем извлёк одну и положил на стол перед собою. Всё делал неторопливо, словно оттягивал момент начала чтения. Поставив портфель на пол, он потянулся к графинчику. Я опередил его, наполнив рюмки. Он же сказал: – За литературу! За русскую литературу. За литературу Тургеневскую, Бунинскую… Одним словом, настоящую! – Ты хочешь сказать: за возрождение Русского языка в нынешней литературе, с большой натяжкой именуемой русской? Согласен. Выпью с удовольствием! Он же только пригубил рюмку, поморщился, проговорил: – И водка теперь не водка, а гадость какая-то… Впрочем, писателю некогда заниматься этакой дрянью. Ты знаешь, что после выпивки в течение полутора месяцев пишешь только то, что годится лишь в корзину. Это точно! Проверено не только мной. Конечно, нынешним шелкопёрам безразлично, когда писать. Но, не будем судить других! Слушай и суди своего друга, – и прибавил с улыбкой. – Только не очень строго. Мы дружно рассмеялись. – Так вот начинаю я не совсем обычно, начинаю с маленькой прелюдии. …Отложи мой рассказ, стыдливый читатель – он не для тебя! Впрочем, ещё недавно и я не дерзнул бы писать так, как пишу сегодня, отбросив фарисейский притворный стыд и стремясь воспеть волшебную, непревзойдённую близость с пронзительно-прекрасной женщиной, предметом моей восторженной страсти, моего обожания. Прочти мой рассказ, читатель, если доступно твоему пониманию самое высокое, яркое, сильное из всех земных чувств – Чувство Любви! Я пишу для тебя, не стыдясь откровений, я пишу для себя, воспламеняя память свою, испепеляя себя в огне переживаний, я пишу для любимой, надеясь, что и она когда-то прикоснётся к этим страницам. Я пишу, оживляя в сердце своём её незабываемый образ, пробуждая в памяти минуты чудные, минуты яркие и прекрасные, драгоценные для нас обоих. Я берусь за перо, не ведя ещё, сумею ли вести рассказ свой с откровением исповеди, смогу ли передать всю силу страсти своей, всю силу любви, смогу ли искрами фраз своих заставить вспыхнуть огонь, столь яростно пылавший в наших сердцах ещё недавно. Смогу ли поведать, как можно любить, как нужно любить, как нельзя не любить! Благословен тот чудный миг, когда вспыхнуло моё сердце, когда огонь любви охватил душу, и когда встрепенулась, наконец, долго дремавшая моя муза. Средь лёгких облаков, в лазурном зените сверкнуло в восторженных глазах моей любимой отражение синеоких озёр, и распахнулись под крылом гидросамолёта тёмно-зелёные ковры лесов с синеющей вязью проток, словно, говоря словами песни, облака упали в зеркальную гладь озёрную. Валдайская гряда – врата Земного Рая Загар твой золотой на золоте песка, И тишина, покой от края и до края, И рядом Ты одна – как никогда близка! Он сделал короткую паузу, переводя дух, и я, воспользовавшись ею, спросил: – Это твои стихи? – Ну а чьи же? – ответил он вопросом на вопрос. – Впрочем, я наверное, утомил тебя чтением… А сам немного успокоился…. Теперь слушай, могу спокойно рассказывать… – Ты заметил, что она моложе меня? Десять лет в молодом возрасте – немалая разница. Это почти что иное поколение. Да-да, не возражай… Я тоже не сразу понял это. Она училась тогда в институте. Мы всё решили твёрдо и, казалось, прочно. Одно беспокоило меня. Институт, а точнее студенческая среда, наложили свой отпечаток на характер Алёны, на её поведение – слишком вольна она была, как мне казалось, в общении с мужчинами. И я переживал, потому что просто не мог не думать о том, сколь далеко могли заходить прежде её отношения… В конце концов, я попросил её, даже предупредил твёрдо, чтобы выкинула из головы всех старых знакомых, а особенно, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах не появился на моём пути кто-то из её прежних… ну, скажем, друзей. Она возражала, пытаясь убедить, что друзья – есть друзья, но я упорствовал… – Но из-за чего же всё-таки произошёл разрыв? – Однажды, незадолго до свадьбы, она пришла ко мне в гости со свой подругой, которую мне доводилось видеть и прежде. Но вот подруга эта притащила за собой своего знакомого молодого человека примерно моих лет. Подруга эта Алёнина была такой, знаешь ли, разбитной девицей. Мы посидели за столом, поговорили о всякой всячине, и вдруг Алёна захотела танцевать. Я включил музыку, повернулся к ней, но она уже танцевала с тем молодым человеком. Я легонько потянул её к себе, полушутя-полусерьёзно напоминая, что ревнив. И вдруг до слуха моего донеслась хлёсткая, как выстрел, хорошо, наверное, продуманная фраза: – О, как я понимаю вас… Было время, грешил тем же. Да и нельзя не ревновать её, с её-то характером… Он, не спеша, как бы нехотя, выпустил её из своих танцевальных объятий. – Да что же он такого сказал? – не понял я. – Нужно видеть взгляд, нужно слышать голос, чтобы понять смысл сказанного!.. Короче, я вспылил, резко повернулся и вышел на кухню, хлопнув дверью. Её подруга с тем молодым человеком тут же ушли, Алёна же набросилась на меня с упрёками. Она впервые сделалась такой гневной, несдержанной, не выбирала выражений, а мне оставалось только поражаться, открывая в ней прежде незнакомые отталкивающие черты. Впрочем, мне хватало выдержки не отвечать тем же, но когда она обронила тёплую фразу о том парне, я не удержался от вопроса: – Вы с ним давно знакомы? – Давно… – Вас связывала только дружба или?.. – Ты хочешь всё знать? – вскричала она. В таком состоянии женщина может выложить о себе многое, даже и крайне невыгодное. – Да, хочу! – Так знай! Было всё! Сказала и тут же зажала рот рукой в неподдельном испуге. Не укрылось от её глаз моё оцепенение, бледность, покрывшая моё лицо. Но слово – не воробей!.. Мой товарищ долго молчал. Я ждал и никак не мог отделаться от мысли, что какие-то мотивы этой истории мне уж знакомы. Где-то и от кого-то слышал я нечто похожее. Его глухой голос донёсся до меня, словно издалека: – Она подбежала ко мне, попыталась обнять. Я слегка отстранился и подошёл к книжному шкафу, где за стеклом лежали приглашения на нашу свадьбу и во Дворец бракосочетания. Вытащил их и, порвав на мелкие кусочки, швырнул в её сторону. Он снова долго молчал, словно сызнова переживая случившееся, потом тихо сказал: – Жестоко? Наверное… Но я тогда считал, что она поступила ещё более жестоко и не просто жестоко, но и мерзко. Мне показалось, что она весь вечер, глядя на нас, посмеивалась, как однажды, в общежитии, когда усадила рядом двух своих ухажёров, не подозревавших о такой глупой хитрости. Она как-то похвасталась этим… – Жестоко… – повторил я. – Тогда считал, что жестоко? А сейчас? Он не ответил, будто и не слышал моего вопроса, и я понял, что он так до конца и не решил для себя эту проблему. – Ну, братец, ты хватил, – сказал я ему. – Сравнил. Она ж за тебя замуж собралась, замуж… – Не знаю, – проговорил он. – И сейчас не знаю. Так было больно, так обидно. Ревность к прошлому – тоже ведь ревность. – И что же дальше? – Всю ночь я просидел за рабочим столом. Мне нудно было выписаться, все было необходимо излить на бумагу всё то, что так взорвало меня. Она проревела на кухне до рассвета. Потом подошла ко мне, попыталась обнять. Я отстранился. И тогда она, ни слова не говоря, стала читать написанное мною – бумаги были разбросаны по столу. Дочитав до развязки, швырнула листки на стол и молча вышла из комнаты. Через пару минут хлопнула входная дверь. Я даже не стал провожать её. – Что же было в рассказе? – Я описал наши отношения и сделал печальное окончание. Больше я её никогда не видел… Не видел до сегодняшнего дня… – Знаешь, сегодня на вокзале ты так смотрел на неё, что я понял: эта женщина оставила заметный след в твоём сердце, в твоей судьбе. Мне кажется, что ты и теперь её любишь. Так почему де не подошёл к ней? Вместо ответа он сказал мне: – Ну что ж, тебе пора. Провожаю только до вокзала. На перрон не пойду. – Да, но что я должен узнать у неё? – Спроси, любит ли она того человека, с которым столь внезапно развела судьба? Спроси, сможет ли вернуться к нему? Или ей дороже тот, кто стал причиной разрыва? – Ну, братец, столько вопросов. Да ведь не каждая женщина ответит на такие, даже хорошему знакомому, а тут случайный попутчик. – Как раз попутчику легче рассказать что-то сокровенное, – не согласился он. – Особенно такому, как ты, умеющему вызвать на откровение… Излила душу и.., поминай, как звали. – На один из вопросов я, пожалуй, тебе отвечу за неё. – На какой же? – с интересом спросил он. – Да относительно того человека, который, по словам твоим, стал причиной вашего разрыва. – И что же ты ответишь? – насмешливо спросил он, пристально посмотрев на меня. – Как же он может быть ей дороже? Какая глупость могли прийти тебе в голову? Дописался ты, братец, до того, что сам запутался, где литература, с её замысловатыми сюжетами, завязками и развязками, а где жизнь. Вот и получается, что в твоих произведениях всё иной раз запутаннее, чем в жизни. Вспылил ты тогда напрасно. Живёшь в каком-то другом мире. Ты ведь уж знал, что она за человек, знал, что прошлое для неё, как весёлая прогулка, но прогулка несерьёзная, лёгкая. Но она мечтала, с тобой вместе искренне мечтала о том, что ждёт впереди. И потом, суди сам… Ведь не он, тот молодой человек, был рядом с ней, не за него, а за тебя она собиралась замуж, за тебя, характер которого тоже не сладок. И, главное, не ты был побеждённым, а он, и не тебе надо было, сгорая от ревности, придумывать замысловатые фразы и вкладывать в них затаённый смыл, чтобы как-то уколоть и зацепить, а ему. И фразой той он растоптал не тебя и не вашу любовь, а себя, расписавшись в собственном бессилии. Мы расплатились и вышли из ресторана. Он молчал, слегка морща лоб. Он, несомненно, думал над моими словами, а я продолжал говорить, внушая ему, как мне казалось, истину. – Считаю, что ты поступил как ревнивый мальчишка. Попалась на твоём пути не такая, как все, встретилась гордая, несгибаемая, привыкшая повелевать всеми, кто ей окружал прежде. Что несгибаема она, я понял из твоего рассказа. И скажу тебе с уверенностью: рядом с тобой её бы и никто и никогда не согнул. Я бил его фразами, бил жестоко и безжалостно. Что ж, друзей надо учить и тогда, когда учеба эта приносит им боль. Но у меня теперь уже не оставалось сомнений в том, что обязательно разговорю эту женщину, ещё недавно таинственную и загадочную для меня, разговорю уже потому что иначе поступить не могу. У меня появилась цель, которая воодушевляла и призывала к немедленному действию! – Да, как её отчество? Имя ты назвал, но я же не могу обратиться к ней по имени? – Николаевна! – сказал он и повторил: – Елена Николаевна! Дождь всё ещё хлестал по асфальту, и мы снова раскрыли зонтики. Невский всё также был многолюден, несмотря на ненастную погоду. Я смотрел на проспект, и мне казалось, что не два-три часа прошло с того момента, как мы пошли в ресторан, а, может даже недели, месяцы или годы. Мой товарищ говорил столь взволнованно, что его рассказ не мог не увлечь. Да… меня увлёк рассказ, увлекла судьба, и я не мог не позавидовать светлой и дорой завистью тем его чувства, которые пережил он, будучи рядом с той милой, с той удивительной женщиной, которую довелось мне увидеть в кассовом зале вокзала. Мы молча дошли до площади Восстания, остановились под старинными сводами центрального входа на Московский вокзал. До отправления поезда оставалось не более получаса. – Что ж будем прощаться, – сказал я. – Не волнуйся, я постараюсь выполнить твое просьбу. Если конечно встречу её в вагоне. …Я постоял ещё немного, провожая его взглядом, потом посмотрел на часы и решил, что поезд, вероятно. Уже подали к платформе. Не спеша, прошёл по центральному залу, взглянул на табло, чтобы узнать номер пути и выбрался под широкий навес перрона. «Как начать разговор? – думал я. – С чего начать? Ведь можно всё испортить неосторожной фразой. Вон ведь как взглянула на меня , когда брал билет. Ещё, чего доброго, поменяется с кем-то местами, чтобы избавится от навязчивого попутчика». Я уже не думал о долгом и нудном пути, о неудобном вагоне. У меня появилась цель, и цель эта поглотила все мои мыли. Вот и одиннадцатый вагон. Я протянул билет проводнице, прошёл внутрь и сразу увидел её. Она сидела у окна лицом к выходу. Остановился на миг, потом пошёл уверенно, приняв, наконец, наиболее целесообразный план. Она встретила насмешливым взглядом. Видимо, решила, что сразу начну приставать с разговорами. Но не тут-то было. Вежливо поздоровавшись, я забросил чемодан на полку, сел, устроился поудобнее в кресле и положил на колени книгу, выбранную совсем не случайно. То был сборник моего друга с его фамилией, ярко начертанной на обложке. Краем глаза я внимательно следил за своей попутчицей. Она смотрела в окно, демонстративно отвернувшись от меня. Но я умел ждать и дождался. Когда поезд, слегка качнувшись, тронулся с места, она бросила случайны взгляд на меня и заметила книгу. В глазах отразилось удивление, сменившееся любопытством. Она даже отвернулась от окна, ожидая, что я заговорю с ней. Но я продолжал сидеть прямо, не обращая на ней никакого внимания. Книга лежала всё так же, как я ей положил. Я знал состав этого сборника. Там были повести и рассказы о любви. Многие из них я прочитал и теперь вдруг понял, кто главная героиня многих произведений. Как бы он ни крутил, ни вертел, как ни прятал, чтобы не придумывал, как бы ни называл свои персонажи, – в любом главном женском образе можно было найти черты моей попутчицы, ожившей, наконец, в своём кресле у окна. А я молчал, коварно молчал. Потом нехотя взял книгу, раскрыл её и стал читать, делая вид, что чрезвычайно увлечен этим занятием. Она стала немного нервничать. Надежды на то, что я заговорю с ней, что обращу на ней внимание, провалились. Но ей было очень неловко начинать разговор самой. Наконец, я сжалился. – Неплохо пишет, – сказал, как можно более равнодушно и, не закрывая книги, положил её переплётом вверх на полочку перед собой. – Кого? Я сделал такие удивлённые глаза, что она поняла по-своему, решив, видно, что автор мне неизвестен. Есть хорошее правило – не хочешь солгать, скажи что-то непонятное. Сказать, что не знаю автора, я не мог – не входило в планы. Раскрывать же, что он мой друг, было преждевременно. – Извините, – сказала она. – А можно посмотреть книгу? – Конечно, – сказал я, тщательно скрывая радость оттого, что осуществление моего плана началось. Она осторожно взяла книгу, раскрыла. Полистала, и стала читать какой-то рассказ. Потом вдруг опомнилась и спросила: – Вы, наверное, удивлены? Вот нахалка какая, попросила посмотреть, а сама читать вздумала. – Нет-нет, пожалуйста, – ответил я. – Читайте, если нравится. Она пристально посмотрела на меня, видимо, размышляя, говорит или нет. И всё-таки призналась: – Дело в том, что автор был.., – она смутилась. – В общем, мы поссорились незадолго до нашей с ним свадьбы. – Да? – я сделал удивлённое лицо. – Интересно… Говорят, прежде чем судить о взаимоотношениях двух людей, надо выслушать обе стороны. В подобных случаях рассказы совпадают редко. Но ту т я услышал историю, один к одному повторяющую ту, что поведал мне мой друг всего лишь несколько часов назад. Значит, оба были искренни. Одно не совпадало – она считала себя обиженной, хотя и признавала, что была неправа. Закончив рассказ, она сказала: – Понимаете, ведь не подумала, просто не подумала, что может произойти… Как я себя ругала! А ведь это всё подруга моя подстроила. Она с тем молодым человеком встречалась тогда, вот и пожелала взять его с собой в гости. Я значения не придала, не сопоставила, хотя помнила о предупреждении. Но здесь-то… Он же, тот человек, давно не со мной, а с подругой моей был. Она помолчала, а потом призналась: – Я была взбалмошной девчонкой. Я привыкла порхать по жизни. Мне всё давалось легко и просто. Единственная дочка у родителей, дочка балованная и, конечно, любимая. Мне позволяли всё, что можно было позволить. И с институтом помогли, и училась я не без поддержки. Хотя среднюю школу окончила с золотой медалью без чьей-либо помощи. А вот в институте могла и занятия пропустить. Замуж я не торопилась. Родители требовали, чтобы я сначала окончила институт. Да и не было достойных претендентов, не было молодых людей, которые могли бы по-настоящему тронуть сердце. И вдруг… На меня словно снежная лавина обрушилась, словно смерч налетел… А началось-то всё с пустяшного знакомства… Но вскоре этот человек ворвался в мою жизнь, открывая новый мир. Он мне писал: «Мир предо мною обновлённый…» Я не стал дослушивать стихотворение и прочитал заключительную строчку: – Ты будешь в мире том, Алёна, блистать на острие пера!.. Она опешила, внимательно посмотрела на меня и спросила: – Так вы всё-таки знаете его? – Представьте, знаю. И очень хорошо знаю. Он самый добрый мой друг. – А я ведь, как книгу видела, подумала, что вы с ним знакомы. А давно знаете? – Как вам сказать? Учились вместе, потом пути разошлись на какое-то время…А вот теперь вместе работаем. – Удивительно, – проговорила она. – Бывает же такое?! Очевидно, это относилось к встрече, которую она всё ещё могла считать чисто случайной. Я же решил, что настал момент действовать, пользуясь тем, что она немного ошеломлена: – Скажите, а вы хотели бы вернуть отношения с автором этой книги, которая, как я уже понял, вся о вас? Она удивилась, но, подумав, сказала: – Он не простит… Да и забыл уж давно, наверное. – Нет, не забыл, и вы сами в том убедились, листая книгу. Разве не так? Он любит вас, и свою любовь вложил во многие произведения. И новая повесть, которую сейчас завершает, тоже о вас. И тут я вспомнил, откуда мне знакома эта история. Ну да, конечно, некоторые ей мотивы положены в основу конфликта новой повести моего приятеля. Именно над её развязкой он работал теперь, именно в ней что-то не складывалось, не позволяя завершить работу. – Вы знаете, над чем он сейчас работает? – спросила она. – А давно ли с ним виделись? – Часа два полтора-два назад. Он провожал меня на вокзал, а ещё раньше, когда мы пришли за билетом, он, увидев вас, разволновался и попросил меня взять билет по возможности рядом с вами. Он почему-то не решился подойти к вам. Но если бы вы видели, как он смотрел на вас! Всю оставшуюся дорогу она читала книгу моего товарища, и то улыбка озаряла ей лицо, то капельки слезинок стекали по щёчкам. Наконец, за окном поплыл перрон Ленинградского вокзала. Мы вышли из поезда. Москва встретила сухой, холодной погодой. – Нужно позвонить ему немедленно сейчас же, – сказал я. – Знаете, давайте позвоним вместе? Он ждёт нашего звонка… – «Нашего»? – переспросила она, и лицо её озарилось. У междугородного автомата была небольшая очередь. Я думал, что всё разрешается хорошо и просто. Мне не терпелось услышать его голос, не терпелось, потому что я нёс ему радость, а радость принести всегда хочется быстрее. Он сразу взял трубку – она поняла это и подалась вперёд. – Ты слышишь? Я ехал с ней, – почти кричал я в трубку, – наши места были рядом… – С кем? С Алёной? – взволнованно спросил он. – Она любит тебя, слышишь, любит, как прежде, просит простить и ждёт. И выложил свой план, зародившийся ещё в вагоне. – Ты сообщаешь о своём приезде, и мы вместе встречаем тебя на вокзале. – Подожди об этом, – попросил он уже спокойнее. – Ты уверен в том, что сказал? Любит? Готова всё вернуть? – Да! Да! Да! Я был уверен, что через день или два возьму их руки и соединю здесь, на перроне и соединю навсегда… Нет, эти люди положительно должны быть вместе. – Ты доволен тем, что услышал? Ты простишь её, ты выезжаешь в Москву? – Ну-у, – протянул он снисходительно, – засыпал вопросами. Доволен ли я? Конечно. Прошу ли я? Нет – я прощать не умею. Но тебе огромное спасибо. Теперь я вижу развязку новой повести. Ещё раз спасибо и извини, я сажусь работать! *_*_*_* Написан рассказ в сентябре 1983 года, точно так же написан, как указано в рассказе – ночью, на одном порыве. Опубликован в газете «Красный воин» в октябре 1983 г., В журнале «Пограничник» в 1987 году. В последующем переработан уже в 1994 году, значительно увеличен и издан книжечкой. А подтолкнуло к этому следующее… Я отдыхал в Центральном военном доме отдыха «Подмосковье». Кто-то из знакомых принёс книжку, кажется, Тополя, и стал читать некоторые отрывки, в которых вовсю отражалась «свобода слова», касающаяся, правда, известных отношений, которые демократия ошибочно назвала любовью… Это было время, когда иные читатели, обнаружив в книгах те слова, которые раньше «публиковались» на заборах или в кабинах лифтов, сходили с ума от восторга: «Нет, да ты только посмотри!!!» «Да почитай!» «Не хочешь читать, послушай!»… И… один такой отдыхающий стал с вожделением читать: «Я беру свой (далее известная буква и отточие), направляю в (другая известная буква и снова отточие) и так далее – даже цитировать невозможно, хотя было это на странице официально изданной книги. Я сказал, что рассказы о любви не должны состоять из «помеси» медицинских терминов с матом и блатным жаргоном. А мне в ответ: «Попробуй, напиши лучше!» А я взял да засел за рассказ, но поскольку никакой сюжет не шёл в голову, решил всё завязать на рассказе «Развязка». Признаться, никогда так долго не работал над одним рассказом. Изощрялся в описании сцен, не скрою… Но, обязательно давал кому-то прочитать с просьбой вычеркнуть то, что режет слух, разумеется тем давал почитать, кто не млел пред матом и блатным жаргоном на страницах книг. Так и получился рассказ. Причём, увеличился раза в четыре, и я издал его брошюрой, в которой было 32 страницы. Сначала немного стеснялся его дарить, но потом заметил, что рассказ принят. Мотивы рассказа впоследствии тоже использовал в романе, который начал писать в 2004 году и назвал «Офицеры России. Путь к Истине». Примерно с 1989 года и по 2004 год занимался только историей. Исключение – переработка «Развязки». Убедился в одном – можно, вполне можно так выписать всё об известных отношениях, что не будет выглядеть отталкивающе для культурного слоя читателей. Но это нелегко, нелегко подобрать так слова, чтобы всё было понятно, но в то же время не упоминать предметы туалета, части тела… Ведь Русский Язык настолько богат и выразителен, что всегда можно найти синонимы, которые не режут, а ласкают слух… ЖЕНИСЬ САМ, ЕСЛИ НРАВИТСЯ Рассказ Я взял билет на скоростной поезд перед самым отправлением, и потому не удалось устроиться у окошка. Место там уже занял мужчина приятной наружности, с открытым лицом, на котором выделялись внимательные голубые глаза. Я поздоровался. Он ответил приветливо и поинтересовался: – До Москвы? – Конечно, – ответил я. – Этот поезд делает остановку только в Бологое, но туда на нём мало кто ездит. Было заметно, что сосед мой с некоторым волнением поглядывает на часы, ожидая отправления, словно торопит его. И хотя подобные желания присущи всем пассажирам, мне показалось, что он уж через чур волнуется. – Отправимся минута в минуту, – сказал я. – Не успеем оглянуться, как будем в столице. – Собственно, я и не знаю, следует ли мне спешить или ещё некоторое время побыть в состоянии ожидания и надежды, – неожиданно сказал он. Я посмотрел на него вопросительно, не совсем понимая, что он имеет в виду. Но в этот момент поезд плавно качнулся, стал сначала медленно, затем всё быстрее набирать скорость, и скоро нас буквально вдавило в сиденья от уже стремительного этого набора. – Ну вот и всё… Как говорится, я на финишной прямой и через считанные часы узнаю свою судьбу, – сказал он. – Загадками говорите. С гадалкой, что ли встреча назначена? – в шутку спросил я. – Нет, дело гораздо серьёзнее. Вся судьба моя зависит от того, встретит или не встретит на вокзале одна женщина. – Любимая женщина? – вставил я. – Вы знаете… Интересный вопрос. Уезжая в своё путешествие, я ещё не мог назвать её так, но вот теперь, пожалуй, такое определение вполне к ней применимо. Он на некоторое время замолчал, глядя, как за окном стремительно проносятся городские кварталы Санкт-Петербурга, мелькают платформы пригородных поездов. Затем продолжил: – Такая вот история со мной произошла… До сих пор не могу поверить – словно всё во сне, а скорее, в романе, то есть словно читаю остросюжетный любовный роман, в котором являюсь одним из двух главных героев. – Вы писатель? – поинтересовался я. – Угадали. – И книга, которая лежит на столике перед вами, ваша? – Моя. – Тогда я вас отлично знаю, точнее не вас, а ваше творчество. Ваши романы интересны и увлекательны. Но что же в жизни? Что вас так беспокоит? Он снова некоторое время помолчал и сказал: – Разве художественное произведение может сравниться с тем, что даёт нам жизнь? Вот сейчас у меня как раз такой случай. Такой пример. – А вы знаете. Я тоже весьма близок к литературе и хочу дать отличный совет. Включите диктофон, да и расскажите мне всю свою историю от начала и до конца. Ведь потом долго или вообще никогда не сможете написать то, что сейчас выльется из вас само собою бурным потоком. Я же вижу ваше состояние. – Интересный совет, – сказал мой попутчик. – Ну, конечно, если в вашей истории нет ничего сугубо интимного, такого, что… – Нет, нет. Ничего этого нет, – перебил он и снова повторил: – Интересный. Очень интересный совет. Если развязка будет счастливой, отложу эту запись до срока, когда она сможет стать линией какой-то повести, а если, увы, несчастной для меня, нынешней же ночью сяду за стол и не выйду из-за него, пока не пропишу всё и не поставлю точку. Не до сна ведь будет… Поезд уже мчался стрелой, приближая момент развязки так ещё и не начатого моим собеседником рассказа. И всё-таки он начал его, начал внезапно, начал по писательски, то есть хорошо отработанным слогом и довольно ярким языком. В тот день, а было это во второй половине ноября, в Москве выпал первый снег. Ещё накануне по мостовой рассыпалась колючая белая крупа. Ветер гонял её, заставляя прятаться в ложбины и канавки, в зелёную ещё кое-где траву газонов. А наутро снег повалил валом, засыпая нехоженые участки дворов, а дороги превращая в грязное месиво. Наступил, как говорят, день жестянщика, ибо привыкшие к сухому асфальту водители, царапали, били и корёжили свои автомобили, коих скопилось в Москве столь много, что улицы просто не в состоянии выдержать сплошные потоки. Мне нужно было заглянуть на старую свою квартиру, чтобы взять кое-какие книги, и я продирался из центра, стремясь объехать центральные улицы, на которых машины стояли без движения. Скорость была невелика, не больше чем у пешеходов, и я с удивлением наблюдал за теми, кто пытался остановить машину, чтобы куда-то доехать сквозь все эти заторы. И вдруг моё внимание привлекла знакомая девушка. Я не видел её давно, наверное, года два или даже больше. Это была Анечка, несостоявшаяся невеста моего сына Сергея. Он был женат уж как минимум два года, а она? Она, я слышал, так и осталась одна, потому что, как, якобы, сама признавалась, не в состоянии ещё раз вынести такого предательства, которое с трудом перенесла два года назад. Я остановил машину и приоткрыл правую дверцу. Анечка подбежала и спросила: – До Чертанова подвезёте? Я понял, что она не узнала меня, и сказал, чуть изменённым голосом: – Садитесь. – А сколько, – начала она, собираясь оговорить цену, и осеклась, узнав меня: – Вы? – Как видишь... – Так вам же не по пути. Она, очевидно, уже знала, что мы разъехались с женой и что живу я в той самой квартире, которую получил несколько лет назад, и в которой сразу поселились они с Сергеем. Вот так, взяли и поселились, даже не оговорив своё будущее. – Вам же в Южное Бутово. – Как раз сегодня мне необходимо побывать на старой квартире. Кое-что из книг понадобилось. Так что подвезу тебя с удовольствием. Мы двинулись по направлению к Чертанову, продираясь сквозь кучи грязи, лужи и объезжая машины, застывшие в ожидании разборок с сотрудниками ГАИ и страховыми агентами. – Как живешь, Анечка? – спросил я, наверное, для того, чтобы хоть что-то спросить. – Спасибо, всё нормально… Это была хорошая скромная девушка, худенькая, роста чуть ниже среднего, с миленьким добрым личиком. Я знал её давно. Мой сын ходил в одну с ней группу в детском саду, затем учился в одном классе вплоть до своего поступления в суворовское военное училище. С их классом я в своё время много занимался, придумывая разные пьесы, ну и, конечно, готовя к школьным парадам, посвящённым 23 февраля. Но это было в другой жизни – жизни светлой и доброй, а не бандитской, жестокой и злой, что выродило из себя чудовище демократии. – Замуж не собираешься? – Пока нет. Что было ещё спросить? Повиниться за сына, который не просто встречался – жил с ней полтора или два года, а потом быстро женился, чем нанёс жестокий удар её сердечку. И вдруг она сказала сама: – Мне жаль даже не то, что произошло с Серёжей, мне жаль тех отношений, что были у нас с Зоей Васильевной и с вами. Вы ведь так хорошо ко мне относились… – Мы и сейчас относимся к тебе хорошо, – поспешил сказать я. – Особенно Зоя Васильевна за тебя переживает. – Спасибо, – тихо сказала она и машинально спросила: – А как у Серёжи дела? – и тут же, спохватившись, почти выкрикнула: – Нет, не надо, не отвечайте. – Хорошо. Не буду. Но о чём ещё было говорить? Что-то вспоминать? Но любое воспоминание могло причинить ей боль. – Над чем сейчас работаете? – спросила, чтобы как-то отодвинуть подальше тему неприятного для неё разговора. – Что-то неожиданно отвлёкся от документалистики, да и в романе застрял на одной из сложных глав. Да что там говорить – могут ли быть лёгкими главы, если жизнь сама по себе сложна? Ты, должно быть, слышала, что с женой мы практически расстались… Оформляем развод. – Ой, как жаль… Зоя Васильевна такая хорошая. Я её искренне полюбила, – сказала Анечка. – Разве я сказал, что она плохая? Нет, дело не в том совсем. – И неужели нельзя ничего поправить? У вас такие были хорошие отношения? – Милая Анечка, всё это являлось ширмой, не более того. Так что я в поиске. – Ну, дай вам Бог, – сказала она. – А мы, кажется, приехали? Дом, постройки семидесятых лет, стоял в самом начале Чертановской улицы. Я въехал во двор, остановил машину. Анечка поблагодарила, и я заметил, что расстаётся она со мной не без некоторого сожаления. Удивительно, но ведь прежде мы практически с ней не разговаривали, потому что они, приезжая к нам в гости с Сергеем, всегда в то время старались чем-то помочь. Анечка часто настраивала и отлаживала мой компьютер, с которым я только начинал знакомство. Она попрощалась и медленно пошла к подъезду. Я не стал её догонять и специально открыл багажник, якобы что-то перебирая. Она же, остановилась возле подъезда и, прежде чем открыть дверь, ещё раз поблагодарила меня за то, что подвёз через все эти заторы и пробки, и только после этого открыла входную дверь. Я же, забежав на несколько минут домой, поехал на новую квартиру. Теперь уж всё смешалось и точнее сказать: «я забежал на старую квартиру, а потом поехал домой». Мы развелись, потому что вместе уже стало тесно от взаимных претензий и обид. Впрочем, и тут точнее сказать – от её претензий и обид, которых накопилось с три короба за годы прожитые и которые исправлять было поздно, да и нельзя исправить то, что неисправимо. Разводиться долгое время нужды не было, а жить вместе не имело смысла. К чему изводить друг друга понапрасну? Итак, я приехал домой, в свою квартиру и приехал в несколько расстроенных чувствах. Там всё было устроено заботливыми руками Анечки. Именно там она стала замечать вихляния Сергея. Он всё время пытался сбежать, вырваться на свободу и оказаться в некоей Обираловке, после революции названной городом Железнодорожным, сохранив при этом свою сущность, по крайней мере, по отношению к Сергею со стороны одной из молодых представительниц сего населённого пункта. И я, и жена, и мать жены – бабушка Сергея – и другие родственники были против его женитьбы на Карине Дудульман из этой самой Обираловки. Но он упрямился, продолжал встречаться, терзая тем самым Анечку. Но случилось так, что он неожиданно встретил любовь детства, девушку прекрасную. Они познакомились, когда ему было шестнадцать, а ей четырнадцать лет. Было разное в их отношениях, но теперь всё вспыхнуло с новой силой, и он женился при полном нашем одобрении. Может быть, ещё поэтому я, случайно повидав Анечку, в тот день был как бы не в своей тарелке. Ведь я приветствовал женитьбу сына, а о ней – о ней почему-то не подумал. Теперь же представил, какую боль всё это причинило ни в чём неповинной Анечке. В этой квартире о ней напоминало многое. Она старалась создать уют, нередко с грустью признаваясь моей жене, что понимает – делает и оборудует всё не для себя. Она считала, что рано или поздно Сергей приведёт сюда ту самую Карину. Ещё в ту пору, когда он метался между Анечкой и Кариной, я сказал ему: – Ну что тебе ещё нужно? Анечка просто прелесть. И красива, и умна, и стройна, хоть ты и говоришь, что есть и стройнее, имея в виду тощую худобу из Обираловки. Не в худобе красота женской фигуры. Когда критиковали Карину, он всегда ершился и дерзил. Вот и в тот раз на моё замечание о том, что Анечка замечательная девушка, заявил дерзко: – Нравится? Вот и женись на ней сам. – Не говори глупости. Хотя, впрочем, я бы с удовольствием, если бы такое возможно было. Конечно, это явилось шуткой, да и кто знал, как всё повернётся в дальнейшем? Но в тот день, когда подвозил Анечку, я внезапно вспомнил об этой его шутке. Я долго не ложился спать. Ходил возле книжных шкафов, открывая то одну, то другую книгу. Я искал ответа у поэтов. Да, моё состояние можно было выразить словами Генриха Гейне: «Не знаю, о чём я тоскую, покоя душе моей нет…». Часто мы равнодушно воспринимаем чужое горе, чужую беду, чужую печаль, когда они где-то вдалеке, когда мы слышим о них по рассказам. Но соприкосновение с горем не многих оставляет равнодушными. Жена часто говорила: «Мне Анечку жалко. Ей так тяжело. Она так переживает, наверное. Ведь два раза обманута в лучших надеждах… Но Сергей говорит, что никогда бы на ней не женился, что, если бы ему позволили, женился бы на Карине». Впрочем, так он говорил до встречи с нынешней своей женой. Я прилёг на кровать, выключил свет – даже обои со звёздным небом были её изобретением, и здесь до сих пор словно присутствовал её дух. Мне казалось, я ощущаю его. А ночью мне приснился сон. Она вошла в квартиру в белом воздушном платье. Она обошла все комнаты, что-то поправляя и подправляя в каждой. Я хотел идти следом, но не мог сдвинуться с места, я хотел протянуть к ней руки, но руки были, словно каменными. Я звал её, но не слышал своих слов. Но лёжа в спальне, я видел, как она что-то сделала на кухне, потом прибралась в гостиной. И, наконец, вошла ко мне, обворожительная, стройная, милая, хрупкая. Взгляд был ясным, радостным, счастливым. Она позвала: «Серёжа!». И в глазах было столько любви, столько мольбы, а потом столько печали неизъяснимой. Ведь никто не ответил. И глаза сразу потускнели, и она сразу поникла, а ещё через мгновение исчезла совсем. Я приподнялся на кровати и долго смотрел на зашторенное окно. За окном, пробивая занавеску мерцающим светом, покачивался на ветру уличный фонарь. А может, это был и не фонарь вовсе, а луна взошла на очистившимся от туч небе. И действительно, утром брызнуло своими лучами солнце, и сменился пейзаж. Нет, он не стал прежним, осенним, но, по крайней мере, засветились заиндевевшие деревья, а от этого уже стало как-то немного веселее, стало спокойнее. Я снова обошёл квартиру и, взяв мобильный телефон, послал Анечке короткое сообщение: С добром утром, Ангел Милый! Пусть сверкнёт твоя краса В солнечных лучах игривых. И печали полоса В твоей жизни пусть растает, Как вчерашний, мокрый снег, А сердечко путь оттает Для грядущих сладких нег. Я знал номер её телефона, и отправил сообщение, радуясь, что останусь неузнанным. Мне как-то неловко было ей писать такие послания. Пусть думает, что есть кто-то, кто хочет сказать ей ласковые добрые слова. Ну не я же, в самом деле, должен быть таковым добрым молодцем. Мне вспомнился сон. И снова захотелось написать что-то такое сильное, доброе, вечное. Но ничего не писалось. Я продолжил работу над рукописью будущей книги, постоянно прерываясь, потому что думал о ней, об этой хрупкой девчушки, на плечи которой легло столько обид и печалей. Осуждал ли я сына? Наверное, такого права не имел. Сам-то каков был?! И вспомнилась мне первая моя любовь, любовь ещё курсантская. Как я легко забыл её, когда встретилась светловолосая голубоглазая красавица, необыкновенно яркая и впечатляющая. А потом я был тут же забыт этой красавицей. Вспомнилась другая девушка, милая, нежная, и вдруг подумалось мне, что она чем-то очень походила в то время на нынешнюю Анечку – только возраст у них разный. Татьяна – так звали её – была на год или два моложе меня, Анечка же на 21 год… А с другой стороны, что жалеть о столь давно ушедшем. Ведь неизвестно, как бы всё сложилось у нас с той самой Татьяной. Только вот подумалось мне, что принося кому-то боль, мы вполне можем ожидать, что такая же боль постигнет и нас самих. Просто в юности мы не думали об этом. Я помню, как мы встречались с Танечкой, какие добрые и тёплые были у нас отношения. А потом я вдруг встретил ту свою красавицу писанную, растаял и перестал встречаться с Танечкой. И вот однажды она мне позвонила и задала вопрос таким тихим голосом, так проникновенно, так пронзительно: – Скажи честно, ты любишь меня или нет? Я опешил и пытался подобрать слова. Не подобрал и ответил: – Нет… Тут же хотел что-то и как-то пояснить, но она сказала: – Извини, – и повесила трубку. Даже тогда, будучи ещё молодым лейтенантом, я смог понять, что сделал что-то не так, что поступил как-то неправильно. Ну а с красавицей той, ради которой я расстался с Танечкой, у меня ничего не вышло. До сих пор помню, как мы возвращались на электричке с дачи, и Татьяна заснула у меня на плече, а когда мы на вокзале стали выходить, я увидел у неё на щеке две отпечатавшихся моих звёздочки. Теперь, когда вспоминаю, даже сердце замирает… Не знаю почему. Сосед мой прервал рассказ и посмотрел в окно. Поезд отстоял положенное время в Бологое, и снова сначала плавно, затем резко стал набирать скорость, вдавливая нас в кресла. – Вы любили жену? Ведь всё-таки женились же почему-то? – спросил я у своего собеседника, поскольку молчание затянулось. – Теперь это уже не важно. Не знаю. Казалось, что любил. Право, не знаю теперь ничего. А вы? – вдруг спросил он у меня неожиданно. – Вы знаете, – ответил я ему, – почему столь внимательно и с замиранием сердца слушаю вас? – Почему же? – У нас очень похожи ситуации. Я тоже расстался с женой и тоже встретил другую женщину и страстно полюбил её. Я тоже сделал предложение и пока ещё не получил твёрдого ответа. Я старше вас, да и любимая моя старше вашей Анечки. Есть проблемы… Когда вы сказали мне, что у вас всё решится сегодня на вокзале в Москве, признаюсь, загадал: если у вас будет всё в порядке, значит и меня ждёт ответ, который сделает меня счастливым. Впрочем, я с нетерпением жду продолжения. Мой собеседник некоторое время сидел без движения. Потом сказал. – И так, я послал первое сообщение по мобильнику. Ответ был полным удивления и вопросов. Анечку, конечно, заинтересовало, кто автор тех строк. Я ответил, что не могу открыться, и тут же послал ещё одно стихотворение: Я не хочу признаваться в любви, Пусть о ней скажут глаза мои, Пусть о ней скажут мои стихи – Огненной лавой льются они. Я обращусь за подмогой к ветрам, Жар призову своего пера, Чтобы грозу от тебя отведя, Божьего каплей согрели дождя. Если бы ветром волнующим стал, Кудри б с любовью твои заплетал, Если бы облачком летним я стал, Дождиком тёплым тебя умывал. Если бы солнечным лучиком стал, С трепетом нежным тебя согревал, Зависть ношу я к волнам морским – Дерзость какая дозволена им! Если бы стать той морскою волной! Если бы стать мне зверушкой земной! Ёжиком добрым свернуться у ног. Если бы мог! Если б только я мог! Но я не смею признаться в любви, Пусть о ней скажут стихи мои. На сей раз она ответила коротко: «Спасибо!». Я сам не знал для чего, но продолжал писать, а между тем вскоре получил ещё одно подтверждение, что Анечка действительно не только ни с кем не встречается, а просто сторонится мужчин. И вы знаете, у меня постепенно стали проявляться к ней всё более и более сильные чувства. Если всё началось с сочувствия и сострадания, то вскоре я стал всё чаще и чаще вспоминать шутку своего сына. «Женись!». Легко сказать, но как сделать? Я постоянно думал о ней, и постепенно сердце моё наполнялось любовью, хотя не видел её и не встречался с ней. Быть может, переписка по мобильной связи в какой-то степени этому способствовала, быть может, я чувствовал, что мой долг каким-то образом загладить то, что сделал сын. Нет, не то… Ради этого не женятся. А я ведь думал именно о женитьбе. Но когда родилось следующее стихотворение, я уже мог признаться себе в том, что в душе моей родились настоящие чувства, и я решился на встречу. Послал сообщение как бы от этого самого незнакомца-поэта, предложив встретиться и сходить в кино. Кинотеатр же выбрал близ Дворца бракосочетаний. Открываться мне до времени не хотелось, но план у меня был вполне конкретный и дерзкий план. Она согласилась. Я подъехал загодя, остановил машину так, чтобы хорошо просматривалось место встречи, и чтобы мне было удобно внезапно выйти и предстать пред Анечкою с великолепным букетом цветов. Я купил двадцать девять роз – столько сколько ей было лет. Признаться, очень волновался. Наверное, почти также как волнуюсь сейчас, тем более мы уже промчались мимо Вышнего Волочка, и скоро будет Тверь, а там уж рукой подать при такой-то скорости. Анечка появилась и робко огляделась. Пришла минуту в минуту, и потому у меня не было ни секунду на размышления. Я рванулся из машины, но тут же чуть замешкался, осторожно вынимая букет цветов. Она услышала звук открываемой двери, увидела меня и остановилась, с удивлением наблюдая за моими действиями. Думаю, что она не сопоставляла назначенное ей свидание с моим появлением и с моим букетом. Я пошёл к Анечке, но было такое впечатление, что она ещё не осознаёт, что причина моего здесь появления заключается именно в ней. Она хотела что-то сказать, но я опередил: – Анечка, милая, – начал я. – Стихи посвящал тебе я. А это... Здесь двадцать девять роз. Пусть они сотрут всё то печальное, грустное, всё то плохое, что случалось с тобою за твои двадцать девять лет, осветив своим ярким светом грядущее. – Спасибо… Неужели это всё мне? И столько красивых слов и цветов. Но у меня же не сегодня день рождения. – Пусть сегодня будет день рождения твоей новой, светлой жизни. – Это вы назначили встречу? – Анечка, – снова сказал я. – Очень тебя прошу, ничего не говори и, главное, меня не осуждай. Дурного не задумал, но прошу тебя пройти со мной в одно место… Это здесь, метрах в пятидесяти. Ты можешь выполнить такую просьбу? Она промолчала, а я, взяв её под руку, повёл по хорошо расчищенному асфальту в сторону того заветного заведения, которое уже посетил заранее и в котором обо всём договорился, чтобы не стоять в очереди. Она шла покорно, как под гипнозом. Когда же мы приблизились к широким стеклянным дверям, за которыми сияло море света, она прочла, что это за заведение, и, отшатнувшись, попятилась. Я осторожно, но в тоже время с твёрдостью взял её под локоть и сказал: – Это только предварительный шаг. Он тебя ни к чему не обязывает. Ещё будет время подумать, но его нужно сделать сегодня, потому что я срочно уезжая в командировку. В командировку на Кавказ… Она продолжала стоять на месте как вкопанная. Я повторил: – Очень тебя прошу! Очень. – Так неожиданно, – сказала она, но, повинуясь, вошла в помещение через дверь, которую я распахнул перед нею. Заявление мы подали. Мне казалось, что она делает всё как бы под гипнозом, да ведь и я не до конца осознавал, на какой шаг толкаю её и иду сам. Через несколько минут всё было окончено, мы вышли на улицу и направились к моей машине. Я открыл дверцу и усадил её, затем, обойдя машину, сел за руль. – И куда теперь? – спросила она, пытливо взглянув мне прямо в глаза. – Я заказал столик в одном милом ресторанчике. Нужно всё-таки отметить. Она не возражала. Нас усадили одних, в удобном месте, и едва нашли вазу для такого количества цветов. Она молчала, не зная, видимо, что сказать, а потому заговорил я, излагая своё видение вопроса. Я сказал, что уезжаю немедленно, сегодня же ночным поездом в длительную поездку, связанную с новой книгой, посвящённой армейским будням, что вернусь за несколько дней до свадьбы, что сразу после Дворца бракосочетаний, мы будем обвенчаны в Храме – там уже тоже всё оговорено. – А теперь шампанское! И ещё раз прошу принять всё так, как ты до сих пор приняла. – Вы же за рулём?! – Через несколько минут сюда подъедет мой товарищ. Он сядет за руль, мы завезём тебя в Чертаново, а затем заберём вещи, и он доставит меня на вокзал. И вот ещё что… Держи ключи. Держи, держи – это ведь твои ключи. – Были моими… – В твоей воле, чтобы они не были, а стали снова твоими и навсегда. Если хочешь, живи там. Я же знаю, что тебе очень нравится та квартирка, где всё сделано твоими руками. Когда буду возвращаться в Москву, дам телеграмму, сообщу номер поезда, вагона… Если ты примешь решение, которое сделает меня счастливым, то встретишь меня на вокзале… Если нет… Ну что ж. В этом случае я выйду на пустой перрон. И никогда уже не появлюсь на твоём пути. Она хотела что-то сказать, но я снова попросил помолчать: – В конце концов, дай мне пожить надеждой на всё самое лучшее. Эта надежда позволит мне горы свернуть. Я приеду с рукописью такой книги, которых ещё не писал. Так что помолчим… Она кивнула и улыбнулась. А через два часа я уже был в поезде. Перед самым окончанием командировки я получил ранение, и оказался в Питере, в клинике Военно-медицинской академии. Слава Богу, всё обошлось, и я, возвращаясь в Москву, даже не опаздываю ко дню бракосочетания, которое, конечно, может и не состояться. Произнеся эти слова, мой попутчик вздохнул и заключил: – Вот такая история… Развязка её наступит через несколько минут. И действительно, поезд резко сбавил ход, а за окошком показаля перрон Ленинградского вокзала. Мы направились к выходу. Попутчик мой заметно волновался, однако, держался молодцом. Вот и тамбур. Он вышел первым, и тут же замер в шаге от выхода. Я проследил за его взглядом. На перроне, чуть в стороне от людского потока стояла стройная молодая женщина в тёмном пальто и кокетливой шапочке. Мой попутчик пошёл к ней, и она сделала несколько шагов к нему навстречу. Они остановились в полушаге друг от друга и долго стояли так, глядя глаза в глаза. Я посчитал неловкими дальнейшие наблюдения и радостный зашагал прочь, думая только об одном: «Значит и у меня тоже будет всё нормально». *-*-* Центральный военный дом отдыха «Подмосковье». Осень 2008 года. Издан в сборнике «О тебе сказал мне Бог мой Русский» в 2008 году и сборнике «Вторая Подсказка Создателя» в 2011 году.
Еще чуть чуть о "ридной" Неньке

Что же можно ждать от страны во главе которой стоят люди с детства имевшие диагноз «олигофрения». А министры, занимающие ключевые посты, ничего не смыслят в той отрасли за которую отвечают. Яркий пример тому заявление министра обороны Украины ( не знаю какой он по счету), которое привело в испуг и смятение Старый Свет. Министр заявлял ни много ни мало об ядерном взрыве в Донецке, который якобы устроили ополченцы. Этот спец по армии не знал отличие простого взрыва и ядерного, не говоря уже о последствиях, которые наступают при применении данного оружия.
Сегодня президент Украины уже совершил переворот в мировой практике управления государством. Он пригласил на роль ведущих министров иностранцев. Такого не было ни в одной стране третьего мира, где правят только граждане тех стран под протекторатом которых они находятся.

Все эти вещи стали возможны тогда, когда Украина полностью перешла под протекторат США и поэтому становится понятно - почему Порошенко не останавливает войну. Правда, об этом обе страны предпочитают молчать. Одна не хочет показать миру свои захватнические интересы и тот факт, что фактически она совершила государственный переворот в раздираемой экономическими и политическими противоречиями Украине. Оранжевая революция, произошедшая ранее не принесла тех дивидендов на которые рассчитывали США.
США – это далекая заморская страна имеет непреодолимое желание подмять под себя Европу, а слабая во всех отношениях Украина стала местом исполнения данного желания. Чтобы сделать это государство ручным, находящиеся в самом сердце Европы пришлось потратить миллиарды долларов на оранжевые революции и майданы.
Народ на западе и в центре Украины прошел в течение 20 последних лет жесткий курс оболванивания. Сейчас он верит в то, что янки и Евросоюз –это их спасительный круг. Евросоюз поможет интегрироваться украинцам в цивилизованном мире, а янки спасут экономику и создадут мощный оборонительный щит от России. Но пока Евросоюз не торопиться принять в свои объятия этот нищий народ, которым руководит нерадивое правительство, которое потратило выделенные Европой деньги на закупку газа неизвестно куда, оставив замерзать население зимой и поставило на край пропасти всю и так на ладан дышащую экономику. А оборона Украины сегодня –это выкопанный на границе с Россией ров шириной в 4 метра и регулярно привозимые для армии солдатские сухие пайки, которые в США уже сняли с солдатского довольствия из-за низкого качества продуктов.
Несмотря на то, что результат государственного переворота на Украине, вроде бы достиг успеха, но половина территорий, когда-то единого государства не приняла новое правительство, и новый курс страны. Ну а глядя на Порошенко и алкоголь, которым он отравлен - аселение взбунтовалось. Кое-где удалось силой подавить восстания, но юго-восток страны создал свою русскоязычную свободную республику. Ее уже полгода никак не могут ни поработить. Украинская армия не в силах справиться с восставшим народом, который презрительно назвали «колорадами», а в международных СМИ они получили название сепаратистов и террористов.
Жители Луганской и Донецкой областей, близкие по духу к россиянам, отстаивают свою право на самоопределение с оружием в руках. И их поддерживают сотни патриотов из России, которым не безразлична судьба своих русскоязычных собратьев. Это обстоятельство создает большие трудности для украинской хунты и их «небесным покровителям» , т.е. янкам.Истратив миллиарды долларов и не добившись нужных результатов, США решило, что пора привлечь к решению идеологических проблем СБУ Украины, чтобы оно отрабатывало полученные гонорары. Поэтому для идеологической обработки жителей России службой СБУ создан специальный отдел, состоящий из знающих русский язык сотрудников. И вот эти сотрудники под видом украинских наивных девушек в соцсетях ведут оживленную переписку с российской молодежью, пытаясь доказать им , что это Россия напала на Украину и она главный виновник украинских бед.
Толком не зная исторических фактов «блондинки» из СБУ доказывают, что Степан Бандера- это борец за независимость украинского народа, а не его палач. Хотя уже более 70 лет в народе живут рассказы о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны( ее на Украине предпочитают называть только второй мировой войной).
Да что могут полуграмотные сотрудники СБУ доказать российской молодежи, которая знает свою историю. Поэтому эмоциональные рассказы о голодоморе, устроенным москалями не попадают в благодатную почву и вызывают неприязнь у молодых россиян. Аккаунты блондинок блокируют админы, которым уже надоело получать гневные письма от участников групп, да их самих уже начинает трясти от такой беспардонной лжи.

Десятки аккаунтов сбушников, перекрашенных в «блондинок», как грибы после дождя каждый день вырастают на просторах рунета. В комментах и в переписке «блондинки» не могут одержать вверх. Поэтому они бросают пока еще не заблокированные аккаунты и регистрируются под новыми звучными именами. Снежаны и Инессы рвутся в бой. Но побед одержать им не удается. Или звезды светят не так или ума и знаний не хватает.
А новые хозяева страны недовольны нерадивыми сотрудниками. Министры, армия не справляются со своими обязанностями. Даже СБУ при своем усердии не может эффективно провести ни одну операцию- где-нибудь да напортачат. Но для работы министрами пригласили иностранцев, может быть и для идеологической работы в СБУ нужно пригласить варягов? Но то, что строиться на обмане, рискует быть разоблаченным. Или здесь также как в вопросе с лотереями, которые решила ввести Украина для поддержки гривны. Чем больше лотерей, тем больше в бюджет будет поступать денег от их продаж, а будут ли обещанные призы-это уже не входит в круг задач организаторов лотереи.
seo@прима 23.12.2014
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ "УКРОПАТРИОТОВ"
Хоть украинская тема уже потихоньку отживает на нашем ресурсе , но этот текст я не мог не опубликовать. Даже вопреки нашим правилам - не плодить на сайте перепечатки. Более талантливого и справедливого описания укропа или укр . патриота, мне встречать не приходилось.

Автором текста обозвалась некая Бэлла Розенфельд , но попытка просмотреть ее профиль, на фейсбуке , откуда собственно и взят этот текст , успехом не увенчалась.
В годовщину Майдана, основные здобуткы которого суммарно характеризуются простым лозунгом «Воруй, убивай, еби гусей!», я, превозмогая спазмы, читала паблики свидомых. «ПутинПутинПутин_зато_Януковича_свергли_ПутинПутинПутин_холодно_блядь_ПутинПутинПутин_дорого_ блядь_ПутинПутинПутин
- в общем, ничего нового.
Но чем больше я читала, тем четче вырисовывалась у меня некая типология, характерная для сторонников Майдана.
Лидируют все те же СТРАШНЫЕ ТЕТКИ за 50 в вышыванках и веночках, символизирующих, между прочим, невинность. И ничего, что эти тетки были разъебаны до размеров ведра еще во времена своей комсомольской молодости в саунах с парторгами. Веночек и неебет.

Рядом с истеричными «терминовымы перепистамы» сообщений о том, что бойцам АТО срочно требуются ушные палочки, TENGA 3D и вазелин, у этих дам соседствуют рецепты с фотками страшной еды на основе плавленого сыра, майонеза и отварной моркови, рекомендации как вылечить опрелости ног с помощью медного купороса и заговоров в полнолуние, а также кокетливые дагерротипы, вполне способные стать украшением известного сообщества «Школа уродов».
ДИЯСПОРА, блядь. Высший уровень эволюции хохла – «хохол съебавший».
Таких два типа.
Первый тип – всякие канадийци и омерыканци. То есть те, кто воплотил извечную мечту евроинтеграторов – иметь возможность свалить из нэньки и слать фотографии, будоражащие основу нашей национальной ментальности – зависть - на фоне бассейна, гаража или барбекЬю рядом с сыновьями Джоном и Майклом с признаками легкого вырождения на лице.
Цитируют Донцова, Шухевича, Бандеру, о ситуации в современной Украине и России имеют такое же представление, как я об особенностях размножения у головоногих моллюсков, что, однако, не мешает им проводить глубокую аналитику и давать ценные советы на таком языке, от которого носители украинского литературного покрываются нейродермитом.
Второй тип: те, кто зацепился в Европе в течение последних десяти лет. Тоже любят выкладывать фоточки на фоне неграмотно подписанных достопримечательностей и господских интерьеров в перерывах между выносом судна и выгулом пса.
Являясь экспертами разве что в области больничных уток, клизм и симптомов старческой деменции или в особенностях сбора сезонных фруктов и ягод, тем не менее, рьяно и с апломбом рассказывают, как нам надо жить на Украине. Куда, кстати, возвращаться они не собираются, ибо предел мечтаний – выйти замуж за Марио или Хуана и все так же ухаживать за маразматичными стариками, но уже на правах законной евро-невестки.
ЗАПАДЕНЦИ
Это пласт свидомых радует двойными именами типа Тарас-Орест или Назар-Мырон, фамилиями Каськив-Мыськив, Мыкытышын-Положышын, Поросюк-Сволотюк, пышными усами в стиле «сльозы Украины» и таким выражением лица, будто древко украинского флага, пройдя через естественные отверстия, сделало выправку строже, осанку – ровнее, а взгляд – проникновеннее. От их фото веет затхлым духом лесных схронов и самогоном.
То – дидо.

Бабця в соцсетях не зарегена, но ее дух присутствует на фото, где она чуть в стороне зорко следит за тем, как у соседа сдыхает корова, и за тем, чтоб было не хуже, чем у людей.

Есть еще мама и тато, а также диточкы Марийка-Софийка-Хрыстынка и Тарасык-Назарчык-Зорянчык, обильно присутствующие на фотографиях, где вся семья, обмотанная флагами, с неестественной экзальтацией принимает участие в очередной партиотычной культурной программе, начиная с поедания сала на скорость в поддержку АТО и заканчивая изготовлением ляльок-оберегов из старых трусов и кошачьих какашек для гэроив вийны з москалямы.
Подписи под фото напрочь сворачивают мозг у неподготовленных: «Цэ мы роверах издымо по мапи Украины зи Здолбунова до Жашкова», «Я и вуйцьо Мыкола за гальбою пыва», «Я, стрыйко Петро и троюридна цьоця Ганя за филижанкою кавы».
В каждой такой семье патриотов есть кум, который сейчас на заработках в России (о нем стараются не вспоминать) и кума, которая моет жопы в Италии или сосет в Турции (Турция - цэ ж вжэ Европа, нє?) – вот о ней упоминают часто с плохо скрытой завистью (см. пункт «Дияспора, блядь»).
ТУПЫЕ МАЛОЛЕТНИЕ ПИСЮХИ, подтверждающие аксиому, что дебилы – главный ресурс капитализма.
Дакфейсы в вышиванках, откляченные жопки на фоне баррикад майдана, эротические фотосессии с флагом. А чо такова-то? Майдан – это модно, АТО – это прикольно, тусить с пацанами в балаклавах и выкрикивать патриотичные лозунги – это стильно и современно.
Луки в патриотичных декорациях соседствуют с картинками с Аткрытки, цитатами из Коко Шанель, тестами «Какое вы постельное белье?» и ссылками на статьи типа «Как стать чувственной стервой и выйти замуж за олигарха», «Секреты удачного фистинга» и «Сто рецептов красоты от Вупи Голдберг», а также предложений от сообщества «Отдам даром».
Классические ТП, только с национальным колоритом – вместо клетчатого пледа – украинский флаг, вместо жасминового чая – коктейль Молотова, вместо Коэльо – цензор.нет.
Хотят в ЕС и кружевные трусики, но на самом деле нуждаются в хорошей порке.
Тип «тупые малолетние писюхи», кстати, не имеет возрастных ограничений, хотя так может показаться с первого взгляда.
ГРАНТОСОСЫ, поцелованные в лысеющее темечко Збигневом Бзежинским.
Типичный вид профайла: «Живет в___ Киев. Из___Коломыя, Здолбунив, Жашкив, Стрый» – нужное подчеркнуть. Особо, сладострастно и подробно описаны все грантососские курсы и семинары, которые имярек посетил ради утверждения в своей русофобности и приверженности западным ценностям и в надежде на халявную печеньку и бесплатную воду из кулера. А может, если повезет, то еще и какую-то копеечку.
Соучредители, основатели, активные участники всевозможных Фондов, Содружеств, Сообществ, Фундаций и проч., за которыми отчетливо торчат уши госдепа; часто – выпускники Могилянки.
Если отфильтровать фотки унылых корпоративов, коих сотни, и найти портрет самого носителя европейской ментальности в интерьере и костюме от второго павильона Троещинского рынка, то в глаза бросается в первую очередь фигура, где бедра шире плеч, щеки свисают ниже подбородка, а плохое пищеварение и ранний геморрой вопиют из всех расширенных пор нездоровой кожи. Оттуда же вопиет и факт неоднократного посещения тренингов лидерства и личностного роста.
Потому что они, сука, успешные, и, сука, предприимчивые, и, сука, такие европейские, умные и продвинутые, что даже через монитор в нос шибает удушливый запах туалетной воды от Хуго Босса за 100 грн. флакон.
Однако тихая грусть онанистов четко читается в их глазах, как и зреющая решимость смены ориентации на европейскую в надежде хоть на какую-то взаимность. Но, увы, они асексуальны как туалетный ершик, и Зигмунд Фройд отдал бы правую руку за возможность исследовать их сублимации и половые девиации.
Самое удивительное, что и женатые патриоты-грантососы выглядят абсолютно так же, как описано выше. Загадка.
УЙ, КАКИЕ ГРОЗНЫЕ
Обосраться и не жить – вот что приходит на ум, когда я с содроганием смотрю на их профайлы, где на фоне национального флага скалит зубы какой-то смелый волк или когтистый орел или вот еще, например, киборг с трызубом.
Но если усилием воли заставить себя унять дрожь и порыться в альбомах, то 100% самый задроченный худосочный ботан, крайний слева на групповой фотке работников краеведческого музея села Жолтые Ссаки или слета тренеров по шашкам районных ПТУ, окажется как раз тем грозным воином, обещавшим лично убить Путина и сравнять с землей Москву.

Глядя на их фото, я начинаю подозревать, что перхоть, недоразвитость грудных и икроножных мышц и плохие зубы – вот три фактора, которые делают украинских «патриотов» особенно смелыми, злобными, коварными и изощренными в придумывании способов убийства москалей, а фраза «Путин ла-ла-ла-ла» обладает способностью унимать зуд, вызванный глистной инвазией. Иначе с чего бы они так часто это кричали?
БОТЫ с пустыми профилями и свидомыми жовто-блакытными рожицами на аватарах, восстающие из забвения только ради того, чтобы написать в статусах публичных персон «Слава Украине!» и опять кануть в небытие до очередного сообщения о том, что «потерь нет».
Возможно межвидовое скрещивание, порождающее мутантов, обладающих худшими качествами, взятыми от каждого из типажей.
На самом деле все эти псевдо-патриоты составляют малую и далеко не самую лучшую часть народа Украины. Нормальных больше. И когда я думаю об этом, то мне становится спокойнее на душе. Как будто сам Путин взял меня на ручки...
День рождения Сталина – Красный день календаря.

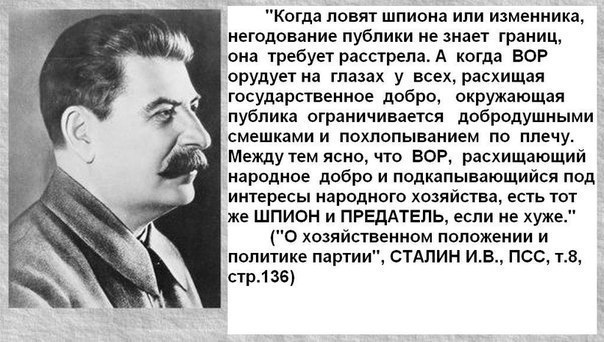
№ 1
Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне –
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.
Сказали ему: “Проклятый,
Пей, осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!”
перевод с грузинского.
№ 2
№ 3
Страшно, аж жуть...
Делягин весьма умело нагнетает атмосферу ядерного сценария на бывшей Украине.
Правда, я помню что по остаткам изотопов после применения ядерного боеприпаса можно безошибочно определить где заряд был изготовлен из каких материалов и так далее.
Хотя, мы продавали наш уран пиндосам, так что похоже может и по делягинскому сценарию пойти....
...В ПОИСКАХ НУЛЕВОЙ ПРИБЫЛИ ОТ ВЕНЕРЫ...
Я отчаялся взывать к администрации о том, что в нужном месте картиночка отказывается крепиться
Поэтому пойду простым путем, который еще работает,
... ибо согласитесь
Венера Милосская хороша !!!
Позитив.
Упыри из "алтайской бронетанковой милиции" захватили в плен...пидора!
Знающие люди говорят что дело происходит в Уфе. "Пленный" известный в городе персонаж.
Работает жестянщиком. При встрече реакция у нормальных людей такая же как у "упырей - гаишников".