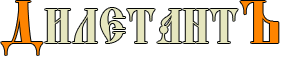Достояние народа
«Десантник – это человек, всегда готовый на самопожертвование!»
Золотой скальпель. Глава седьмая
Документальная повесть «Золотой скальпель»
Как-то вечером Николай Ляшко сказал Михаилу Гулякину:
– Знаешь, по всему чувствуется: скоро на фронт.
– В том-то и дело, – оживился Михаил, радуясь, что можно поделиться волновавшими его мыслями. – Вот, думаю теперь, как быть? Может, оформить через местные власти квартиру для мамы с братьями и сестрой? Вдруг они всё же приедут, а жить негде. Да и меня здесь не будет. Кто поможет?
– Попроси, конечно, попроси. Может, что-то и выделят, – сказал Николай и тут же предложил: – Хочешь я с тобой поживу там, чтобы скучно не было? Признаться, надоело в гостинице. Тебя по ночам дёргают к больным. Спать не дают. Да и я волнуюсь…
На следующий день вместе сходили в квартирное бюро. Михаилу предложили занять две комнаты в свободном и просторном доме бывшего директора школы. Дом находился рядом с расположением части.
Расплатившись с гостиницей и не указав своего нового адреса, Гулякин вместе с приятелем отправился на новую квартиру.
– Ты даже с Зоей не попрощался, – напомнил Николай.
– Зачем? Станет адрес просить, захочет встретиться. А надо ли это?
Перед тем как лечь спать, Гулякин написал домой ещё одно письмо, в котором указал свой новый адрес. Поторопил, намекая на то, что, возможно, уже скоро переедет из города в другое место. Долго думал, прежде чем написать эти строки. С одной стороны, не стоило беспокоить мать сообщением об отправке на фронт, но с другой – хотелось поторопить, хотелось повидаться перед отъездом. Да, впрочем, разве ей не понятно, что у каждого сейчас путь один – на фронт.
Запечатал письмо, прилёг, но заснуть не мог. Почему-то вдруг подумал о Зое.
«А правильно ли поступил, что тайком сбежал из гостиницы? Решит ведь, что всё потому, что она мне не нравится. Ну и пусть. Пусть так решит. Все ни к чему. Впереди фронт…»
…Прошло несколько дней. Гулякин каждый вечер просил Николая Ляшко заглянуть в гостиницу, чтобы узнать, нет ли вестей от мамы. Вестей не было.
В тот день Михаил возвращался со службы, когда было уже около полуночи. И вдруг заметил свет в окне своей комнаты. Побежал, подумав о том, что приехал кто-то из родных.
В прихожей его встретил Николай и тихо сказал:
– Тебя ждут…
Он рванул дверь и увидел сидящую за столом с книгой в руках Зою. Бросился в глаза какой-то особый порядок в комнате, который мог быть только благодаря прикосновению женских рук.
– Скрылся, – с укоризной сказала Зоя. – А я вот нашла! – она покраснела и замолчала.
– Давно ждёшь? – спросил Михаил, не зная, что ещё сказать.
– Да уж часа два – не меньше.
– Я сегодня задержался, да и не знал…
– Если бы знал, наверное, и совсем бы не пришёл? – спросила она, пытливо всматриваясь в его лицо.
– Ну почему же? Зря ты так думаешь.
– Потому что вижу – избегаешь меня.
Михаил не успел ответить, потому что вошёл Николай и спросил:
– Ну что, молодежь, чаю согреть?
– С удовольствием, – согласилась Зоя и спросила. – Остаться у вас можно, а то вон как поздно, да и погодка – метель метёт.
– Конечно, конечно, – сказал Николай, не обращая внимания на знаки, которые ему потихоньку делал Михаил. – Можешь занимать диван в смежной комнате.
За чаем говорил в основном Николай, стараясь развеселить насупленного Михаила и задумчивую Зою. Но, увидев, что это не удаётся, заявил:
– А теперь отдыхайте. Завтра трудный день.
– Располагайся, – сказал Михаил Зое и ушёл в свою комнату, прикрыв за собой дверь.
Утром, когда Михаил и Николай ушли на службу, Зоя осталась одна в квартире.
Николай был старше Михаила. Он ни о чём не спрашивал, а по пути даже сказал:
– Зоя хорошая девушка. Как для каждого из нас закончится война, мы не знаем. Живём надеждами. И она надеждой живёт.
В обеденный перерыв Михаил, забежав домой, увидел на столе записку:
«Если мои искренние чувства тебе безразличны или кажутся оскорбительными, скажи об этом прямо. Первой на встречу больше не приду».
Что делать? Снова и снова Михаил думал о том, что ждёт его уже в недалёком будущем. Вспомнилось, что говорил о десантниках преподаватель по авиационной подготовке: «Десантник – это человек, всегда готовый на самопожертвование!»
«Зачем связывать свою судьбу с милой Зоей, обрекать её на ожидание, на волнения? Её увлечение пройдёт, ведь время – лучший лекарь. А когда и где может быть следующая встреча? Этого никто не может сказать».
И всё-таки домой в тот вечер Гулякин вернулся пораньше. Вскоре пришёл и Николай. Сразу спросил:
– А где же Зоя?
Михаил молча протянул записку. Николай прочёл, подумал немного и решительно заявил:
– Ты должен ей что-то ответить. Так же нельзя. Она же просит.
– Постараюсь, хотя, если честно, не знаю, что отвечать.
На следующий день, встретив в городе подругу Зои, Гулякин попросил передать, чтобы Зоя вечером обязательно пришла к нему домой. Ждал с волнением, совсем не представляя, что скажет ей, но понимая, что сказать что-то надо.
Зоя робко вошла в комнату, присела к столу, положила перед собой томики Пушкина и Тютчева. Долгим, внимательным взглядом посмотрела на Михаила. Он почувствовал стеснение.
– Хочешь, почитаю стихи? – предложила она.
– Конечно, – с радостью согласился Михаил.
24 ноября 1941 года личному составу батальона был объявлен приказ о выступлении на Западный фронт.
– Выходим в восемь ноль-ноль, – говорил старший лейтенант Жихарев, – Совершаем марш в пешем порядке до города Энгельса. Там грузимся в эшелоны. Доложить о готовности к маршу сегодня в двадцать два ноль-ноль.
Гулякин поспешил в медпункт. К тому времени в работе медицинской службы батальона установилась строгая и чёткая система. В ротах помимо штатного санинструктора были теперь нештатные активисты-санитары. Гулякин обеспечивал их необходимыми медикаментами, учил действовать автономно, не дожидаясь подсказки фельдшера или санинструктора.
Вечером он собрал небольшое совещание, поставил задачи по обеспечению марша.
Своим подчинённым сказал:
– Понимаю, что вам самим будет трудно, очень трудно. Предстоит пройти около семидесяти километров. Но помните, на глаза у бойцов мы, медики, должны выглядеть молодцевато. Ведь на нас лежит ответственность за здоровье каждого, кто идёт в строю. И если кому-то плохо, вся надежда на нас, и взоры десантников тоже будут на нас обращены. Сами убеждали их, что мы их защитники в трудную минуту – при ранениях, травмах, да и просто болезнях.
Точно в назначенный час Гулякин доложил о готовности к маршу и отправился домой, чтобы хоть немного отдохнуть перед дальней дорогой.
– С Зоей-то попрощался? – спросил Николай.
– Когда же? Минуты свободной нет.
– Так сходи, ещё есть время. Нехорошо так.
– Нам же не рекомендовали сообщать местным жителям о выступлении на фронт, – напомнил Михаил.
– Можно подумать, что никто и ничего не поймёт. Целый корпус в одночасье снимается и куда-то марширует. Да и зачем говорить, что на фронт отправляют. Скажи, учения будут. Многие так и говорят. Ну а уж что подумают – то подумают.
Гулякин помолчал, видимо, размышляя, потом решительно сказал:
– Нет, я лучше напишу ей.
Он сел за стол и написал ласковое, нежное письмо. Пожелал стойкости в это суровое время. И, конечно, счастья.
Ещё было темно, когда бригада вышла на улицы. Но, словно по мановению волшебной палочки, поднялся весь город. Жители выстроились вдоль тротуаров, образовав длинный коридор, сквозь который проходили колонны десантников.
Женщины плакали, что-то кричали вслед, пожилые мужчины желали быстрой победы, просили бить германца, как били они в годы первой мировой войны.
И вдруг Гулякин услышал знакомый голос, пробившийся сквозь нестройный хор множества голосов. Кричала Зоя. Она стояла на тротуаре, махала рукой. И послышалось Михаилу самое желанное и дорогое:
– Буду ждать!
В Энгельс прибыли в час ночи. Не все одинаково перенесли марш. Михаил был удивлён тем, что крепкому и выносливому с вижу Василию Мялковскому пришлось оказывать помощь. Василий совсем выбился из сил, и ему помогали идти Виктор Тараканов и Дуров.
В целом же марш прошёл успешно. Заболевших не было, не было и таких, кто не дошёл до конечного пункта.
Эшелон стоял на станции, паровоз – под парами. Хозяйственники спешно получали продукты на пусть следования. Михаилу Гулякину пришлось сразу же заняться проверкой их качества. К нему обращались командиры подразделений. Их беспокоило то, что многим красноармейцы, отказавшись от горячей пищи, повалились на пол в зале ожидания и заснули.
– Не беспокойтесь, они просто устали. Через часок-другой поедят с аппетитом, – успокаивал Гулякин.
Ему и самому не очень хотелось есть. Мысли о неотложных делах не оставляли времени подумать о еде.
В три часа ночи началась погрузка. И снова дел хоть отбавляй. Путь предстоял неблизкий, и Гулякин обошёл все вагоны, посмотрел, как разместились красноармейцы и командиры, как соблюдаются санитарно-гигиенические нормы.
Наконец, ранним утром паровоз дал длинный гудок, и эшелон медленно тронулся, постепенно набирая скорость. Застучали на стыках рельс и выходных стрелках множество колёсных пар.
Остановки в пути были крайне редкими и очень короткими.
– Спешим к Москве, – сказал Жихарев. – Настал наш черёд сразиться с врагом.
Продолжение следует
Как Тургенев Лушеньку от Медведихи спас
Когда мой отец, Николай Фёдорович Шахмагонов, работал над книгой "Любовные драмы Русских писателей", я помогала в подборе материалов и обратила внимание на некоторые интересные факты, которых он коснулся в очерках лишь вскользь.
А потому решила сделать несколько основанных на документах рассказов, новелл и просто зарисовок о фактах, малоизвестных, но касающихся известных писателей и поэтов - Тургенева, Льва Толстого, Александра Блока, Чехова, И начать с описания мужественного поступка Ивана Сергеевича Тургенева, который не побоялся заступиться за свою подругу детства - крепостную девушку.
Александра Шахмагонова
***
Юный Тургенев мчался домой на тройке по зимней заснеженной дороге. Каникулы! Они всегда радостны. Особенно, когда их проводишь в родных краях. А родными этими краями для Ивана Сергеевича Тургенева было Спасское-Лутовиново, впоследствии прославленное им в его замечательных произведениях.
Но тогда оно ещё не было широко известно, но было очень дорого ему. Каждый поворот дороги, каждая рощица, каждый перелесок на пути был знаком. А впереди была радостная встреча с матерью, с дворовыми, на глазах которых он вырос. И особенно встреча с Лушенькой, милой девчушкой, хоть и крепостной, но разделявшей его детские забавы.
Возница покрикивал на лошадей, и они летели по сияющему на солнце безбрежью, вздымая снежную пыль. Вот и усадьба, средь заснеженных деревьев, запорошённых клумб.
Тургенев, не дожидаясь, когда лошади встанут окончательно, почти на ходу спрыгнул прямо в снег и пошёл по целине к парадному входу, из которого уже высыпали дворовые, полюбившие своего молодого барина с самых его детских лет. Контрастировал его добрый характер с суровым характером матери, жёсткой, волевой, своенравной помещицы Варвары Петровны Тургеневой
Шумны приветствия, даже объятия со стороны некоторых дворовых сразу прекратились, едва из дверей показалась Варвара Петровна. Все почтительно расступились, отвешивая нижайшие поклоны и пятясь в разные стороны, освобождая ей дорогу к сыну.
Мать, широко расставив руки, шагнула к нему, обняла его и тут же, отступив на полшага, спросила суровым голосом:
– Почему ты не отвечал мне на письма?
– Я вам писал мама, – слегка склонив голову, – ответил Иван Тургенев.
– Негоже так с матерью поступать, – не слушая, а скорее не слыша ответа, продолжала Варвара Петровна. – Ну да ладно… Приехал и то слава Богу. И как снег на голову. Проходи в дом, как раз к обеду поспел.
– Только в порядок себя приведу и… Я мигом.
Он поднялся в свою комнату, быстро переоделся и, уже спускаясь по лестнице, подумал о том, что не так что-то, совсем не так было при встрече.
«Почему не выбежала Лушенька? Где она?»
Она ведь первой бросалась к нему на шею, конечно, если барыни не было рядом.
«Ну да ладно, появится. Небось, мать работой загрузили. Могла и не услышать, что я подъехал».
Стол был уже сервирован. Во главе его, как всегда, конечно, Варвара Петровна. По сторонам – те из домочадцев, что были в доме на правах гостей.
Тургенев поклонился всем сразу и сел на своё место, по правую руку от матери.
– Ну, подкрепимся, чем Бог послал, – сказала она.
Прежде сотворили молитву, снова сели, загремели столовыми приборами.
– Матушка, – вдруг нарушил молчание Тургенев. – Что-то я Лушеньки не заметил средь встречавших. Где она?
– А-а-а! – с досадой протянула мать и даже вилку бросила в свою тарелку. – Потом, всё потом. Обедай, покуда…
Тургенев насторожился, предчувствуя неладное. Но промолчал. Обедал молча, да и не особо разговорчивыми были домочадцы под суровыми взглядами Варвары Петровны.
А Тургенев невольно вспоминал своё детство. Вспоминал Лушеньку, с которой носились они по просторам Лутовиновским, собирали букеты полевых цветов. Иногда сиживали в садовой беседке, вдыхая аромат жасмина. А Лушенька плела веночки из собранных в поле цветов. Иногда в той же самой беседке он учил ее грамоте, учил писать и читать. Ученицей она была примерной, внимательной, да и схватывала всё на ходу.
После занятий пили чай с мёдом и вкусными пирожками, которые приносили им прямо с кухни, где только что достали из русской печки.
Бывало и вечерами удавалось прогуляться по саду, и Тургенев рассказывал ей много интересного из прочитанных им книг.
Какие чувства он испытывал к ней? Только ли как к подруге детства, как к той, что разделяла ещё безвинные его забавы? Как она относилась к нему?
Лёгкое, нечаянное прикосновение к ней вызывало трепет и биение сердца. А что ощущала она? Он этого не знал, но чувствовал расположение девочки, затем девушки к нему, искреннее расположение, наполненное трепетом.
Между ними не произошло никаких объяснений. Они были ещё слишком юны для того. А когда подросли немного, встречи стали редкими, ведь детство у крепостных кончается слишком рано. Для того, чтобы просто перекинуться несколькими фразами, Лушеньке надо было отпроситься у невероятного количества стоявших над нею в дворовой иерархии людей.
И всё же Иван Тургенев выкрадывал её для прогулки в саду, для чаепития в беседке – кто барину откажет?
Мать смотрела на всё это сквозь пальцы. Нужно же сыну с кем-то общаться, да и, вероятно, планы какие-то уже гнездились к голове её о методах воспитания сына.
И вот Лушенька исчезла.
После обеда мать призвала Ивана к себе для разговора.
– Так ты о Лушке спрашивал? Что й-то тебе надо? Интерес какой? – поинтересовалась она довольно грубовато, но тут жене дожидаясь ответа и сказала: – Нету её. У Медведихи она.
– У кого? У этой зверюги? Мама, как вы могли? Чем вам мешала. Вы это из-за меня? Но я ничего…
– Чего ещё? Ты то причём? Скажешь тоже. Обнаглела она, обнаглела дрянь. Бунтовала слуг.
Тургенев пришёл в ужас. Он знал, что эта Медведиха очень злая и деспотичная барыня, что она бьёт нещадно своих крепостных, жестоко наказывает их за каждую малейшую провинность. Розги, кнут – излюбленные её орудия «воспитательной работы».
– Ну, что молчишь? Что ещё? Продала я её, продала Медведихе.
Мать Тургенева была крута, и она не гнушалась суровых наказаний, но Медведиха!..
– Нет, нет, ничего больше, – поспешил сказать Тургенев.
– Ну, тогда ступай, отдохни с дороги, – махнула мать рукой и протянула ей для поцелуя.
Но Тургеневу было не до отдыха. Он отправился в людскую, чтобы расспросить, как это Лушенька бунтовала слуг?
Боялись рассказывать, а всё ж поведали ему правду. Вовсе никого не бунтовала Лушенька, вовсе никого не подговаривала против барыни. Просто заступилась за старого конюха, которого Варвара Петровна повелела высечь на конюшне за то, что лошадь оборвала постромки. А ведь сам же во время заметил и поправил и ничего не произошло. О том Лушенька и сказала барыне открыто, в лицо. Та хотела и её высечь за одно, но потом заявила:
– Не-ет, я те пожёстче наказание определю. Собирайся…
И повезла рыдающую и молящую о пощаде Лушеньку к Медведихе, приговаривая:
– Вот барыня то и научит тебя, как слуг бунтовать, вот, ужо, научит.
Видно сечь подружку детских игра сына она сочла н целесообразным. С глаз долой – и всё тут. Авось забыл уж сынок, да и не вспомнит её. Но он вспомнил.
Тургенев снова поднялся к матери.
– Позвольте мама, ещё оторву вас от дел.
– Ну, что там ещё? – недовольно спросила Варвара Петровна.
– Просьба у меня к вам, мама. Выкупите Лушеньку, очень прошу вас. У меня столько с ней связано – это ж детство моё. И ничего не думайте. Просто память детства.
– Что? Ты, сынок, совсем спятил – такое просить. Мне до того, что там у тебя с ней дела нет. Она бунтовщица…
– Извините, мама, – Тургенев покорно поклонился и вышел.
Он понял, что уговаривать мать бесполезно. Но доброе сердце Тургенева не могло смириться с такой вопиющей несправедливостью, с такой жестокостью…
План созрел на ходу. Быть может, слишком дерзкий, поскольку всё на эмоциях, всё на желании добиться справедливости.
Он решил выкрасть Лушу у Медведихи и спрятать в надёжном месте. Он продумал всё, кроме одного – прав то на Лушу у него никаких не было. Она ж была крепостной! Он даже не подумал о том, что её будут искать, что скрыться практически невозможно.
На следующий день, объявив, что отправляется на охоту, Тургенев взял ружьё, заехал сначала в соседнюю деревеньку, заплатил одинокому крестьянину за что, что пробудет у него в доме несколько дней с дамой. Тот с радостью освободил хату и отправился куда-то к родным в гости. В истинные свои планы Тургенев его, конечно, не посвятил.
Что ж, хата была более или менее, на околице деревни, да на отшибе. Можно проникнуть незаметно, да и отсидеться, пока всё утихнет.
Приготовив место для укрытия, отправился к Медведихе. Когда приехал в деревню, где была усадьба жестокой барыни, уже стемнело. Пробрался во двор, притаился, наблюдая за происходящим и обдумывая план действий.
И вдруг появилась Луша. Видно её послали в сарай за чем-то, что понадобилось в доме.
– Лушенька! – позвал он.
– Ой! – слегка вскрикнула девушка: – Иван Сергеич, неуж-то вы, дорой вы мой?!
– Иди скорее ко мне, иди…
Он обнял её, дрожавшую от волнения.
– Каково тебе здесь, Лушенька?
– Лихо, ой лихо., – сказала она, и слёзы брызнули из глаз.
– Всё, всё, милая девочка. Муки твои кончились. Я за тобой. Едем, едем немедленно.
– А мне надо взять…
– Ничего не надо, ничего. В санях – тулуп, а вещи, бог с ними… Нельзя ни минуты терять.
Замирая от страха и от счастья, Лушенька вслед за ним пробежала к тому месту, где была привязана лошадь, запряжённая в сани. Сани Тургенев попросил у крестьянина и тот впряг в них лошадь. Не везти же Луше верхом?!
И вот они в крестьянской хате, одни, совсем одни. Радостные от первой победы, уверенные, что всё обойдётся.
Оставим их одних, ведь никому неведомо, кроме них двоих, что было в крестьянской хате, у околице, от которой до заснеженного леса – рукой подать. Шумел лес, сбрасывал на ветру снежные хлопья с высоких сосен. А рядом, в домике, тишина. Даже огня не зажигали, чтобы до времени не выдать себя.
Трудно передать, что творилось в имении Медведихи и в имении Тургеневых, когда стало ясно и Варваре Петровне, что сын неспроста исчез из дому, и Медведихи, что Луша не сквозь землю же провалилась по пути в сарай, до которого всего-то шагов пятьдесят, не более.
Поначалу Варвара Петровна волновалась, не случилось ли что на охоте, хотела даже поиск организовать. Но тут примчались гонцы от Медведихи, решившей, что Луша сбежала назад, в Спасское-Лутовиново.
Вот тут-то Варвара Петровна стала догадываться, что произошло. Но как попросить Медведиху подождать, не поднимать шум. Та бушевала. Нет в Спасском-Лутовинове, значит, сбежала куда-то далеко. Был отправлен гонец к приставу. Тот и пожаловал поутру на место происшествия.
Долго ли коротко ли дознавался он, что же произошло, но ведь дознаться не так и сложно. Всегда кто-то что-то видит, всегда кто-то и что-то знает.
Вычислили беглецов, вычислили и место, где могли укрыться они. Как? Это осталось неизвестным, да только уже во второй половине дня явился пристав к тому самому домику на околице деревни.
Тургенев увидел его в окно и всё понял. Пристав, окружённый людьми Медведихи, приближался. Луша забилась за печку, сидела ни жива, ни мертва.
– Всё, я пропала, всё, теперь забьёт меня Медведиха насмерть…
Тургенев взял ружьё и решительно вышел на крыльцо.
– А… вот и виновник, – провозгласил пристав. – Ну, барин, не чуди. Давай как беглянку, да поскорее, а сам убирайся восвояси. Матушка, Варвара Петровна тебе там гостинцы приготовила.
– Стоять! – крикнул Тургенев. – Ещё шаг – и я стреляю!
Он поднял ружьё и направил его в сторону пристава с компанией. Понятно, что, дворовые Медведихи сами бы и шагу шагнуть не посмели. Они оставались крепостными, и права спорить с барином, хоть и не своим, не имели.
Но с властью не поспоришь, тем более, когда по существующим в ту пору законам, Тургенев был целиком не прав.
И всё же пристав не решился отбирать Лушу. Примчалась мать, Варвара Петровна, подъехала и Медведиха. Варвара Петровна, понимая, что конфликт вышел за все возможные рамки, что, как шепнул ей пристав, сынок-то уже каторгу себе заработал, тут же уговорила Медведиху взять за Лушу и деньги, ею уплаченные, да ещё и неустойку крупную.
Казалось, конфликт шёл к разрешению. Пристав уехал, да вот только на следующий день завели на Тургенева уголовное дело, по которому ему, как бунтарю, грозила многолетняя каторга.
Тут уж мать и связи все свои подняла и денег уплатила немерено. Удалось оставить сына на свободе, да только дело-то так и не закрыли, положив его на всякий случай под сукно.
Так и жил Иван Сергеевич под дамокловым мечом вплоть до отмены крепостного права. Когда сам по себе вопрос о побеге крепостной отпал.
Ну а что же Луша? Её Варвара Петровна, как будто бы и не стала наказывать, да ведь и не была она повинна в своём побеге, ну или повинна не полностью.
О дальнейших отношениях Тургенева и Лушеньки история умалчивает. Тут мы имеем дело со случаем, когда спасение делалось не ради себя, не ради каких-то целей. Иван Сергеевич спасал бедную девушку из жестокого рабства Медведихи, потому что иначе не могло поступить его доброе сердце настоящего Русского человека и великого Русского Писателя.
Он преподал урок матери, и хотя мы не знаем, восприняла ли она такой урок милосердия, можно сказать с уверенностью, что иные уроки, даже не доходя до существа того, для кого делаются, полезны тем, кто их преподносит. Несомненно, для Тургенева тот урок не пропал даром, и возможно именно в тот день, когда стоял он с ружьём наперевес перед толпой возглавляемой приставом, произошло превращение скромного юноши в настоящего мужчину. Мы ещё поговорим о том, какую роль сыграл Иван Сергеевич Тургенев не только в литературе, но и в Государственной службе России, о которой и ныне ещё известно очень мало, потому что о людях, принадлежащих к таковым службам, в газетах не пишут.
Николай I «Был идеальным мужем и отцом»
25 июня 1796 года Екатерина Великая в письме к одному из своих адресатов с нескрываемым восторгом сообщила:
«Дитя равняется с Царями»
«Сегодня в три часа утра мамаша (Великая Княгиня Мария Фёдоровна – Н.Ш..) родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно; длиною он – аршин без двух вершков, а руки немного меньше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого витязя. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом».
Так появился на свет будущий Государь Император Николай Павлович, сын Наследника Российского Престола Цесаревича Павла Петровича, которому осенью того же 1796 года суждено было стать Самодержцем Российским.
Великий Князь Николай начал удивлять и родителей, и Державную свою бабушку, и нянек уже с первых дней своей жизни. Рос он, как утверждают современники, не по дням, а по часам, словно покровительствовал ему сам Николай Чудотворец. В письме, направленном тому же адресату менее чем через две недели спустя после первого, Государыня писала, дивясь и радуясь:
«Витязь Николай уже три дня кушает кашку, потому что беспрестанно хочет есть. Я полагаю, что никогда осьмидневный ребёнок не пользовался таким угощением; это неслыханное дело. У нянек просто руки опускаются от удивления; если так будет продолжаться, придётся по прошествии шести недель отнять его от груди. Он смотрит на всех во все глаза, голову держит прямо и поворачивает не хуже моего».
Гавриил Романович Державин отозвался стихами на крещение Великого Князя Николая Павловича:
Блаженная Россия!
Среди твоих чудес
От высоты святыя
Ещё залог Небес
Прими и веселися,
Сугубым блеском осветися!
Се ныне Дух Господен
На отрока сошёл;
И, как заря, расцвёл
Он в пеленах лучами:
Дитя равняется с Царями.
Родителям – по крови,
По сану – исполин,
По благости, любови,
Полсвета властелин.
Он будет, будет славен,
Душой Екатерине равен!
Радости Императрицы не было предела. 6 июля 1796 года она подготовила Манифест о рождении Великого Князя Николая Павловича, который был напечатан в Петербурге при Сенате 9 июля 1796 года. В нём значилось:
Божиею Милостию
Мы, Екатерина Вторая,
Императрица и Самодержица Всероссийская,
и прочая, и прочая, и прочая,
Объявляем всем верным нашим подданным:
В 25-й день июня Наша любезная невестка Великая Княгиня разрешилась от бремени рождением Нам внука, а Их Императорским Высочествам сына, наречённого Николаем.
Таковое Императорского Дома Нашего приращение приемлем мы вящим залогом благодати Всевышнего, на Нас и Нашу Империю обильно изливаемой, и потому, возвещая о сём Нашим верным подданным, пребываем удостоверены, что все они соединят с Нами усердные к Богу молитвы о благополучном возрасте новорожденного и преуспеянии во всём, что к расширению славы Дома Нашего и пользы Отечества служить может. Повелеваем в прочем во всех делах, где приличествует, писать и именовать сего любезного Нам внука Его Императорским Высочеством Великим Князем.
Дан в Царском Селе июля 6-го в лето от Рождества Христова 1796-е, Царствований же Наших Всероссийских в тридесят пятое и Таврического в третие на десять.
На подлинном подписано собственною Её Императорского Величество рукою тако: Екатерина.
«Дитя равняется с Царями», – написал Державин, но ведь Николай являлся третьим сыном Павла Петровича, а потому шансов когда-то занять престол Русских Царей у него было весьма мало. Тем не менее, у Императора Павла Петровича были свои мысли по этому поводу. Под вечер 11 марта 1801 года, то есть за несколько часов до своей гибели от рук заговорщиков, Император Павел зашёл в детскую, чтобы пожелать доброй ночи своим любимым младшим сыновьям Николаю и Михаилу.
– Батюшка, отчего вас называют Павлом Первым? – неожиданно спросил Николай.
– Потому что не было другого Государя, который бы носил это имя до меня, – ответил Император.
– Тогда, значит, меня будут называть Николаем Первым?! – воскликнул маленький Великий Князь, который на пятом году жизни уже знал историю Династии.
– Если ты вступишь на престол! – ответил ему Павел Петрович и, простившись с сыновьями, в раздумье покинул детскую.
Существует предание, что незадолго до своей смерти Павел I, получив сведения о готовящемся заговоре, решил издать специальный Манифест, в котором объявить Наследником Российского Престола любимого сына Николая. Граф И.П. Кутайсов впоследствии вспоминал, что Государь сказал ему однажды: «Подожди ещё пять дней, и ты увидишь великие дела!», а потом, подумав, произнёс весьма загадочно что-то вроде того, что он или Престол помолодеет на двадцать лет. Чтобы провести в действие свой план, Государь срочно вызвал в Петербург преданных ему графа Алексея Андреевича Аракчеева и Фёдора Васильевич Ростопчина, но было поздно. Депешу, направленную им, тайком прочитал руководитель заговора Пален, под начало которого была и почтовая служба России. Он принял все меры к тому, чтобы Аракчеев не мог попасть в столицу.
Николай Павлович не только сравнялся с Царями. В свой звёздный час 14 декабря 1825 года он возвысился над многими, себе равными, совершив великий подвиг во имя спасения России. И недаром, предвидя это, один из самых почитаемых святых России батюшка Серафим Саровский в беседе с Императором, которого мы знаем под именем Александра Первого, когда тот примчался к нему Дивеево, снедаемый сомнениями и тревогами за свою судьбу и судьбу Отечества, повелел вручить Престол Русских Царей брату Николаю, мужественному и волевому витязю, способному сокрушить революционную гидру.
Но вернёмся в детские и отроческие годы будущего Великого Князя Николая Павловича. Императрица Екатерина II, души не чаявшая в своём новорожденном внуке, к сожалению, уже 6 ноября 1796 года, когда ему не исполнилось и полгода, оставила этот мир. На престол вступил Павел Петрович, имя которого в истории очернено незаслуженно и отвратительно. На самом деле Император Павел Первый был человеком необыкновенным и являл собой полную противоположность мифам, созданным о нём его убийцами.
Дочь его, Анна Павловна, будущая королева Нидерландская, вспоминала о его отношении к детям:
«Мой отец любил окружать себя своими младшими детьми и заставлял нас, Николая и Михаила и меня, являться к нему в комнату играть, пока его причёсывали, в единственный свободный момент, который был у него. В особенности это случалось в последнее время его жизни. Он был нежен и так добр с нами, что мы любили ходить к нему. Он говорил, что его отдалили от его старших детей, отобрав их от него с самого рождения, но что он желает окружить себя младшими».
О том же сохранились довольно подробные воспоминания барона М.А. Корфа, который указывал в них: «Великих Князей Николая и Михаила Павловичей он (Павел Петрович – Н.Ш.) обыкновенно называл мои барашки, мои овечки, и ласкал их весьма нежно, что никогда не делала их мать. Точно так же, в то время как Императрица обходилась довольно высокомерно и холодно с лицами, находящимися при младших её детях, строго заставляя соблюдать в своём присутствии придворный этикет, который вообще любила, Император совсем иначе обращался с этими лицами, значительно ослаблял в их пользу этот придворный этикет, во всех случаях и им самим строго наблюдавшийся. Таким образом, он дозволял нянюшке не только при себе садиться, держа Великого Князя на руках, но и весьма свободно с собой разговаривать; нередко нагибался сам, чтобы достать с пола какую-то игрушку или вещь, выроненную ребёнком или нянею, которой тогдашние робронды, причёски, перья и фижмы были и без того уже значительной помехой во всяком свободном движении. Императрица со своей стороны, не обращая ни малейшего внимания на эти неудобства и маленькие мучения няни или гувернанток, никогда не удостаивала их ни малейшего смягчения в чопорном этикете тогдашнего времени, а так как этот этикет простирался и на членов Императорской фамилии, то Николай и Михаил Павловичи в первые годы детства находились со своей августейшей матерью в отношениях церемонности и холодной учтивости и даже боязни; отношения же сердечные, и при этом самые тёплые, наступили для них лишь впоследствии, в годы отрочества и юности».
Николай Дмитриевич Тальберг писал: «Император Павел особенно любил этого сына (Николая – Н.Ш.)». Коцебу в воспоминаниях указывал, что когда княгиня Дашкова попала в немилость, то заступники её придумали для её помилования вложить прошение за пазуху младенца Николая. Император Павел, лаская ребёнка, заметил эту бумажку. Он разрешил княгине переехать из пошехонской избы в её прекрасное имение Троицкое.
Великий князь Николай Павлович недолго пользовался женским попечением. Вскоре по вступлении на престол Императора Павла занимала уже мысль о выборе подходящего воспитателя для своего сына. Внимание его остановилось первоначально, как свидетельствуют современники, на графе Семёне Романовиче Воронцове, занимавшем тогда место нашего посланника при лондонском дворе.
Но дни Государя Павла Петровича были уже сочтены. 1 февраля 1801 года он перебрался во вновь отстроенный по его указанию Михайловский замок и сказал в задумчивости:
– На этом месте я родился, здесь хочу и умереть.
Что-то пророческое прозвучало во фразе. Быть может, Император вспомнил свою беседу с монахом Авелем, которого пригласил к себе, узнав о том, что прорицатель точно предсказал кончину Императрицы Екатерины Великой?!
«Честный отец, – сказал ему Император, – о тебе говорят, да я и сам вижу, что на тебе явно почивает благодать Божия. Что скажешь ты о моём царствовании и судьбе моей?».
«Эх, Батюшка-Царь, – отвечал Авель, – почто себе печаль предречь меня понуждаешь?».
«Говори! Всё говори! Ничего не утаивай! Я не боюсь, и ты не бойся».
«Коротко будет царствование твоё, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. В страстную субботу погребут тебя… Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить память твою. Но Народ Русский правдивой душой своей поймёт и оценит тебя и к гробнице твоей понесёт скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец, неправдивых и жестоких. Число лет твоих подобно счёту букв на фронтоне твоего замка, в коем воистину обетование и о Царственном Дому твоём: «Дому твоему подобаетъ святыня Господи въ долготу дней».
«О сём ты прав, – с волнением произнёс Император. – Девиз сей получил я в особом Откровении, с повелением воздвигнуть Собор во имя Святого Архистратига Михаила, где ныне воздвигнут Михайловский Замок. Вождю Небесных Воинств посвятил я и замок, и церковь».
«А почто, Государь, повеление Архистратига Михаила не исполнил в точности? – спросил Авель-прорицатель. – Ни Цари, ни народы не могут менять волю Божию… Зрю в сём преждевременную гробницу твою, благоверный Государь. И резиденцией потомков твоих, как мыслишь, она не будет».
В девизе, о котором говорил преподобный, было 46 букв, и на 47 году жизни Государь Император Павел Петрович был убит слугами тёмных сил Запада, возглавляемыми залётными проходимцами Паленом и Беннигсеном.
Воцарившийся после гибели Павла Первого Император поручил воспитание младших своих братьев и сестры вдовствующей Императрице Марии Фёдоровне. Николай Шильдер писал, что «с 1802 года Николая Павловича начали занимать учением; вместе с тем старались, чтобы он реже видел своих гувернанток и нянюшку, во избежание быстрого перелома в установившемся образе жизни». С 1803 года он уже находился под надзором одних мужчин. Мыслитель Русского Зарубежья, Михаил Валерианович Зызыкин, отметил: «Детский период жизни Николая Павловича (от 1802 – 1809 г.) любопытен в том отношении, что в течение этого времени проявились задатки черт характера и наклонностей, составлявших впоследствии отличительные черты Императора Николая. Настойчивость, стремление повелевать, сердечная доброта, страсть ко всему военному, особенная любовь к строительному инженерному искусству, дух товарищества, выразившийся в позднейшее время, уже по воцарении, в непоколебимой верности союзам, несмотря на вероломство союзников, – всё это сказывалось уже в раннем детстве и, конечно, подчас в самых ничтожных мелочах. Дух товарищества развивался в Николае Павловиче под влиянием совместного воспитания с его младшим братом Михаилом Павловичем. Оба брата нежно любили друг друга. Если находившиеся при них воспитатели выказывали своё недовольство одним из них, то другой сожалел того и играл без всякого удовольствия. Если один был болен, то другой никуда не хотел идти, хотя бы даже и к Императрице Марии Фёдоровне, где им всегда бывало очень весело.
Однажды, во время своего пребывания у Императрицы, младший провинился в чём-то перед матерью, и когда они вернулись на свою половину, Великий Князь Николай рассказывал дежурному воспитателю, что у него всё время были слёзы на глазах от страха за брата, который мог рассердить Императрицу своим упрямством, но что, слава Богу, она ему простила. Удивительно, что вопреки стараниям, которые прилагались по воле Императрицы, чтобы предохранить Великого Князя от увлечения военной службой, страсть ко всему военному проявлялась и развивалась в нём, тем не менее, с неодолимой силой; она особенно сказывалась в характере его игр. …Обыкновенно весьма серьёзный, необщительный и задумчивый и очень застенчивый мальчик Николай Павлович точно перерождался во время игр… Игры Великих Князей редко бывали миролюбивыми, почти каждый день они оканчивались ссорой или дракой, несмотря на то, что Николай очень любил своих товарищей по играм, а младшего брата любил страстно. Характерной чертой его детства является постоянное стремление принимать на себя первую роль, представлять Императора, начальствовать и командовать... С шестилетнего возраста начались занятия танцами, причём оба Великих Князя чувствовали необычайное отвращение к ним; но потом сильно пристрастились к ним, так что через год танцевали балет, сочинённый Великой Княжной Анной Павловной».
Были, правда, и различия в поведении братьев. К примеру, Николай любил строить, а Михаил – разрушать. И биограф отмечал, что Николай, «заботясь о сохранении своих построек, боялся присутствия младшего».
Строительство всегда как-то сочеталось с военной стороной дела. К примеру, выстраивая из стульев дачу для няни и гувернантки, сооружая что-то из песка, Николай всегда укреплял свои сооружения стенами и пушками. Игрушки были в основном военные. Множество оловянных солдатиков, пушек, ружей, алебард, предметов военной формы одежды. Первый из проснувшихся бежал обычно будить брата, одевшись в военную форму, и сдавал рапорт. Нельзя не заметить, забегая вперёд, что Николай Павлович всегда оставался до мозга костей военным человеком. Один из современников вспоминал, что во время манёвров 1836 года, Государь был неутомим и целый день находился на коне под дождём, а вечером у бивачного огня, в беседе с молодыми людьми своей свиты или в рядах войск, окружавших его маленькую палатку. А после столь многотрудного дня, большую часть ночи проводил за государственными делами, «которых течение никак не замедлялось от этого занятия Государя со своими войсками, составлявшего, по собственному его сознанию, единственное и истинное для него наслаждение».
Автор известных книг по истории Наполеоновских войн генерал-лейтенант Александр Иванович Михайловский-Данилевский так рассказывал о детских летах Николая: «Необыкновенные знания Великого Князя по фрунтовой части нас изумили. Иногда, стоя на поле, он брал в руки ружьё и делал ружейные приёмы так хорошо, что вряд ли лучший ефрейтор мог с ним сравниться, и показывал так же барабанщикам, как им надлежало бить. При всём том Его Высочество говорил, что он в сравнении с Великим Князем Михаилом Павловичем ничего не знает; каков же должен быть сей? – спрашивали мы друг друга».
Не исключено, что если бы Павлу Петровичу удалось разгромить заговор 11 марта 1801 года, он бы объявил Наследником Престола именно Великого Князя Николая. Но, увы, его «барашки» Николай и Михаил были слишком малы, Константин Павлович оставался в неведении, и «слабый и лукавый» Наследник Престола с помощью самых омерзительных представителей великосветской черни вырвал трон из рук отца.
В печальной памяти 1801 году Великому Князю исполнилось 5 лет. Он ещё вряд ли мог понимать, какая беда нависла над Россией, лишённой слугами тёмных сил такого замечательного, справедливо названного народным и антидворянским, Государя Павла Петровича. Сколько бессмысленных войн, сопряжённых с гибелью людей, столь драгоценных, ожидало Державу в ближайшие годы. Причём, войны эти были за чуждые России и Русскому Народу интересы.
Николай был ещё слишком мал, но его уже стали учить наукам, ибо Великие Князья играли в России весьма важные роли, даже если не становились Императорами. Начались занятия с изучения Русской азбуки и французского языка, а с 8 лет прибавились занятия и немецким языком. Постепенно подключались всё новые и новые предметы, причём с особенным удовольствием Николай занимался рисованием, пристрастился и к математике, об остальных же предметах говорил: «На лекциях наших преподавателей мы или дремали, или рисовали их же карикатуры, а потом к экзаменам выучивали кое-что, в долбёжку, без плода и без пользы для будущего».
Воспитатель граф Ламздорф, приставленный к Николаю ещё Павлом Петровичем, был очень суров и не скупился даже на палочные наказания. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на большие строгости в школах, введённые Николаем Павловичем уже в бытность Императором.
Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна долго противилась военным наукам, боясь, что они разовьют в сыне грубость. Ей казалось, что грубые манеры неизбежно воцарятся в его сердце вместе с военными занятиями. Но судьба Николая не зависела ни от её желаний, ни даже от желаний царствующего Императора, которого Бог не вознаградил сыном. Судьба того, кого мы знаем под именем Александра I, была чрезвычайно сложна и трагична.
«Он будет красивейший мужчина в Европе…»
Рассуждая о личности Государя Императора Николая Первого, иные историки пользуются традиционными источниками. Ну а источники эти уже известны своею тенденциозностью. Орден русской интеллигенции повелел историкам считать Николая Первого, во-первых, «чудовищем с оловянными глазами», во-вторых, «палкиным». Так и считают. А точнее, сами то, может быть, так и не считают, но пытаются убедить в этой лжи читателей, ибо ложь эта хорошо оплачивается, ведь история, сама по себе, по словам Льва Толстова, и есть «ложь, о которой договорились историки».
Мнение же добросовестных исследователей и писателей отметается начисто, как, к примеру, мнение выдающегося православного мыслителя, профессора государственного и канонического права Михаила Валерьяновича Зызыкина (1880 – 1960). А ведь этот замечательный учёный и мыслитель в книгах, посвящённые спорным историческим фигурам, развеял многие мифы и поставив всё на свои места. Достаточно взять книги «Патриарх Никон, его государственные и канонические идеи» или «Тайны Императора Александра I», чтобы оценить уникальность и важность его исследований. Профессор Зызыкин собрал огромное количество свидетельств современников Николая Павловича и его биографов Русских Царей. Так биограф Великого Князя Николая Павловича Поль Лакруа вспоминал: «Будучи только десяти лет, Николай не только знал наизусть военную историю России, но объяснял её и истолковывал с таким ясным взглядом, который был выше лет его». В физических же упражнениях он отличался «быстротой и ловкостью движений, как и грациозною своею походкою».
А вот словесный портрет 18 летнего Николая Павловича, составленный лейб-медиком Бельгийского двора короля Леопольда Стокмаром: «Этот молодой человек чрезвычайно красивой наружности, в высшей степени привлекательный, выше Леопольда ростом, совсем не сухощав, но прям и строен, как молодая сосна. Черты лица его необыкновенно правильные: прекрасный открытый лоб, брови дугою, маленький рот, изящно обрисованный подбородок – всё в нём красиво. Характера очень живого, без малейшего принуждения или сдержанности, при замечательном изяществе манер. Он говорит по-французски много и хорошо, сопровождая слова свои грациозными жестами. В нём проглядывает большая самонадеянность при совершенном отсутствии притязательности. Говорить он умеет всегда приятно, и у него особая способность быть любезным с дамами. Когда он хочет придать своим словам особую выразительность, он несколько приподнимает кверху плечи, и взглядывает вверх с некоторой аффектацией. Кушает он очень умеренно для своих лет и ничего не пьёт, кроме воды. После обеда, когда графиня Ливен (супруга Русского посла) села за фортепьяно, он поцеловал у неё руку. Нашим английским дамам это показалось очень странно, хотя, конечно, всякая женщина желала бы себе того же.
«Что за милое создание! – воскликнула леди Кембель, строгая и чопорная гофмейстерина. – Он будет красивейший мужчина в Европе!» Он пробыл день, и на другое утро Русские от нас уехали. Мне сказывали, что когда пришло время спать, люди Великого Князя принесли ему вместо постели и положили на кровать мешок, набитый сеном; уверяют, что у него никогда не бывает другой постели».
Известна поговорка: в здоровом теле – здоровый дух. Думается, что и в красивом теле всё должно быть красиво. Не зря же Всемогущий Бог наградил незаурядной внешностью будущего Императора России, которому пришлось взойти на Престол едва ли не в самые тяжёлые времена. К этому священному служению Николая Павловича готовили с детских лет, словно бы знали, что именно ему, а не старшему брату Константину суждено сменить на Державном посту Императора, наречённого Благословенным.
Но мы коснёмся размышлений М.В. Зызыкина о личности Императора Николая Первого. Мы уже познакомились с тем, что рассказал о детстве будущего поистине великого Государя России его знаменитый биограф Н.Д. Шильдер. Исследования Зызыкина значительно дополняют и расширяют это повествование: «Он не знал раздвоения личности, он не имел друзей в виде республиканца флорентинца Пиаттоли, просидевшего 8 лет в тюрьме у Габсбургов, или польского масона Чарторыжского, – писал о Николае Павловиче профессор Зызыкин: – Николая воспитывала его мать, Мария Фёдоровна, женщина достойнейшая… Заметим, что воспитывала она будущего Государя в Державном стиле. Поэтому неудивительно, что Шторх, преподаватель Великого князя, в записке, поданной в 1810 году Императрице Марии Фёдоровне о необходимости начать Николаю Павловичу курс, обнимающий собою все политические науки, в их общей связи и взаимодействии, говорит о Великом Князе, как о лице, которое когда-то будет нами управлять».
Уже в юности Великий Князь Николай Павлович имел на многие вещи свои суждения. Вот записи, касающиеся военного дела. В частности, о поселениях Елецкого полка, относящееся к тем самым, многократно оболганным в последующем «военным поселениям». Великий Князь Николай Павлович писал: «Батальон расположен в старых, весьма худых белорусских хатах, весьма тесно, особливо оттого, что, кроме, по положению живущих в них 2 семейств, на постое у них ещё двое холостых. Хотя они помогают хозяевам в работе, но, не менее, оттого им даже весьма тесно. А сю пору скота мало; по положению хозяин имеет двух лошадей и корову: лошадей у малых по две, и то самые худые, забракованные артиллерийские, и оттого поля, коих почва песчаная, не быв удобряема довольным количеством навоза, худо производит, и всё полосами, судя по богатству хозяина».
Не случайно биографы отмечали, что колоссальную роль в воспитании Николая Павловича сыграла его мать, вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна. Когда Император в 1814 году позволил, наконец, Великому Князю Николая отправиться в действующую армию, она напутствовала обоих князей, ибо Михаил Павлович тоже отправился вместе с братом на войну. Напутствия матери отличались высоконравственными тенденциями. Профессор Зызыкин, перечисляя их, писал:
«Она советовала сыновьям продолжать быть строго религиозными, не быть легкомысленными, непоследовательными и самодовольными; полагаться в своих сомнениях и искать одобрения своего «второго отца», уважаемого и достойного генерала Ламздорфа, избегать возможности оскорбить кого-нибудь недостатком внимания, быть в разборчивыми в выборе себе приближенных; не поддаваться своей наклонности вышучивать других; быть осторожными в своих суждениях о людях, так как из всех знаний – знание людей самое трудное, и требует наибольшего изучения. Настойчиво предостерегая их от увлечения мелочами военной службы, она советует запасаться познаниями, создающими великих полководцев».
Великий Князь Николай Павлович со вниманием относился к советам матери. Он вообще впитывал в себя всё, что говорилось ему полезного. Известно, что он любил читать Поучения Владимира Мономаха, глубоко проникающие в душу. Не могут не поразить, своей глубиной и поучения Вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны. В её инструкциях сыновьям говорилось:
«Следует изучить всё, что касается сбережения солдат, которыми так часто пренебрегают, жертвуя ими ради красоты формы, ради бесполезных упражнений, личного честолюбия и невежества начальника».
Предметом особой заботы Марии Фёдоровны была нравственность Великого Князя Николая Павловича. Её сильно обеспокоили увлечения его легкомысленными женщинами, а потому она просила генерал-адъютанта Коновницына уделить этому вопросу особенное внимание, поскольку Великим Князьям придётся побывать в Париже – «столице роскоши и разврата». В частности она писала:
«Я, конечно, ни мало не сомневаюсь, что внушенные им правила нравственности, благочестия и добродетели предохранят их от действительных прегрешений, но пылкое воображение юноши в таком месте, где почти на каждом шагу предоставляются картины порока и легкомыслия, легко принимают впечатления, помрачающие природную чистоту мысли и непорочность понятий, тщательно поныне сохранённую; разврат является в столь приятном или забавном виде, что молодые люди, увлекаемые наружностью, привыкают смотреть на него с меньшим отвращением и находят его менее гнусным. Сего пагубного действия опасаюсь я наиболее, по причине невинного удовольствия, с каковым Великие Князья по неопытности своей вспоминали о первом своём пребывании в Париже, не ведая скрытого зла. Но теперь, когда они стали старше, нужно показать им в настоящем виде впечатления, от которых прошу я Вас убедительно предохранить их Вашим отеческим попечением. Обращаю также внимание на выбор спектаклей, которые они посещать будут, и которые нередко вливают неприметным и тем более опасным образом яд в юные сердца».
Впрочем, опасение Марии Фёдоровны оказались напрасными. Отправляясь в 1814 году в первую свою заграничную поездку, во Францию, Великие Князья Николай и Михаил переживали, прежде всего, то, что не могли участвовать в боевых действиях. Интересовало же их, особенно Николая Павловича, всё. Генерал-лейтенант Иван Фёдорович Паскевич вспоминал: «В Париже начались, как и в Петербурге, гвардейские разводы, и мы из гренадерского корпуса поочерёдно туда езжали. В один из сих разводов Государь, увидев меня, подозвал и совершенно неожиданно рекомендовал меня Великому Князю Николаю Павловичу.
– Познакомься, – сказал он ему, – с одним из лучших генералов моей армии, которого я ещё не успел поблагодарить за его отличную службу.
Николай Павлович после того постоянно меня звал к себе и подробно расспрашивал о последних кампаниях. Мы с разложенными картами, по целым часам, вдвоём разбирали движения и битвы 12-го, 13-го, 14-го годов. Я часто у него обедывал, и когда за службою не мог у него быть, то он мне потом говорил, что я его опечалил. Этому завидовали многие и стали говорить в шутку, что он в меня влюбился. Его нельзя было не полюбить. Главная его черта, которой он меня привлёк к себе – это прямота и откровенность. Брата Михаила Павловича он любил, но к серьёзным разговорам не допускал, да и тот их недолюбливал…
Я сказал ему, что очень бы хотел представить ему всех моих генералов и полковых командиров, которых рекомендовал наилучшим образом. Великий Князь был с ними особенно любезен и прямотою своего общения обворожил их…».
Уже там, в Париже, проявилось различие между Императором, постоянно унижавшим Русский народ и Русскую армию, и Великим Князем Николаем, воспитанным в Русском духе, на Русских традициях. Жаль только, что не волен он был в своей судьбе и даже не мог жениться в России, на Русской невесте. С петровских времён вошла в моду отвратительная «традиция» – женить Наследников Престола и Великих Князей на западно-европейских принцессах. Что касается Петра I, то он вообще женился на «ливонской прачке» Марте Самуиловне Скавронской. Великого Князя Павла Петровича, будущего Императора Павла I, оба раза женили на иноземках. Женили на иноземке и Александра Павловича.
Трудно сказать, как бы поступил сам Павел Петрович со «своими барашками». Во всяком случае, когда Павел Васильевич Чичагов, уже будучи адмиралом, попросил у Императора Павла I выехать в Англию, чтобы жениться на английской подданной. Государь отказал ему на том основании, что «и в России невест довольно». Упрямство же Чичагова привело к тому, что Император, дабы остудить пыл адмирала, велел сдать шпагу и посадил его в Петропавловскую крепость, правда, совсем ненадолго.
Впрочем, весьма часто попадали в супруги Русским Великим Князьям женщины достойные. Таковой была Мария Фёдоровна, супруга Павла Петровича. Ничего плохого нельзя сказать и о супруге самого Николая Павловича. Особыми любовью и почитанием пользуется супруга «последнего» Русского Царя Николая II Александра Фёдоровна, причисленная вместе со всею семьёй к лику святых. Я взял в кавычки слово «последнего», ибо только Всемогущий Бог может предопределить, когда и при каких обстоятельствах будет «последний Царь», а пророчества говорят нам о Грозном Царе «последних времён», которого ещё будет удостоена Русская Земля, выдержавшая невероятные испытания на своём крестном пути.
Впрочем, в пору юности Великому Князю Николаю Павловичу было не до рассуждения о последних временах. Учёба и военные мероприятия не давали ему времени задуматься даже о личной жизни.
Герой Отечественной войны 1812 года, генерал от инфантерии Пётр Петрович Коновницын успокоил Императрицу следующими строками:
«Их Императорские Высочества Великие Князья, благодаря Бога, находятся в вожделенном здравии: их поведение весьма согласуется с волею Вашей; господа кавалеры со свойственным им усердием бывают при их Высочествах неотлучны; о чём считаю долгом моим пред Вашим Величество засвидетельствовать о неусыпности и попечении их. Их Высочества каждый день изволят кушать у Государя; один раз были с ним в театре и во всех церемониальных выходах бывают при нём; в свободное время их Высочества обозревают здесь все заведения, достойные примечания. Третьего дня изволили осматривать укреплённые здесь окрестности с военными замечаниями».
«Какое это, наверное, счастье жить… семьёй?!
У профессора Зызыкина мы находим и подробнейшее описание европейского путешествия Великих Князей: «…Из Англии он (Николай Павлович – ред.) отправился в Мобеж, Брюссель, для свидания в Великой Княгиней Анной Павловной, затем в Штутгард к Великой Княгине Екатерине Павловне, где говел и приобщился Св.Тайн. Затем он был в Берлине на свидании со своей невестой Принцессой Шарлоттой. Потом он поспешил в Петербург, чтобы встретить свою невесту.
В Париже великий князь Николай Павлович познакомился с герцогом Орлеанским, который был безмерно счастлив в браке и не скрывал этого.
Великий Князь Николай сказал герцогу:
– Какое это, наверное, счастье жить так, семьёй?!
– Это единственное истинное и прочное счастье, – подтвердил тот.
По пути в Россию, в Берлине, Николая представили его будущей супруге, избранной для него Императором.
23 октября 1815 года состоялась помолвка Великого Князя с прусской принцессой Шарлоттой-Фридерикой-Луизой-Вильгельминой. Её шёл 18 год – родилась 13 июля 1798 года в семье прусского короля Фридриха Вильгельма III и его супруги, королевы Луизы. У неё были два старших брата, один из которых, Фридрих Вильгельм IV, в будущем стал прусским королём, Вильгельм I – первым германским императором.
В биографии её отмечено: «Прусская королева Луиза вошла в историю как бесстрашная патриотка, как добрый ангел, не побоявшийся всемогущего Наполеона и заступившийся за униженную Родину. Почитание Луизы в 19 веке не знало границ, и в любом месте, хоть как-то связанном с её именем, появлялись мемориальные доски и памятники, в её честь называли улицы, мосты, учреждения и церкви. Наряду с Берлином, Кёнигсбергом (Калининградом), Тильзитом (Советском) и Мемелем (Клайпедой) Рига тоже могла бы быть отмечена памятной доской Луизе Прусской».
Генрих Гейне «Наполеон дунул на Пруссию и Пруссии не стало».
Но отважная королева не только разделила с супругом своим все тяготы поражения Пруссии и ссылки в Кенигсберг (ныне Калининград), а затем в Мемеле. Он встретилась в Тильзите с «чудовищем» Наполеоном и просила пощадить поражённую Пруссию. «Увы, её миссия не удалась, – отмечено в биографии, – корсиканец был предельно галантен с молодой королевой, но державу Фридриха Вильгельма III это не спасло. После заключения Тильзитского мира страна лишилась половины своей территории, а королевской чете было запрещено возвращаться в занятый французскими войсками Берлин».
И только Россия спасла Пруссию, освободив её в 1813 году.
История сохранила удивительный эпизод. После окончания наполеоновских войн Фридрих Вильгельм III побывал в России и привёз своих сыновей в Москву. Они поднялись на самое высокое место – кажется, более или менее сохранился знаменитый Пашков дом. И Фридрих сказал сыновьям – смотрите, вот наша спасительница, поклонитесь ей в пояс.
26 июня 1817 года последовал торжественный въезд Принцессы Шарлоты в Петербург. Все смотрели на неё с нежнейшим участием, вспоминая добродушие, красоту и несчастие её матери, королевы Луизы, связанные с изгнанием во время наполеоновского нашествия.
Принцесса прибыла в Россию, приняла православие с именем Александры Фёдоровны, и вскоре состоялось венчание с великим князем Николаем Павловичем в церкви Зимнего дворца.
Известный биограф Императора Н. Шильдер отметил: «1 июля, в день рождения великой княжны Александры Фёдоровны, был совершен обряд бракосочетания. «Я чувствовала себя очень, очень счастливой, когда наши руки соединились; с полным доверием отдавала я свою жизнь в руки моего Николая, и он никогда не обманул этой надежды», – писала Александра Федоровна, вспоминая день 1 июля 1817 года».
Николаю Павловичу исполнился 21 год, Александре Фёдоровне – 19.
Перед венчанием Александра Фёдоровна с тревогой написала матери:
«Я много плакала при мысли, что мне придётся встретиться с вдовствующей государыней, рассказы о которой меня напугали».
Впрочем, опасения были напрасны.
А вскоре она сделала такую запись в своём дневнике:
Вот что писала Александра Фёдоровна после родов:
«В 11 часов утра (17 апреля 1818 года – Н.Ш.) я услыхала первый крик моего первого ребёнка. Нике целовал меня… не зная ещё, даровал нам Бог сына или дочь, когда матушка, подойдя к нам, сказала: «Это сын». Счастье наше удвоилось, однако, я помню, что почувствовала что-то внушительное и грустное при мысли, что это маленькое существо будет со временем Императором».
Почувствовала, а ведь это ещё не было известно. Ведь наследником престола всё ещё был Константин Павлович.
Дочь поэта Тютчева Анна Федоровна, фрейлина цесаревны Марии Александровны, в своих воспоминаниях писала об императрице: «Император Николай I питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному и изящному созданию, страстное и деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому, единственным властителем и законодателем которого он себя чувствует. Для него эта была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться из золочёных решёток своей клетки».
Г.И. Чулков в своей книге о Николае Павловиче отметил: «Среди серых будней единственным утешением и радостью для великого князя был «аничковский рай», как Николай Павлович называл первые годы семейной жизни, проводимые во время пребывания его в столице в Аничковом дворце».
После манёвров в Царском Селе…
В 1819 году после летних манёвров в Царском Селе Император Александр I сказал, что желает отобедать с великокняжеской четой – с Николаем Павловичем и Александрой Фёдоровной. Николай Павлович так описал обед в своём дневнике:
«В лето 1819 г. находился я в свою очередь с командуемою мной тогда 2-й гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Пред выступлением из оного было моей бригаде линейное ученье, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности. После ученья пожаловал он к жене моей обедать; за столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора.
Государь начал говорить, что он с радостию видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Мариею); что он счастия сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтоб уметь ценить с молодости сие счастие; что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжёлое. Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке Государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно об том говорил брату Константину Павловичу, который, быв одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более, что они оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство!
Вспомним пророчества Авеля о том, что Александр царствовать не восхочет. И каково же впечатление? Напрасно считается, что все без исключения великие князья рвались царствовать. Николай Павлович не постеснялся сказать, что новость поразила до слёз:
«Мы были поражены как громом. В слезах, в рыдании от сей ужасной неожиданной вести мы молчали! Наконец, Государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственною ласкою начал нас успокаивать и утешать, начав с того, что минута сему ужасному для нас перевороту ещё не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять ещё до оной, но что мы должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной.
Тут я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе сил, ни духу на столь великое дело; что одна мысль, одно желание было – служить ему изо всей души, и сил, и разумения моего в кругу поручаемых мне должностей; что мысли мои даже дальше не достигают…
Кончился разговор; Государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами, и с которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот – совершенное изображение нашего ужасного положения».
Здесь казалось бы очень много загадок. Почему Император Александр I, который, как принято считать, любил покрасоваться на парадах и войнах, любил военный мундир, любил почёт и славу, вдруг решил сам отказаться от всего этого, дорогого ему, и, уйдя от дел, обратиться в старца Феодора Козьмича? Напомним, что разгадку предложил выдающийся учёный, талантливый дешифровщик древних текстов Геннадий Станиславович Гриневич. А точнее не он дал нам разгадку, а сам Феодор Козьмич, тайнописи которого расшифровал Гриневич. У того, кого мы знаем под именем Императора Александра, другого выхода просто не было.
Николай Павлович отметил:
«С тех пор часто Государь в разговорах намекал нам про сей предмет, но не распространяясь более об оном; а мы всячески старались избегать оного. Матушка с 1822 г. начала нам про то же говорить, упоминая о каком-то акте, который будто бы братом Константином Павловичем был учинён для отречения в нашу пользу, и спрашивала, не показывал ли нам оный Государь?»
Тайный манифест и бунт на Сенатской
27 ноября 1825 года в Петербург пришло официальное сообщение о смерти Императора. Все считали Наследником Престола Цесаревича Константина Павловича. И лишь очень узкому кругу людей было известно, что тот ещё два года назад отрёкся от права на престолонаследие. В августе 1823 года Император утвердил Манифест, по которому в случае его смерти трон по старшинству переходил к его брату Николаю Павловичу. Однако, по непонятным причинам Манифест оглашён не был.
Николай Павлович узнал о Манифесте от матери, но генерал-губернатор Петербурга Михаил Андреевич Милорадович посоветовал во избежание династического кризиса быстро провести присягу Константину, поскольку в столице началось брожение, которое могло вырасти в беспорядки. Тогда Великий Князь Николай Павлович первым присягнул новому Императору, а вслед за ним это сделали войска, правительственные учреждения и население города. Однако, из Варшавы пришло сообщение, что Константин ехать в столицу не собирается и подтверждает свой отказ от Престола. Необходимо было вновь проводить присягу теперь уже Николаю Павловичу.
Между тем в тайных обществах уже был взят курс на вооружённое выступление против Самодержавной власти в России, а стало быть, и против самой России, которую заговорщики решили пустить с молотка по указке своих европейских хозяев. Восстание намечалось на лето 1826 года, но известие о смерти Императора изменило планы. Заговорщики сочли удобным воспользоваться складывавшейся обстановкой. Поначалу планы были не столь радикальными. Предполагалось, используя смену власти, захватить побольше командных должностей в гвардейских полках. Но когда стало известно о повторной присяге, заговорщики решили действовать немедленно с более решительными целями. Присяга была назначена на 13 и 14 декабря. Причём во второй день, 14 числа, присягали Сенат и высшие правительственные учреждения.
Вооружённое восстание заговорщики наметили на 14 декабря. Предполагалось вывести войска на Сенатскую площадь и принудить Императора Николая Павловича, ещё не успевшего укрепиться во власти, к введению конституционного правления, отмене крепостного права, ликвидации военных поселений. Разумеется, это были в основном общие слова, поскольку в недрах заговора вынашивались планы гораздо более жестокие – вплоть до физического устранения не только Государя, но и всех членов Царствующего Дома Романовых. Несколько затруднило исполнение планов то, что собрать достаточно сил заговорщики так и не смогли. На площадь вышли всего 3 тысячи солдат и 30 офицеров. Это стало, отчасти, результатом разногласий при дележе власти, которые возникли накануне, отчасти результатом того, что далеко не все верили выдумкам заговорщиков, будто бы надо выступить в защиту Константина Павловича, у которого Николай Павлович отнимает трон. Главари намечали убить Императора, но никто не соглашался стрелять в него. В большинстве своём, как и во всякой безбожной шайке, в руководстве мятежников были трусы, которые стремились к власти, но хотели загребать жар чужими руками. Постыдные продажность и трусость впоследствии проявились в ходе следствия по делу о мятеже.
Некоторых руководителей мужество покинуло уже утром 14 декабря, до начала восстания. Князь Трубецкой, намеченный в диктаторы, побродив близ Сенатской площади, отправился присягать Николаю Павловичу. Не решились выйти на площадь и Рылеев с Якубовичем.
Но опасность была слишком велика, ведь часть офицеров и солдат были просто-напросто обмануты. Так солдатам, которые мало разбирались в политике и в терминологии, объявили, что они идут спасать супругу Константина, по имени Конституция и что Николай Павлович власть захватил самовольно. Были среди руководителей восстания и люди достаточно решительные, готовые идти до конца, были и такие, которые не могли свернуть с намеченного пути, повинуясь тёмным силам, тайными слугами которых они были.
День 14 декабря 1825 года, тяжёлый для России день, день несчастья, как охарактеризовал его сам Николай Павлович, стал для него, едва ступившего на престол, поистине звёздным часом. Ещё за два дня до мятежа, 12 декабря 1825 года, получив сведения о готовящемся выступлении великосветской черни против Самодержавия, Николай Павлович написал князю П.Н. Волконскому в Таганрог: «14 числа я буду Государь или мёртв. Что во мне происходит, описать нельзя».
Супруге же своей, Александре Федоровне, он сказал:
– Мы не знаем, что нас ждёт. Обещай быть мужественной и умереть с честью, если придётся умирать.
Утром 14 декабря 1825 года Николай Павлович обратился к командирам преданных ему частей с короткой, пламенной речью:
– Вы знаете, господа, что я не искал короны. Я не находил у себя ни опыта, ни необходимых талантов, чтоб нести столь тяжёлое бремя. Но раз Бог мне её вручил, то сумею её защитить, и ничто на свете не сможет у меня её вырвать. Я знаю свои обязанности и сумею их выполнить. Русский Император в случае несчастья, должен умереть со шпагою в руке… Но во всяком случае, не предвидя, каким способом мы выйдем из этого кризиса, я вам, господа, поручаю своего сына Александра. Что же касается до меня, то доведётся ли мне быть Императором хотя бы один день, в течение одного часа я докажу, что достоин быть Императором!».
Некто Кюстин, состряпавший впоследствии о Николае Первом пасквильную книгу, и тот вынужден был признать величие молодого Государя в тот критический день 14 декабря. Он писал: «Очевидцы видели, как Николай духовно рос перед ними… Он был настолько спокоен, что ни разу не поднял своего коня в галоп. Он был очень бледен, но ни один мускул не дрогнул у него на лице. А смерть ходила около него. Заговорщики указали его, как свою первую жертву».
Николай Павлович был постоянно в самых опасных местах. Он до последней возможности пытался избежать кровопролития. Лишь упорство самих декабристов, и, конечно, предательский выстрел подонка Каховского в славного героя Отечественной войны 1812 года генерала Михаила Андреевича Милорадовича – заставили отдать приказ на открытие огня.
Решительные и смелые действия молодого Государя смели с Русской Земли банду заблудших, зараженных чужебесием дворянчиков. Пушкин справедливо отметил, что «мятеж декабристов обличил историческую несостоятельность идеалов, насильственно переносимых на Русскую почву; фальшивые призраки будущего переустройства России на европейский фасон, которыми тешилось незрелое, порвавшее с народными преданиями Русское общество, были разбиты».
На протяжении всего действа Государь Император был постоянно на линии огня, несмотря на то, что положение его действительно было крайне опасным. Ведь к нему были посланы убийцы. К примеру, Якубович, вооружённый пистолетом, попросил Николая Павловича отъехать в сторону и нагнуться к нему, но вместо того, чтобы выстрелить, для чего он и отзывал в сторонку, пролепетал жалобно:
– Я был с ними, но пришёл к вам, – и поспешил принести присягу Императору.
Николай воскликнул:
– Так идите к мятежникам и уговорите их прекратить бесполезное выступление.
Якубович пошёл, но совершил новую подлость. Он заявил восставшим, ободряя их и призывая тем самым к продолжению бунта:
– Держитесь, там все вас сильно боятся, – и, произнеся эту предательскую и лживую фразу, поспешил скрыться, чтобы не быть среди тех, кто должен был вот-вот оказаться под огнём.
Помощник планируемого диктатора Трубецкого, некто Булатов, вслед за Якубовичем подходил к Николаю Павловичу, бродил рядом, как вспоминал потом, «мучительно, бессильно порывался убить его», но мужества «дворянским революционерам» явно не хватало.
Известно, кстати, что когда накануне тянули жребий стрелять в Императора, и это выпало Каховскому, тот наотрез отказался, пояснив, что не хочет рисковать жизнью ради того, чтобы все лавры от этого выстрела достались Бестужевым. Каховского прогнали. Но он сам явился 14 декабря на Сенатскую площадь, правда, в гражданской одежде и без оружия, чтобы, видимо, оценить обстановку и окончательно решить, быть ли с восставшими.
Эта омерзительная личность с утраченной ориентацией имела крайне низкие моральные качества. Каховского неоднократно изгоняли из армии за трусость, низость и дурные наклонности, но он каким-то чудом вновь и вновь восстанавливался в службе. Вот и в то утро с лёгкостью снял военный мундир, хотя как раз числился в офицерах. Когда же Николай Павлович направил к войскам генерал-губернатора Санкт-Петербурга генерала от инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича, которого все называли «храбрейшим из храбрых», а истинные воины, защитники Отечества, любили и уважали, Каховский пошёл на преступление. В толпе мятежников мало было истинных воинов, в основном её составлял светский сброд, для которого воинская служба казалась престижным времяпрепровождением, а военная форма – предметом для обольщения дам. Тем не менее, в рядах солдат послышалось брожение, когда перед строем появился прославленный генерал – герой Отечественной войны 1812 года, ведь среди старших возрастов было немало участников битв с Наполеоном. И тогда Каховский подбежал к Бестужеву, выхватил у него из-за пояса пистолет, незаметно, со спины, приблизился к Милорадовичу, ударил ножом его коня, а когда граф обернулся, чтобы узнать, в чём дело, выстрелил в упор, смертельно ранив. Командир лейб-гвардии Гренадерского полка генерал Штюллер, увидев это, смело подскакал, чтобы поймать падавшего с коня Милорадовича, но Каховский упредил смертельным выстрелом. Один из современников с горечью писал: «Милорадович и Каховский! Даже неудобно сравнивать эти два имени. Один – прославленный патриот и мужественный воин, второй – фантазёр и государственный преступник, кончивший жизнь на виселице».
Когда несколько позже Великий Князь Михаил Павлович тоже попытался убедить мятежников сложить оружие, его попытался убить другой бандит – Кюхельбекер. Он уже прицелился в Великого Князя, но тут не выдержали обманутые дворянчиками нижние чины. Три матроса одновременно бросились к мерзкому и коварному чудовищу и выбили у него из рук пистолет.
Мужественного Государя-витязя окружали мужественные, отважные Русские витязи, и пусть некоторые из них были не Русской крови, они оставались Русскими в душе, сражаясь за Россию до последней капли крови.
Николай Первый! Его роль в великом прошлом России долгое время затушёвывалась, отчасти, из-за решительного разгрома масонского антироссийского, направляемого с Запада бунта декабристов, объявленного питекантропами от революции выступлением за счастье народное. Когда же это, позвольте спросить, революционеры выступали за счастье народное? За личный карман, за личную власть – другое дело. Но за народ – никогда.
И разве можем мы найти в среде вождей революционных такого, кто готов был рискнуть своей жизнью во имя спасения Отечества и своего народа?
А ведь 14 декабря дело шло в большей степени не на жизнь, а на смерть. Если бы декабристы победили, началась бы кровавая вакханалия по всей России. Прежде всего, они собирались взяться за истребление Императорской фамилии. К примеру, Пестель, сын «сибирского злодея» (так характеризовал Пушкин отца бунтовщика, прославившегося жестокостью в Сибири), предлагал построить «экономическую виселицу» и повесить на мачте корабля сначала Императора, затем, привязав верёвки к его ногам, Императрицу и Наследника Престола, а затем, в том же духе уже четырех Великих Князей и Великих Княгинь и так до тех пор, пока будет кого вешать. Чем Пестель отличался от комиссаров, истребивших десятки тысяч офицеров в Крыму, тех самых офицеров, которые, поверив их посулам, остались в России? Когда они с наивной доверчивостью к новой власти пришли в указанные в воззваниях пункты регистрации, их арестовали и всех поголовно истребили. Их сажали в баржи и топили в море, их зарывали живыми в землю, их закрывали в бочки с вбитыми вовнутрь гвоздями, и пускали эти бочки с гор. А что делали ельциноиды с защитниками Дома правительства на краснопресненском стадионе?! Об этом написано много. Страшно даже повторять.
Насколько же выше, неизмеримо выше всякого рода демо- лидеров был Самодержавный Государь Николай Первый. Вот вам и причина его неприятия, причина ненависти к нему со стороны всей этой трусливо демо- своры, к определению коей надо бы ещё прибавить приставку псевдо.
Николай Первый, поразивший всех своими мужеством и отвагой, писал Великому Князю Михаилу Павловичу:
– Революция у ворот Империи, но я клянусь, что она в неё не проникнет, пока я жив и пока я Государь милостью Божьей!
Оценивая мятеж декабристов, он заявлял:
– Это не военный бунт, но широкий заговор, который хотел подлыми действиями достигнуть бессмысленных целей. Меня могут убить. Каждый день меня пугают анонимными письмами, но никто меня не запугает.
Пушкин справедливо отмечал, что «мятеж декабристов обличил несостоятельность идеалов, насильственно переносимых на Русскую почву; фальшивые призраки будущего переустройства России на европейский фасон, которыми тешилось незрелое, порвавшее с народными преданями Русское общество, были разбиты».
Разве Хрущёв, Андропов, Горбачев, Ельцин думали о том, что нужно России и Русскому Народу, что нужно народам, населяющим огромные просторы Державы? Они думали лишь о том, что полезно и выгодно лично им. А Русские Самодержцы заботились о том, что нужно, прежде всего, России. В этом главное отличие всяких там либерализмов и демократий от высшей формы государственного устройства – Православного Самодержавия. И это прекрасно понимал Государь Император Николай Первый, которого можно по праву назвать ревностным продолжателем дела, заложенного святым благоверным князем Андреем Боголюбским, развитого местночтимым Святым Благоверным Царём Иоанном Грозным, названным митрополитом Иоанном Ладожским Игуменом Всея Руси, продолженного Екатериной Великой и Павлом Первым. Очень точны размышления Императрицы Екатерины Великой о республиканстве и демократических преобразованиях, которые пытались навязывать миссионеры тёмных сил Запада:
«Знайте же, что если ваше правительство преобразится в республику, оно утратит свою силу, а ваши области сделаются добычею первых хищников; не угодно ли с вашими правилами быть жертвою какой-нибудь орды татар, и под их игом надеетесь ли жить в довольстве и приятности.
Безрассудное намерение Долгоруких, при восшествии на престол Императрицы Анны, неминуемо повлекло бы за собою ослабление – следственно и распадение государства; но, к счастию, намерение это было разрушено простым здравым смыслом большинства.
Не привожу примера (деления на уделы) Владимира и последствий, которые оно повлекло за собою: он слишком глубоко врезан в память каждого, мало-мальски образованного человека».
Высокую оценку деятельности Екатерины Великой по возрождению и развитию Русской государственности дал один из самых высокочтимых в народе пастырей современности Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. В книге «Русь Соборная» он указал на причины падения Русской государственности, отметил, в частности, что Пётр I «не оставил своим преемникам сколь либо стройной системы державного обустройства земли Русской. Разрушено было более, чем создано, тем паче, что многочисленные новации «царя-плотника» далеко не всегда оказывались жизнеспособными, часто умирая, едва успев родиться. Среди наиболее явных недостатков государственного управления Российской Империи выделилось отсутствие института, аналогичного Земскому Собору, инструмента, который помогал бы Самодержцу ощутить острейшие народные нужды, «из первых рук» узнать о том, что тревожит его многочисленных и разнообразных подданных».
И лишь Екатерина Великая сделала, по мнению о. Иоанна Ладожского, первый серьёзный шаг к возрождению Русской Соборности. Падение Русской государственности, как отметил он, «продолжалось до тех пор, пока внутриполитическое положение России не стабилизировалось при Екатерине Великой, которая не замедлила воспользоваться этой передышкой, дабы в очередной раз попытаться восстановить разрушенную связь между Царским престолом и широкими народными массами. За время царствования сей Государыни произошли два события, которые несли на себе несомненный отсвет идеи Соборного народного представительства: созыв Уложённой комиссии и реформа местного самоуправления. В её деятельности приняли участие 564 депутата: 28 от правительства, 161 от дворянства, 208 от горожан (из них 173 представляли купечество), 54 от казаков, 79 от государственных крестьян и 34 от иноверцев…» Иоанн Ладожский отметил, что «можно вполне обоснованно утверждать, что и по составу, и по задачам комиссия, созванная Екатериной II, явилась почти полной копией Земского собора», и что «именно труды этой комиссии помогли Императрице осуществить конструктивную реформу местного самоуправления, в результате которой применительно к новым историческим условиям были восстановлены традиционные для России начала сословной и территориальной организации». Особо отмечено в книге, что именно в этих деяниях Императрицы «своё новое воплощение (пусть неполное, частичное) нашла неистребимая Русская жажда Соборного единения, органично включающего в себя механизмы местного самоуправления как свидетельство полного доверия Государя к своим верным подданным».
Русское Православное Самодержавие, как власть от Бога, покоилось на таких великих столпах, каковыми были правления Андрея Боголюбского и Иоанна Грозного, Екатерины Великой и Павла Первого. Именно они, эти Государи, явили миру силу и могущества праведной власти, укрепляющей и возвышающей Державу, преумножающей её территории, численность её населения, поднимающей её международный авторитет. Я написал «Держава», без прибавления «Российская». К сожалению, в наши дни утрачено это священное понятие «Держава» и извращено. Державами в равной мере называют и Эстонию и США, и Грузию и Польшу и прочие страны или ещё точнее – злокачественные странные новообразования, несущие только зло и ничего иного. Говорить Российская Держава, тоже самое, что «масло масленое», ибо Державой правильно именовать Россию и только Россию, одну Россию во всём мире Божьем. Держава – понятие духовное и вытекает из словосочетания: «Удержание Апостольской Истины». На планете Земля есть только одна страна, одно государство, которое имеет великое предназначение, данное Самим Создателем – «Удержание Апостольской Истины». Это государство – Россия. И только России Всевышним дарована праведная «Власть от Бога» – Православное Самодержавие. Только Русский Государь именуется Удерживающим. С изъятием из среды Удерживающего наступает, как учит Церковь, хаос. Только Россия является Удерживающей на Земле. Если бы тёмные силы сумели (что, конечно, невозможно и никогда не случится) изъять из среды (с планеты Земля) Россию, мир бы немедленно погиб в наступившем хаосе и кровавой смуте.
Вот такими Удерживающими выступали на протяжении всей истории Русские Государи. Вот таким Удерживающим явился и Государь Император Николай Первый, которого, по мнению многих добропорядочных историков, следовало бы именовать Николаем Великим.
Ему досталось тяжелейшее наследие, ему досталось общество, до крайности разложенное Императором, которого мы знаем под именем Александра Первого.
Забвение Православной веры, отрицание основ Самодержавия, французомания, западничество, вольнодумство – всё это махрово расцвело в первой четверти XIX века и всё это угрожало безопасности Державы, сильной своими национальными традициями, праведным укладом и, конечно, праведной верой предков.
XVIII век поколебал устои Православного Самодержавия, надломил традиции, внёс раскол в Русское общество. XIX век грозил его разрушить, ибо худшее, что оставил в наследство минувший век, веку новому, аккумулировалось в дворянском заговоре против Православия, Самодержавия, против Помазанника Божьего на Русском Престоле. Это было первое гнусное клятвопреступление, ведь на Московском Земско-Поместном соборе в феврале 1613 года все без исключения сословия Русского общества, весь народ России, вся Россия поклялись верности новой, соборно избранной династии.
Декабрьский бунт резко отличался от дворцовых переворотов минувшего века тем, что в дворцовых переворотах дворянство, опираясь на гвардию, произвольно меняло Государей, принадлежащих к одной всенародно избранной в 1613 году Династии. Декабристы планировали истребить правящую династию, чтобы установить власть произвола и беспредела, которая бы сделала Россию лёгкой добычей с нетерпением дожидавшихся её раздела между собой западных хищников. Государь Император Николай Первый сорвал подлые и коварные замыслы запада и разгромил передовой отряд тёмных сил запада, чем уберёг Россию от гибели.
И недаром, Пушкин написал:
Нет, я не льстец, когда Царю
Хвалу свободную слагаю.
Императору Николаю Павловичу досталась тяжелейшая эпоха, охарактеризованная Борисом Башиловым предельно точно и сурово:
«Переломная эпоха, в которую правил Николай Первый, наложила на него неизмеримо тяжёлое бремя. Он правил, когда мировое масонство и руководившее им еврейство, окончательно утвердили своё господство в Америке и Европе.
Это была эпоха, в которую, по меткому выражению Гоголя, «дьявол выступил уже без маски в мир… Когда «мир был в дороге, а не у пристани, даже и не на ночлеге», не на временной станции или отдыхе». В это время «на развалинах старого мира» села тревожная юность.
В России это тревожное, родившееся во время наполеоновских войн поколение избрало своим руководителем не Николая Первого, Пушкина, Гоголя, славянофилов, а духовных отпрысков русского вольтерьянства и масонства, декабристов, и своим путём – путь дальнейшего подражания Европе»… Государь избрал более трудный путь: он решил восстановить Самодержавие в России и отказаться от традиций Петровской революции.
«Вопрос ещё, – сказал однажды Николай Павлович, – хорошо ли сделал Пётр, что отменил некоторые Русские благочестивые обычаи. Не придётся ли их восстановить?»
Прежде всего, необходимо было восстановить Православное Самодержавие, ведь по точному определению мыслителя, «за время от Петра Первого до Николая Первого у нас не было монархии…»
Иван Лукьянович Солоневич писал: «Русские Цари и в особенности Царицы, от Петра Первого до Николая Первого были пленниками вооружённого шляхетства и они не могли не сделать того, что им это шляхетство приказывало».
Период от Петра Первого до Николая Первого Ключевский называл дворяновластием, а Лев Тихомиров писал, что «нельзя обвинять монархию за то, что было сделано во время её небытия».
Николай Первый однажды сказал маркизу де Кюстину: «Меня очень мало знают, когда упрекают в моём честолюбии; не имея малейшего желания расширять нашу территорию, я хотел бы ещё больше сплотить вокруг себя народы всей России. И лишь исключительно над нищетою и варварством я хотел бы одержать победы: улучшить жизненные условия Русских гораздо достойнее, чем расширяться».
Отравление Царя ради победы зла.
Мы помним девиз Императора Николая Павловича: «никому – зло». Но Россия была окружена странами зла, а Император – слугами зла. Государь ушёл из жизни 18 февраля 1855 года. Историки, закупленные орденом русской интеллигенции, выдвинули две версии. Первая звучала так: «Император умер от Евпатории в лёгких». Намёк на то, что Русская армия не сумела препятствовать высадке союзников в Крыму. Но этот вывод сделан из вывода, в свою очередь, надуманного и лживого – из вопиющей лжи о неудачах Русской армии в кампаниях 1853 и 1854 годов. Однако, как мы уже выяснили, неудач не было. На Кавказском театре военных действий одержана полная и блистательная победа, на Дальнем Востоке противник отступил, на Балтике и на Белом море успеха врагам России тоже не удалось добиться. Лишь на Дунае Русской армии из-за предательской двурушнической политики Австрии пришлось отойти.
В Крыму боевые действия шли с переменным успехом, но главной задачи – захвата Севастополя – союзникам выполнить не удалось. Учитывая колоссальное превосходство врага в живой силе и технике, можно сделать твёрдый вывод – Русская армия со своими задачами справилась. И неудивительно, ведь Верховное командование осуществлял сам Император Николай Павлович.
Но что же произошло? В.Ф.Иванов в книге «Русская интеллигенция и масонство от Петра I до наших дней» писал: «В начале февраля Государь заболел лёгкой простудой. С 7-го по 10-е никаких указаний на развитие болезни не встречается. 10 – 11-го простуда обнаруживается лёгкой лихорадкой и проходит. За последние дни с 12-го февраля здоровье заметно улучшается. Бюллетень за 14 февраля отмечает: «Его Величество ночью на 14-е число февраля мало спал, лихорадка почти перестала. Голова свободна».
Не отмечают никаких ухудшений здоровья и бюллетени за 15 и 16 февраля. В.Ф.Иванов писал по этому поводу: «Смерть явилась для всех окружающих Государя лиц полной неожиданностью. Наследник, Императрица, не говоря уже о придворных, и не подозревали смертельного исхода. До вечера 17 февраля во дворце всё было спокойно, и сам доктор Мандт продолжал уверять, что нет никакой опасности. Могучая натура Императора Николая Павловича могла перенести любую простуду».
Для всех осталось загадкой случившееся. Впрочем, в траурные дни близким не до разрешения таких загадок. К тому же шла война, и хотя враги России безуспешно пытались сломить Россию, нужно было быть постоянно начеку, ведь союзники всё ещё стояли в Крыму, хотя на штурм Севастополя не решались.
Обратимся вновь к размышлениям В.Ф. Иванова, открывшего в смерти Императора явный масонский след: «Революционная печать, чтобы очернить светлый образ Императора-Витязя, доказывает самоубийство и участие в этом лейб-медика Мандта, который, по просьбе Государя, дал ему яд. Эту версию пустил в своих записках Пеликан, бывший консулом в Иокогаме, в «Голосе минувшего» за 1914 год (кн. 1 – 3). Пеликан пишет, что вскоре после смерти Императора Николая Павловича Мандт исчез с Петербургского горизонта. По словам Пеликана Венцеслава Венцеславовича (бывшего в своё время председателем Медицинского совета, президентом Медико-Хирургической академии), Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покончить с собой Императору Николаю яду… Спрашивается: для чего нужно было посредничество Мандта, когда Император мог отравиться и без его помощи? Психологически это является совершенно невероятным. Зная характер Императора, его благородство, мужество и сознание Святости Царской власти и своего долга, невозможно допустить наличности самоубийства. Глубоко религиозный, верный и достойный сын Церкви Христовой, Православный Император не мог совершить такого греха».
Как видим, В.Ф. Иванов подтверждает выводы, которые напрашиваются сами собой. Да разве мог Император Николай Павлович бросить Россию в столь трудный час, разве мог взвалить на неокрепшие ещё плечи Наследника Престола столь тяжкий груз государственного управления? Ведь он сам, как Государь, как Верховный Главнокомандующий до самой последней минуты держал в своих руках рычаги управления войсками на всех театрах военных действий.
«Непоколебимая твёрдость Царя и Воина, – отметил далее автор, – мысль о важных обязанностях Монарха, которые он свято исполнял в течение 30 лет, наконец, нежная любовь к своему семейству исключают всякое предположение о самоубийстве. Император Николай Павлович умирал истинным христианином и витязем. Он исповедался и приобщился Святых Таин. Призвал детей и внуков, простился с Императрицей и семейством и сказал им всем утешительные слова, простился с прислугой и некоторыми лицами, которые тут находились».
Наследнику Престола он сказал: «Мне хотелось принять на себя всё трудное, всё тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас! После России я люблю вас больше всего на свете!»
Император Николай Павлович ушёл из жизни 18 февраля 1855 года в 12 часов 20 минут. В.Ф. Иванов считал, что загадка его смерти получает полную ясность, если сопоставить все обстоятельства, в том числе и положение на театрах военных действий и указал, что виновником смерти Государя является масонский заговор: «При изучении последних дней жизни Императора Николая наталкиваемся на странное обстоятельство: слух о смерти от простуды был пущен и поддерживался масонами Адлербергом, министром двора, и князем Долгоруковым, комендантом Императорской главной квартиры. Далее, в ночь с 17-го на 18-е, во дворце на ночь оставались поблизости Государя граф Адлерберг и лейб-медик Мандт, которые унесли в могилу тайну смерти Императора».
Отравление было единственным способом устранить Государя, который уже почти повернул ход войны в катастрофическом для союзников направлении. К сожалению, Император был слишком благороден и доверчив – он не допускал и мысли, «что его могут обмануть и предать на мученическую смерть». Смерть от отравления – мучительна… Ещё более мучительной она была для Императора, осознававшего, что он оставляет Россию в трудный для неё час борьбы с шакальими стаями ублюдков, испокон веков зарившихся на её богатства.
Едва он ушёл из жизни без всяких к тому причин, клеветники принялись за дело. Так уже наш современник (из нынешнего ордена русской интеллигенции) А. Смирнов написал:
«Самоубийство Императора являлось наиболее подходящим способом разрешения всех противоречий, личных и государственных. В этом убеждаешься, когда знакомишься с воспоминаниями Ивана Фёдоровича Савицкого, полковника Генерального штаба, адъютанта Цесаревича Александра».
Чем же мнение Савицкого привлекло историка? Да тем, что тот был активным участником антирусского восстания 1863 года против Престола, против Самодержавной власти, против России и потом скрывался в Европе. Именно на этом основании он почитался «осведомлённым», ибо являлся предателем Родины. А выдумки предателей, подобных Курбскому и Савицкому, всегда в чести у историков, ненавидящих Россию.
Но можно ли считать беспристрастным такого современника Николая Павловича, который отзывался о нём, Императоре, следующим образом: «Тридцать лет это страшилище в огромных ботфортах, с оловянными пулями вместо глаз безумствовало на троне, сдерживая рвущуюся из кандалов (?) жизнь, тормозя всякое движение (особенно по железной дороге?), расправляясь с любым проблеском свободной мысли, подавляя инициативу, срубая каждую голову, осмеливающемуся подняться выше уровня, начертанного рукой венценосного деспота…» И далее в том же духе. Какой же инициативе помешал Император? Повесить Царскую фамилию? Пустить в распыл Державу? Поддаться иностранным ворогам, жаждущим Русских земель? Помешал крепостникам, с «проблеском свободной мысли» ещё крепче взгромоздиться на шее своих рабов?
Савицкий ненавидел Русского Самодержца. Ему был дорог и близок «немец Мандт» – личный враг Государя, которому Николай Павлович, будучи благородным и честным сам, доверял. Историк А. Смирнов, сам того не понимая, доказывает обратное тому, что хотел доказать – доказывает, что Император умер не от болезни, что к середине февраля он практически излечился от сильной простуды. И вдруг последовали внезапное ухудшение здоровья и смерть… Объяснение случившегося даётся со слов проходимца Мандта, бежавшего из России сразу же после кончины Императора за границу. Почему же он, личный враг Государя, вдруг сбежал? Оказывается, опасался, что его заподозрят в отравлении. Объяснение, прямо скажем, рассчитано на полных идиотов. Честному человеку, невиновному человеку нет оснований бояться того, чего боялся Мандт. Между тем, уже за границей, где Мандт устроился очень недурно, осыпанный материальными поощрениями за выполнение задачи, он заявил, что Император приказал ему, личному врачу, принести яд. На возражения же грозно повторил своё приказание. В чём была угроза? Да в том, оказывается, что Николай Павлович пообещал добыть яд своим путём, если его не доставит врач. Каким же это путём? Все медикаменты находились в ведении лейб-медика. И какое видит историк разрешение противоречий? Дезертирство, подобное тому, что совершил Благословенный, внезапно оставив престол и тем самым создав революционную ситуацию, которой и воспользовались государственные преступники, именуемые декабристами?
Всё это ещё раз подтверждает верность выводов В.Ф. Иванова о том, что в трудный для России час, в момент ожесточённой борьбы против объединённых сил Европы, которая, кстати, укрыла и Мандта, и Савицкого, такой Самодержец, как Николай Первый, не мог пойти на самоубийство, противоречившее не только его вере, но и его взглядам, и убеждениям.
Но, к счастью, не все историки бесчестны в освещении жизни великого Православного Самодержца: Борис Башилов указал: «Николай Первый обладал ясным, трезвым умом, выдающейся энергией. Он был глубоко религиозный, высоко благородный человек, выше всего ставивший благоденствие России». Французский дипломат, живший в Петербурге, писал: «Нельзя отрицать, что Николай Первый обладал выдающимися чертами характера и питал лучшие намерения. В нём чувствуется справедливое сердце, благородная и возвышенная душа. Его пристрастие к справедливости и верность данному слову общеизвестны».
«Тебя потомство лишь сумеет разгадать…»
Маркиз де Кюстин при встрече с Николаем Первым сказал ему: «Государь, Вы останавливаете Россию на пути подражательства и Вы её возвращаете ей самой».
Император ответил ему:
«Я люблю свою страну и я думаю, что её понял, я Вас уверяю, что когда мне опостылевает вся суета наших дней, я стараюсь забыть о всей остальной Европе, чтобы погрузиться во внутренний мир России». Маркиз спросил: «Чтобы вдохновляться из Вашего источника?» – «Вот именно. Никто не более Русский в сердце своём, чем я!». Император прибавил к сказанному: «Меня очень мало знают, когда упрекают в моём честолюбии; не имея малейшего желания расширять нашу территорию, я хотел бы ещё больше сплотить вокруг себя народы всей России. И лишь исключительно над нищетою и варварством я хотел бы одержать победы: улучшить жизненные условия Русских гораздо достойнее, чем расширяться… Лучшая теория права – добрая нравственность, и она должна быть в сердце не зависимой от этих отвлечённостей и иметь своим основанием религию».
Фрейлина Тютчева точно выразила задачи Императора, который, по её словам, «считал себя призванным подавить революцию – её он преследовал всегда и во всех видах. И действительно, в этом есть историческое призвание Православного Царя».
Профессор К. Зайцев дал такую характеристику Императору: «Он не готовился царствовать, но из него вырос Царь, равного которому не знает Русская история. Николай Первый был живым воплощением Русского Царя. Как его эпоха была золотым веком Русской культуры, так и он сам оказался центральной фигурой Русской истории. Трудно себе представить впечатление, которое производил Царь на всех, кто только с ним сталкивался лицом к лицу. Толпа падала на колени перед его властным окриком. Люди ни в коей мере от него не зависящие, иностранцы, теряли самообладание и испытывали всеобщее, труднообъяснимое, а для них и вовсе непонятное, поистине мистическое чувство робости, почтения. Мемуарная литература сохранила бесчисленное количество свидетельств такого рода».
Судьба Николая I, история его царствования, как впрочем, и многие другие страницы Российской истории, представлялись и до сих пор представляются в исторической литературе тенденциозно – не с точки зрения интересов страны и народа, а лишь с позиций господствующих идеологий. Георгий Чулков в книге «Императоры» отмечал, что «панегириков Царствования Николая I было мало, больше было страстных хулителей». Да и понятно, ведь Император был противником либерализма и отстаивал иерархию ценностей в обществе. Он был сторонником законности, подавил выступление бунтовщиков на Сенатской площади. Этого ему простить не могли те, для кого Россия была не Родиной, а лишь местом «ловли счастья и чинов». Но почему же до сих пор преобладает в литературе ложное представление об Императоре?
Конечно, если всякий мирный период в истории России считать «консервативностью» и «застоем», если всякую революционность, то есть антигосударственность считать прогрессивностью, тогда Император Николай Павлович действительно «консерватор». Но наш жестокий век, казалось, уже должен убедить, что отстаиваемая Государём самодостаточность Государства есть дело праведное, что консерватизм – есть дело праведное и полезное для государства, ведь, как указывал Иван Лукьянович Солоневич, «Россия падала в те эпохи, когда Русские организационные принципы подвергались перестройке на западно-европейский лад».
Свободный выход России из Чёрного моря, наши успехи на Балканах, авторитет России во всём мире, что теперь так трудно возвратить после десятилетия чёрного ельцинизма, разве это не дороже для страны и народа, чем «прогрессивный» либерализм? Разве не дороже то, что Императору Николаю I удалось удержать Россию над пропастью революции, которая в XIX веке потрясла всю Европу.
Огромная заслуга Императора в том, что он отстоял Великую Россию и надолго отодвинул великие потрясения. В этом смысле те идеалы, которые он исповедовал и проводил в жизнь, злободневны и ныне, в чём мы уже убедились. Как показывает сам ход истории, нынешняя жизнь в «усечённой» с помощью демократических «преобразований» России не дала обещанного благополучия, а напротив, принесла неисчислимые беды народам, жившим согласно и дружно на Советской Земле, в Советском Союзе. А Советский Союз по территории соответствовал Российской Империи. Теперь вот украинные политиканы, воспользовавшись тем, что украинные Российские области стали называться Украиной, запретили словосочетания: «Ехать на Украину», «Жить на Украине», «Отдыхать на Украине», к чему уже все привыкли. Они велят говорить: «Жить в Украине», Ехать в Украину», чтобы вытравить из сознания людей, что Украины – это та же Русь, только Малая Русь или Малороссия. Глупо же звучит: «Жить в окраине города или посёлка», «Ехать в окраину деревни». Столь же смешно звучит: «Ехать в Украину» и так далее в том же духе! Я думаю, ездить нужно всё же на Украину, то есть к своим братьям на окраину Российской Империи, которая ещё возродится в новом, могущественном качестве под скипетром Русского Православного Царя.
Эпоха Императора Николая I характеризовалась жесточайшей и упорной борьбой между сторонниками развития России по Самодержавному, Православному, национальному пути, проложенному Святым Благоверным князем Андреем Боголюбским и местночтимым Святым Благоверным Царём Иоанном IV Васильевичем Грозным, Императрицей Екатериной Великой и Императором Павлом I и так называемыми «западниками», идейными последователями запрещённого в 1826 году масонства, стремившимися сделать Россию сырьевым придатком своего обожаемого Запада. Заслуга Императора в том, что, как отмечали мыслители, стоявшие на патриотических позициях, после подавления бунта декабристов и запрещения масонства, Русские Цари перестали быть источниками европеизации России, подобно Петру I и Анне Иоанновне, распустившей «бироновщину», и Петра III. Они стали на путь возвращения к Русским традициям, беспощадно выкорчеванным в эпоху Петра и «бироновщины».
Иван Александрович Ильин писал: «Император Николай I остановил Россию на краю гибели и спас её от нового «бессмысленного и беспощадного бунта». Мало того, он дал русской интеллигенции срок, чтобы одуматься, приобрести национально-государственный смысл и вложиться в подготовленные реформы Александра II. Но она не использовала эту возможность».
Выдающийся русский учёный Александр Евгеньевич Пресняков (1870 – 1929) в книге «Российские Самодержцы» писал: «Время Николая Первого – эпоха крайнего самоутверждения Русской Самодержавной власти в ту самую пору, как во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм, разбитый рядом революционных потрясений, переживал свои последние кризисы. Там, на Западе, государственный строй принимал новые конституционные формы, а Россия испытывает расцвет Самодержавия в самых крайних проявлениях его фактического властвования и принципиальной идеологии. Во главе Русского Государства стоит цельная фигура Николая Первого, цельная в своём мировоззрении, в своём выдержанном, последовательном поведении. Нет сложности в этом мировоззрении, нет колебаний в этой прямолинейности. Всё сведено к немногим основным представлениям о власти и государстве, об их назначении и задачах, к представлениям, которые казались простыми и отчётливыми, как параграфы воинского устава, и скреплены были идеей долга, понятой в духе воинской дисциплины, как выполнение принятого извне обязательства».
Вспомним, что в самом начале своего царствования, 14 декабря 1825 года Николай Павлович сказал: «Я не искал Престола, не желал его. Бог поставил меня на этом месте, и пока Богу угодно будет оставить меня тут, буду исполнять долг свой, как совесть велит, как убеждён, что должно и нужно действовать».
Графиня А.Д. Блудова писала по поводу этих слов Государя: «Такое убеждение, такая воля христианская руководила им с первой минуты, и никогда доныне не изменял он своего образа мыслей. Эта тёплая вера, однако, не увлекала его в мистические экстазы, но сильно и непоколебимо привязала к родной Православной Церкви, и с любовью к ней слилась у него и горячая любовь к Отечеству, любовь ко всему Русскому, всегдашняя готовность жертвовать собою, жертвовать своею жизнью за спокойствие, за величие, за славу России. Сколько раз он доказывал это, принадлежит рассказать историку; мы только напомним о маловажных, ежедневных доказательствах приверженности его ко всему родному. Привычка говорить по-русски, даже с женщинами (дотоле неслыханное дело при Дворе), любимый казацкий мундир, им первым введённый в моду, привычка петь тропари праздничные и даже всю обедню вместе с хором в церкви – это одно мелочи; но модные дамы времён Александра рассказывают, какое это сделало впечатление, как удивило, как показалось странным, причудливым и какой сделало поворот в гостиных, в последствии и в семейной жизни, и в воспитании, и мало-помалу разбудило народное чувство и дало повод тому стремлению возвращаться ко всему строю отечественному, которое нынче слишком далеко увлекает иных и даже доходит до смешного руссицизма. Разумеется, всему есть границы; но мы должны сознаться, что замечательнейшая черта нашего времени есть сильное, может, чрезмерное чувство народности, привязанность к обычаям и к языку родного края, какое-то, так сказать, притяжение, влекущее друг к другу единородные племена. Но это чувство было усыплено, появлялось разве между некоторыми учёными или литераторами и вовсе не замечено было большинством; Николай Павлович при самом восшествии на престол первый у нас показал пример, и поколение, при нём возросшее, уже далеко отступило от инородных мнений и с любовью и рвением старается о всём родном. В своих привычках и привязанности ко всему национальному Николай Павлович опередил своих современников и показал то предчувствие нужд и стремлений своего века, о которых мы упоминали как о черте отличительной для людей, избранных Провидением и посылаемых Им во дни великих переворотов общественных».
Аполлон Майков посвятил Государю стихотворение «Коляска», которое является лучшим апофеозом его царствования:
Когда по улице, в откинутой коляске,
Перед беспечною толпою едет Он,
В походный плащ одет, в солдатской медной каске,
Спокоен, грустен, строг и в думу погружён,
В Нём виден каждый миг Державный повелитель,
И вождь, и судия, России промыслитель,
И первый труженик народа Своего.
С благоговением гляжу я на него,
И грустно думать мне, что мрачное величье
В Его есть жребии: ни чувств, ни дум Его
Не пощадил наш век клевет и злоязычья!
И рвётся вся душа во мне ему сказать
Пред сонмищем Его хулителей смущённым:
«Великий человек! Прости слепорождённым!
Тебя потомство лишь сумеет разгадать,
Когда История пред миром изумлённым
Плод слёзных дум Твоих о Руси обнажит.
И, сдёрнув с Истины завесу лжи печальной,
В ряду земных царей Твой образ колоссальный
На поклонение народу водрузит».
И заключил свои поэтические мысли фразой: «Как сказал один молодой человек: «Государь такой Русский, что нельзя и вообразить себе, что в нём даже одна капля чужестранной крови». Дай Бог нам ещё долго сохранить его! На него точно можем мы положиться и знаем, что он никогда нам не изменит, как не изменит ему никогда его родная Русь!»
В заключении нельзя не вернуться ещё раз к супружеским отношениям Императора Николая Павловича и Александры Фёдоровны.
Все биографы и современники отмечали, что брак был счастливым, что Николай Павлович обожал свою супругу. Он постоянно старался делать какие-то сюрпризы. В ту пору было принято назначать шефами полков великих князей и даже великих княгинь. А уж императрица тем более была шефом, причём Кавалергардского полка. И вот однажды в Петергофе, когда полк был построен, чтобы отдать почести Императору и шефу полка Императрицы, Николай вышел раньше, встал во главе полка и командовал им, словно его командир.
Великая княгиня Ольга Николаевна вспоминала: «Мама впервые, как шеф этого полка, принимала парад. Она была польщена и сконфужена, когда папа скомандовал «На караул!» и полк продефилировал перед ней. Это было неожиданно и ново. Папа умел придать нужное обрамление вниманию общественности по отношению к своей супруге, которую он обожал».
Сколь-нибудь серьёзных данных о «любовных похождениях» Императора не существует. Есть пасквили, которые сочинены Герценом и Огарёвым, но в большей степени всё-таки Герценом. Но о таковых можно сказать словами Павла Чичагова, опровергающего сплетни о Екатерине Великой, что они судят за то, за что должны бы в первую очередь краснеть сами. То есть достаточно фактов о нечистоплотности в вопросах любви обоих пасквилянтов. Как можно верить Герцену, ненавидевшему не только Русской Православное Самодержавие, но и саму Россию? Герцену, который пустился в пляс, когда узнал о смерти Николая Первого.
Леонид Выскочков, автор целого ряда книг о Николае Первом, и в том числе книги серии ЖЗЛ, показал всю низость и глупость клеветников:
«Представители революционно-демократических кругов привычно обвиняли Николая Павловича к домогательствам по отношению к женщинам, циничности, двуличии, лицемерии, отказывая ему в то же время в подлинной страсти. «Я не верю, – писал А. И. Герцен, – чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он пребывал к ним благосклонен, не больше».
Впрочем, гораздо большего доверия вызывают воспоминания Александры Осиповны Смирновой-Россет. К примеру, она привела расписание дня Императора:
«В девятом часу после гулянья он пьёт кофе, потом в десятом сходит к императрице, там занимается, в час или в час с половиной опять навещает её, всех детей, больших и малых, и гуляет. В четыре часа садится кушать, в шесть гуляет, в семь пьёт чай со всей семьей, опять занимается, в десятого половина сходит в собрание, ужинает, гуляет в одиннадцать, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати».
Александра Осиповна задавала вопрос пасквилянтам и сплетникам:
«Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой?..» И прибавляла, что он был «идеальным мужем и отцом».
И вот этот человек, любящий муж, примерный отец и, что главное, поистине великий Государь, отравлен врагами России. Как пережила кончину обожаемого ею супруга Александра Фёдоровна? Современники отмечают, что она едва смогла оправить от нервного потрясения, сильно изменилась внешне. На неё навалились болезни, стало быстро портиться зрение. Пришлось выезжать за границу на лечение, но жить вне России она уже не могла. Ненадолго пережив супруга, она скончалась в 1860 году. Было ей 62 года…
Хорошо поют !
Замечательно поют ребята в шляпах и с пейсами.
Будучи в Тель - Авиве много гулял по городу в районе набережной. В одну такую прогулку нас с женой застал дождь. Не сильный, но и такой что не погуляешь, хотя по первости пытались укрываться под зонтиками.
У нас, как у питерских жителей,зонтики все-е-егда с собой, хоть даже и в пустыне окажись.
Привычка.
Но не помогло.
Укрылись в каком-то общественно -культурном центре куда вход свободен, а там как раз то ли репетировали, то ли просто пели ибо захотелось попеть...словом подобная группа товарищей веселилась, да настолько здорово что мы как завороженные просидели слушая пение хотя дождь давно закончился.
Помню был в сильном восторге.
Пели примерно в таком вот стиле.
Тут и полька и казацкие украинские напевы и вековечная тоска волжских бурлаков ( солист) и гимнообразная тональность.
Только сейчас, когда сам постоял у микрофона в студии понял - насколько круто люди поют !
"Любовные лихорадки" Тургенева
В издательстве "Вече" вышли две новые книги Николая Шахмагонова "Любовные драмы Русских писателей" и "Любовные драмы Русских поэтов". Представляем читателям очерк из первой книги.
Существует мнение, будто для того, чтобы узнать, счастливую ли жизнь прожил писатель, нужно внимательно и вдумчиво прочитать его книги, особенно, касающиеся высочайшего на свете чувства – чувства любви. И особенно первой любви, наверное, каждым из нас вспоминаемой с особым трепетом. В отношении замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева можно с уверенностью сказать, что это действительно так.
Первая любовь в повести и в жизни
Существует мнение, будто для того, чтобы узнать, счастливую ли жизнь прожил писатель, нужно внимательно и вдумчиво прочитать его книги, особенно, касающиеся высочайшего на свете чувства – чувства любви. И особенно первой любви, наверное, каждым из нас вспоминаемой с особым трепетом. В отношении замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева можно с уверенностью сказать, что это действительно так.
Вспомним его повесть «Первая любовь». С каким пронзительным откровением написана она! Как автор заставляет нас сопереживать своему герою! Безусловно, написать такое, не испытав самому, трудно.
Давайте обратим внимание на эти строки:
«О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, – где вы, где вы?»
Кому посвящены эти строки из повести «Первая любовь»?
Так и хочется воскликнуть вслед за Генрихом Гейне: «Где вы, сладкие томленья, робость юного осла!»
Наверное, состояние, которое вызывает первая любовь, в чём-то общее для всех. Так кому же посвящены Тургеневым вышеприведённые строки?
Не будем спешить с ответом. Пойдём дальше. Вот какие чувства переполняют героя повести после встречи с возлюбленной:
«…Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко... Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренно холодел при мысли, что я влюблён, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке – плыло и не проплывало; губы её всё так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно... как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошёл к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен...»
Так кто же она?
Первая любовь, которая и породила любовные лихорадки , озарила Ивана Тургенева в 14 лет. А влюблён он был в дочь графини Шаховской Екатерину, юную поэтессу. Имение Шаховских было рядом с Подмосковным имением Тургеневых. В то время Екатерине было 18 лет. В своей повести Тургенев несколько увеличил возраст героев, вероятно, потому что, по его мнению, читателям всё же трудно воспринимать всерьёз влюблённость четырнадцатилетнего отрока. А между тем, первая любовь Тургенева была на самом деле столь сильной, что возраст не имел серьёзного значения, во всяком случае, для него. Ну а что касается его возлюбленной, то уже в те юные годы Ивана Тургенева стало преследовать то, что называют несчастием в любви.

Екатерина Шаховская давала ему надежду, возможно, играя с юным возлюбленным, а, быть может, преследуя какие-то свои цели. По отзывам современников, юная княгиня была необыкновенно красива, грациозна, игрива, вела себя бойко и шаловливо. Любила подшучивать над многочисленными поклонниками, которых, наверное, не принимала всерьёз, поскольку тот, кто нашёл путь к её сердцу, не мог присутствовать на весёлых вечеринках в доме Шаховских. Вот тут Тургенева и ожидало разочарование, такое разочарование, которое можно назвать ударом, если учесть, что влюблённым был четырнадцатилетний отрок…
Детали отношений Тургенева и Екатерины Шаховской не известны во всех подробностях, но тут мы можем вполне допустить, что автор, показывая их в повести, не слишком далеко уходит от того, что было на само деле.
Во всяком случае, отца своего героя он точно копирует со своего родного отца:
«Отец обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей: другие заботы её поглощали. Мой отец, человек ещё молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась – но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно... Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного».
Или вот ещё:
«Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях».
А вот о взаимоотношениях с отцом:
«Странное влияние имел на меня отец – и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, но умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась – я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником... Потом он так же внезапно покидал меня – и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла».
Некоторые детали делают повесть почти автобиографичной. Даже сюжетное построение, при котором рассказчик предпочитает не передавать историю своей первой любви в разговоре, а записать её и затем прочесть, наводит на те же мысли.
А конкретные факты из биографии отца главного героя повести таковы:
«Отец мой, прежде всего и больше всего хотел жить – и жил... Быть может, он предчувствовал, что ему не придётся долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет».
Известно, что отец Тургенева Сергей Николаевич родился 15 декабря 1793 года, а умер 30 октября 1834 года. Он умер на сорок первом году жизни и даже ходили слухи, что покончил с собой из-за разрыва с Екатериной Шаховской. Но и возлюбленная ненадолго пережила его. Она вышла замуж, родила сына и вскоре после родов скончалась.
Любовные похождения Сергея Николаевича имели свои причины.
Женился он на Варваре Петровне не испытывая любви – какая любовь по расчёту. Жена была старше на 6 лет, не отличалась красотой, и он ей нередко ей изменял. Был красив собой, но простоват, ума недалёкого, да и не мог похвастать высокой культурой, если применить к нему известное определение: культура мужчины определяется его отношением к женщине.
И случилось так, что отец, которого Тургенев любил и уважал, нанёс ему душевную рану, и она вероятнее всего, в одночасье убила всякое уважение и показала всю низость доселе любимого человека. Это ярко и пронзительно описано в повести «Первая любовь» и, без всякого сомнения, написано можно сказать с натуры.
Вот один из ключевых эпизодов:
«На улице, в сорока шагах от меня, пред раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец; он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в тёмном платье и разговаривала с отцом; эта женщина была Зинаида.
Я остолбенел. Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. «Отец оглянется, – подумал я, – и я пропал...» Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха – остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я как теперь вижу её лицо – печальное, серьёзное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния – я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась – покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения... Потом послышались слова: «Vous devez vous separer de cette...»[«Вы должны расстаться с этой» (фр )] Зинаида выпрямилась и протянула руку... Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело: отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, – и послышался резкий удар по этой обнажённой до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом... Зинаида обернулась – и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна.
С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив Электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства, и всё-таки я никак не мог понять, что я такое видел... Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ её, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слёзы лились. «Её бьют, – думал я, – бьют... бьют...»
Этот эпизод Тургенев передал в повести в точности, поскольку в ней он рассказал о себе, о своём отце и о своей первой любви к юной княгине Шаховской, которая, скорее всего, добивалась того, чтобы её возлюбленный расстался с женой и женился на ней.
«Я не зарыдал, не предался отчаянию; я не спрашивал себя, когда и как все это случилось – я даже не роптал на отца... То, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня... Всё было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные».
Ну что ж, недаром в популярной в советское время песне поётся: «На то она и первая любовь, чтоб быть её не особенно удачной».
И всё же, неудача неудаче рознь. Если бы та первая отроческая любовь не оставила душевных ран, вряд ли бы мы прочитали блистательно, с пронзительным откровением написанную Тургеневым повесть «Первая любовь».
И она, эта неудача, неизгладимый след от которой остался именно потому, что причиной, как тогда наверняка казалось отроку Тургеневу, был его родной отец, не могла не наложить отпечаток на все дальнейшие увлечения, влюблённости, на те чувства любви, которые писатель испытывал ко многим женщинам. Быть может, именно в любви к юной княгине Шаховской, оборвавшейся для четырнадцатилетнего Тургенева столь трагично, нужно искать истоки тех драм на любовной ниве, которые ему довелось пережить в жизни. Ну а о том, что след остался неизгладимый, свидетельствует повесть «Первая любовь», в которой, как уже упоминалось, он с предельной точностью списал своих героев с их реальных прототипов и, дразня общественное мнение, открыто признавал, что это действительно так.
«Коснулась моих волос и сказала: «Пойдём!»
Вернёмся к словам песни: «На то она и первая любовь, чтоб стала настоящею другая»… В другом варианте песни – «вторая»…
Но во второй раз Тургенев даже не успел влюбиться…
Через год (1834 г.) после трагического для него инцидента с Зинаидой Шаховской, Тургеневы переехали в своё имение Спасское-Лутовиново, находящееся в Мценском уезде Орловской губернии.
Тургеневу исполнилось 15 лет. В Спасском развлечений было мало, но его и не слишком заботили развлечения. Игрушки его мало интересовали с детства. Любимым его занятием были прогулки по парку, по лесу, по берегу реки. Ему нравилось быть наедине с природой.
Трагедия с Шаховской – да, именно трагедия для четырнадцатилетнего отрока – постепенно забывалась, зарастала рана. Мать же, видимо, узнавшая каким-то образом о том инциденте, решила, что сыну пора познакомиться с представительницами прекрасного пола поближе. Одним словом, по её мнению, ему пора было познать близость с женщиной.
Варвара Петровна вызвала к себе миловидную крепостную, уже познавшую секреты отношений с сильным полом, и дала ей деликатное поручение – велела отправиться в парк, где прогуливался молодой барин, и соблазнить его…
О том событии, для молодого Тургенева значительном, он через много лет рассказал французскому писателю Эдмону де Гонкуру.
Анри Труайя в книге Иван Тургенев писал:
«В 14 лет Иван был юношей высокого роста, немного сутулый, с тонкими чертами лица и задумчивыми серыми глазами. Тургеневы знали Жуковского, стихотворениями которого восхищалась вся Россия, и Загоскина, автора знаменитого исторического романа «Юрий Милославский». Оба писателя, которых Иван, вероятно, встретил в одном из дворянских салонов, сошли, казалось ему, с самого Олимпа. Чтобы быть в курсе русского литературного движения, он читал журналы «Телескоп» и «Московский телеграф». Однако к его художническим увлечениям уже присоединялись увлечения любовные. Нарождавшуюся чувственность пробуждала поэзия, природа, женщина.
Он очень рано испытал физическое влечение. Это произошло в деревне на каникулах».
Вот как рассказал об этом сам Тургенев французскому писателю Эдмону де Гонкуру:
«Я был совсем юным и невинным и имел желания, которые имеют все в пятнадцать лет. У моей матери была красивая горничная. Это произошло в дождливый день – один из тех эротических дней, которые описал Доде. Начинало смеркаться. Я гулял по саду. Вдруг эта девушка подошла ко мне, коснулась моих волос и сказала: «Пойдём!» То, что последовало потом, – сенсация, подобная тем сенсациям, которые мы все испытываем. Но это лёгкое касание волос и это единственное слово я часто вспоминаю и бываю совершенно счастлив». (Гонкур. «Дневник», 27 января 1878 года.)
А ведь крепостная просто выполнила требование барыни. Связь продолжалась ровно столько, сколько считала необходимым Варвара Петровна. Она не препятствовала ночным прогулкам сына на свидание в заброшенный избе, она просто делала вид, что ничего не замечает.
Откуда же Тургенев узнал о столько необычно замысле матери? Вероятнее всего, о том рассказала ему крепостная, которая не могла не полюбить барина всею душою, хотя, наверняка и была несколько старше него. Тургенев нигде не упоминал о том, что думал он и как оценивал случившееся. Он тоже увлёкся. Да и как не увлечься женщиной, с которой испытал первую близость?! Но что это было за увлечение? Любовь или влюблённость? Ответ ясен. Мы не находим даже имени той крепостной ни в документах матери, ни, что ещё важнее, в творчестве писателя. Ведь свои переживания в четырнадцать лет он запечатлел в повести «Первая любовь». А что здесь? Быть может, он не увидел в предмете своего увлечения того важного, без чего не могут родиться стихи, рассказы, повести? Быть может, увлечение было не самой крепостной, а только лишь её телом. Ну и наслаждался он именно телом, но не общением со своей пассией. «Своими пассиями» Тургенев впоследствии звал тех барышень, которыми увлекался.
А ведь это горе – горе, когда чистый, непорочный юноша проходит азы близости с развратной женщиной. Горе для юноши. Ну, что касается крепостной, вряд ли её можно отнести к разряду развратных. Тем не менее, она уже была искушена в том, чему должна была научить пятнадцатилетнего барина. Иначе бы Варвара Петровна не дала ей подобного поручения.
Горе? С этим определением нельзя не согласиться. Тургенев выдержал два удара судьбы. Первый – неудача с Шаховской. Второй – хотя он и не казался ударом – близость по заказу, близость не по любви, а по воле матери, задумавшей таким образом преподать ему уроки интимных отношений с женщиной.
«Жизнь пронизана женским началом…»
Однажды, будучи в гостях у писателя Густава Флобера Тургенев вновь коснулся темы любви:
«Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину… Как это объяснить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое. А вы как думаете? Послушайте-ка, в молодости у меня была любовница – мельничиха из окрестностей Санкт-Петербурга. Я встречался с ней, когда ездил на охоту. Она была прехорошенькая – блондинка с лучистыми глазами, какие встречаются у нас довольно часто. Она ничего не хотела от меня принимать. А однажды сказала: «Вы должны сделать мне подарок!» – «Чего ты хочешь?» – «Принесите мне мыло!» Я принёс ей мыло. Она взяла его и исчезла. Вернулась раскрасневшаяся и сказала, протягивая мне свои благоухающие руки: «Поцелуйте мои руки так, как вы целуете их дамам в петербургских гостиных!» Я бросился перед ней на колени… Нет мгновенья в моей жизни, которое могло бы сравниться с этим!» (Гонкур. «Дневник», 2 марта 1872 года.)
Много лет спустя в повести «Первая любовь» Тургенев сделает вывод: «Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришёл к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и наслаждался этим другим вполне: «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни», – сказал он мне однажды».
Может быть, причины всех неудач на личном фронте в том, что счастье не раз, казалось, становилось уже вполне возможным, но словно злой рок разрушал всё, что намечалось, что пробивалось робкими ростками.
Ещё год назад – в год трагической любви к княгине Шаховской – Тургенев поступил на словесное отделение Московского университета. А в следующем, 1834 году он был переведён в Санкт-Петербургский университет на историко-филологический факультет. Это случилось после любовных утех в имении. Вероятно, мать решила, что сыну настала пора забыть ту, которая преподала ему первые уроки близости и к которой он привязался.
Дело о «буйстве помещика… Ивана Тургенева»
В 1834 году произошло событие, которое едва не привело к серьёзным последствиям – Тургенев вполне мог угодить на каторгу.
Всё случилось во время зимних студенческих каникул, когда Тургенев приехал в родное Спасское-Лутовиново.
Он сразу заметил отсутствие крепостной девушки Луши, которая обычно встречала его одной из первых. Она была его сверстницей, они вместе росли, и неизвестно какие их связывали отношения. Об этом история умалчивает.
Тургенев выяснил, что Луша пыталась заступиться за дворового слугу, которого Варвара Петровна собиралась жестоко наказать за какую-то незначительную провинность. Хозяйку Спасского-Лутовинова это взбесило, и она продала Лушу помещице, имение которой находилось по соседству. Помещица та была нрава ещё более жестокого, чем Варвара Петровна. Её даже прозвали Медведихой.
Тургенев попросил вернуть Лушу в имение, но вызвал ещё больший гнев Варвары Петровны против неё. И тогда он решился на крайнее – выкрал девушку и спрятал её в одной из деревень.
Медведихе не стоило большого труда узнать, куда делась её новая крепостная, и кто стоит за исчезновением. Она тут же написала жалобу в жандармское управления, причём, всё выставила так, будто бы «молодой барин и его девка бунтуют крестьян».
Тут же прибыл капитан-исправник, взял понятых в деревне и явился к избе, где Тургенев прятал Лушу. Но не тут-то было. Тургенев не оставлял Лушу одну, и всё время после похищения находился рядом с ней. Жандарму он сказал, что девушку не отдаст. Жандарм разозлился и направился к крыльцу. Тогда Тургенев поднял ружьё и заявил, что если тот сделает ещё хотя бы один шаг, будет стрелять.
Капитан-исправник отступил. Он вернулся в жандармское управление и, написал рапорт, на основании екоторого возбудили уголовное дело «О буйстве помещика Мценского уезда Ивана Тургенева».
За такой проступок можно было легко угодить на каторгу. Тут уж Варвара Петровна не на шутку испугалась за сына. Но, даже подняв на ноги всех влиятельных друзей, она не смогла окончательно замять дело. Его просто положили под сукно, и последующие двадцать семь лет Тургенев ходил под дамокловым мечом. Дело закрыли только после указа об отмене крепостного права.
И всё же Тургенев из этой схватки вышел победителем. Лушу Медведихе он так и не отдал. Ну а мать пошла навстречу, вернула деньги за Лушу, да ещё и неустойку заплатила.
Удивительно, что Тургенев никак не отозвался и на это событие в своём творчестве, ведь практически все свои важные жизненные вехи отражал в романах и повестях. А здесь, можно сказать, настоящий джентльменский, даже более того, героический поступок – и тишина.
Мы не знаем, какие отношения связывали его с Лушей. Но если учесть, что он не чурался крепостных, что первой его женщиной была крепостная, можно предположить, что и с Лушей его связывали узы, более тесные, нежели дружба. Да ведь он, выкрав девушку, остался с ней, пока их искали и затевали поимку беглянки.
Есть какая-то тайна и в том, что дело, не доведённое до суда, не было закрыто целых двадцать семь лет. Ведь оно находилось, судя по всему, не в полицейском участке, а в жандармском управлении… А это серьёзно. Впрочем, мы попытаемся приоткрыть завесу тайны в последующих главах.
Тогда и постараемся отгадать, почему Тургенев никак не коснулся этой истории в творчестве и не сделал Лушу прототипом одной из героинь своих произведений.
«Пожар на море»
А между тем, он отправился в Санкт-Петербург, и любовные страсти юности остались в Москве и в далёком Спасском-Лутовинове.
Это были годы первых публикаций, годы первых, пока ещё робких вторжений в мир литературы. А затем – продолжение учёбы за границей.
В мае 1838 года Иван Тургенев отправился в Германию на пароходе «Николай I». Это своё путешествие он отразил в очерке «Пожар на море».
Удивительные бывают встречи… На одном с Тургеневым пароходе направлялась к мужу с тремя малолетними дочками Элеонора Фёдоровна Тютчева, супруга нашего знаменитого поэта.
И вот уже неподалёку от Любека в ночь на 19 мая на пароходе начался пожар. Команде не удалось справиться с огнём, возникла смертельная опасность для пассажиров, и капитан повёл корабль к берегу, где посадил на мель. Всё бы ничего, да берег оказался скалистым, и даже добравшись до него, рано было думать о спасении. Пароход сгорел полностью на глазах спасённых и спасшихся пассажиров. Пять человек погибли.
Тургенев помогал спасать женщин. Он так описал случившееся:
«В это время я приблизился к левому борту корабля и увидел нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнах, как игрушка; два находившиеся в ней матроса знаками приглашали пассажиров сделать рискованный прыжок в неё – но это было нелегко: «Николай I» был линейный корабль, и нужно было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть шлюпки. Наконец я решился: я начал с того, что стал на якорную цепь, которая была протянута снаружи вдоль корабля, и собирался уже сделать скачок, когда толстая, тяжелая и мягкая масса обрушилась на меня. Женщина уцепилась мне за шею и недвижно повисла на мне. Признаюсь, первым моим побуждением было насильно перебросить её руки через мою голову и таким образом отделаться от этой массы; к счастью, я не последовал этому побуждению. Толчок чуть не сбросил нас обоих в море, но, к счастью, тут же, перед моим носом, болтался, вися неизвестно откуда, конец веревки, за который я уцепился одною рукою, с озлоблением, ссаживая себе кожу до крови... потом, взглянув вниз, я увидел, что я и моя ноша находимся как раз над шлюпкою и... тогда с Богом! Я скользнул вниз... лодка затрещала во всех швах... «Ура!» – крикнули матросы. Я уложил свою ношу, находившуюся в обмороке, на дно лодки и тотчас обернулся лицом к кораблю, где увидел множество голов, особенно женских, лихорадочно теснившихся вдоль борта.
«Прыгайте!» – крикнул я, протягивая руки. В эту минуту успех моей смелой попытки, уверенность, что я в безопасности от огня, придавали мне несказанную силу и отвагу, и я поймал единственных трёх женщин, решившихся прыгнуть в мою шлюпку, так же легко, как ловят яблоки во время сбора. Нужно заметить, что каждая из этих дам непременно резко вскрикивала в ту минуту, когда бросалась с корабля, и, очутившись внизу, падала в обморок. Один господин, вероятно, одуревший с перепугу, едва не убил одну из этих несчастных, бросив тяжелую шкатулку, которая разбилась, падая в нашу лодку, и оказалась довольно дорогим несессером. Не спрашивая себя, имею ли я право распоряжаться ею, я тотчас подарил её двум матросам, которые точно так же без всякого стеснения приняли подарок. Мы тотчас стали грести изо всех сил к берегу, сопровождаемые криками: «Возвращайтесь скорее! пришлите нам назад шлюпку!» Поэтому, когда оказалось не больше аршина глубины, пришлось вылезать. Мелкий, холодный дождик уже с час как моросил, не оказывая никакого влияния на пожар, но нас он промочил окончательно до костей».
Элеоноре Тютчевой чудом удалось спасти детей и спастись самой. Фёдор Иванович Тютчев писал впоследствии: «Во время кораблекрушения Элеонора почти не пострадала физически. Но получила тяжёлое нервное потрясение…»
И в эти трудные минуты рядом с супругой великого поэта оказался молодой Тургенев, литератор начинающий. Вот как он описал этот момент в очерке «Пожар на море»:
«В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа Т..., очень хорошенькая и милая, но связанная своими четырьмя дочками и их нянюшками; поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая, с едва прикрытыми плечами. Я почёл нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и даже сапог; кроме того, крестьянин с тележкой, запряжённой парой лошадей, за которым я сбегал на верх утесов и которого послал вперёд, не нашёл нужным дождаться меня и уехал в Любек со всеми моими спутницами, так что я остался один, полураздетый, промокший до костей, в виду моря, где наш пароход медленно догорал. Я именно говорю «догорал», потому что я никогда бы не поверил, что такая «махинища» может быть так скоро уничтожена. Это было теперь не более, как широкое пылающее пятно, недвижимое на море, изборождённое чёрными контурами труб и мачт и вокруг которого тяжёлым и равнодушным полётом сновали чайки, – потом большой сноп золы, испещрённый мелкими искрами и рассыпавшийся широкими кривыми линиями уже по менее беспокойным волнам. И только? подумал я: и вся наша жизнь разве только щепотка золы, которая разносится по ветру?»
Так Тургенев вступил во взрослую жизнь…
Прошли годы, и он написал о своей далёкой уже в ту пору юности:
«За несколько недель молодости, самой глупой, изломанной, исковерканной, но молодости – отдал бы я не только мою репутацию, но славу действительного гения, если б я был им».
Глупая, изломанная, исковерканная молодость… Она прошла, но оставила отпечаток на всю жизнь. Впрочем, взрослая жизнь не избавила от опеки матери. Мать постоянно наставляла его, да ещё как наставляла! Она откровенно радовалась, решив, что Иван стал любовником госпожи Тютчевой. Она писала сыну: «Я тебе советовала прочитать «Сорокалетнюю женщину». Это мой ответ на письмо о Тютчевой. Я прошу тебя взять эту книгу и прочитать её. Я тебе искренне желаю такую женщину, старую… Для мужчины такие женщины – состояние. Слава Богу, если ты соединишься с такой на некоторое время».
Что касается этого увлечения, то что-то тут не так – возможно, мать пользовалась ложными слухами, поскольку, если Тургеневу и приглянулась эта дама, то она, скорее всего, об этом и не подозревала. Да и жить ей оставалось совсем недолго. Она уже была больна. Наверное, мать не поняла, кем увлечён Иван Сергеевич, а увлечён он был дочерью Тютчева, вовсе не сорокалетней. Но было это несколько позднее.
«И ты срываешь стебель зыбкий…»
Из заграницы Тургенев проехал прямо в Спасское-Лутовиново, к матери. Там-то он встретил белошвейку Авдотью Ермолаевну Иванову, мещанку, приехавшую из Москвы и устроившуюся на работу в имении по вольному найму. Она не была крепостной, а потому на неё не распространялась вся полнота власти суровой владетельницы имения. Тем не менее, Варвара Петровна, узнав о том, что сын тайно встречается с девушкой, которая, по её мнению, да и по существующим правилам, неровня ему, возмутилась до крайности и решила разорвать эту порочную связь дворянина с мещанкой.
Что же это была за девушка? Вероятно, мы можем найти её образ в одном из произведений Тургенева. И это, скорее всего, роман «Дворянское гнездо». Отец Лаврецкого полюбил милую, скромную дворовую девушку. Как это случилось? Да очень просто. После столицы в деревенской глуши было особенно скучно. Вспомним роман:
«Только с матерью своею он (Лаврецкий – Н.Ш.) и отводил душу и по целым часам сиживал в её низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка, с ясными, кроткими глазками и тонкими чертами лица, по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого разу приглянулась Ивану Петровичу; и он полюбил её: он полюбил её робкую походку… тихий голосок, тихую улыбку; с каждым днём она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязаться – и отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина…»
Здесь, несомненно, Тургенев описывает свою любовь, которая, впрочем, натолкнулась на серьёзное сопротивление матери, действовавшей в сложившейся ситуации своенравно. Варвара Петровна повелела немедля изгнать белошвейку из Спасского.
Авдотье Ивановной пришлось уехать в Москву. Она сняла комнатку на Пречистенке и продолжила работу на дому. Уехала же беременной и в апреле родила девочку. Дочку вскоре забрали в Спасское, а Авдотья Иванова была стараниями Варвары Петровны выдана замуж. Тургенев вплоть до смерти Авдотьи – она умерла в 1875 году – выплачивал ей пенсию. Очень похоже, что рассказывая о судьбе дворовой девушке, возлюбленной Ивана Петровича Лаврецкого, Тургенев как говорится «скалывал с себя», описывая своё увлечений белошвейкой. Он показал героиню романа «тихим и добрым существом, неведомо, зачем выхваченным из родной почвы и тотчас же брошенным, как вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нём».
Примерно в 1842-43 годах Тургенев снова коснулся образа Авдотьи Ивановой в стихотворении «Цветок»:
Тебе случалось – в роще тёмной,
В траве весенней, молодой
Найти цветок простой и скромный?
(Ты был один – в стране чужой.)
Он ждал тебя – в траве росистой
Он одиноко расцветал…
И для тебя свой запах чистый,
Свой первый запах сберегал.
И ты срываешь стебель зыбкий,
В петлицу бережной рукой
Вдеваешь с медленной улыбкой
Цветок, погубленный тобой.
И вот идёшь дорогой пыльной;
Кругом – всё поле сожжено,
Струится с неба жар обильный,
А твой цветок завял давно.
Он вырастал в тени спокойной,
Питался утренним дождём
И был заеден пылью знойной,
Спалён полуденным лучом.
Так что ж? Напрасно сожаленье!
Знать, он был создан для того,
Чтобы побыть одно мгновенье
В соседстве сердца твоего.
«Первая встреча – последняя встреча…»
В 1943 году Тургенев написал удивительное стихотворение, впоследствии ставшее романсом, и доныне волнующим сердца. Романс печален, как печальны расставания с любовью. Вот только расставание с какой любовью или с каким страстным увлечением отражено в романсе? Биографы до сих пор спорят, кому посвящены удивительные, проникновенные строфы, то ли милой белошвейке, подарившей Тургеневу дочь, то ли другой его возлюбленной – сестре в будущем известного анархиста, фактически ставшего идеологом анархизма, Михаила Александровича Бакунина. Вспомним этот замечательный романс:
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые...
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные, страстные речи,
Взгляды, так жадно и нежно ловимые,
Первая встреча, последняя встреча,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая говор колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
Итак, 1841 год. Тургенев вернулся из-за границы и сразу отправился в Спасское-Лутовиново. Летом его озарил роман с белошвейкой, жёстко прерванный матерью. Вот тогда, наверное, и вспомнил он о приглашении в Премухино, имение Бакуниных. Пригласил в гости Михаил Бакунин, с которым Тургенев сдружился во время заграничной своей учёбы. Но пригласил к братьям и сёстрам, поскольку сам оставался в это время за границей.
Ещё из Берлин он писал домочадцам письма, в которых постоянно упоминал о своём новом друге Иване Тургеневе. Бакунин прямо говорил, что дружбу с Тургеневым считал «счастливым событием в своей жизни».
Собираясь в Премухино, Тургенев просил Бакунина: «…Скажи им обо мне, как о человеке, который тебя любит; больше ничего».
И вот когда весною 1841 года, закончив слушание намеченного цикла университетских лекций, Тургенев стал готовиться к отъезду в Россию, Бакунин написал своим братьям и сестрам, что друг его оставляет Берлин и скоро обязательно посетит Премухино. «Примите его, как друга и брата, потому что в продолжение всего этого времени он был для нас и тем и другим, я уверен, никогда не перестанет им быть. После вас, Бееровых и Станкевича он единственный человек, с которым я действительно сошёлся. Назвав его своим другом, я не употреблю всуе этого священного и так редко оправдываемого слова… Он делил с нами здесь и радость и горе… Он не может вам быть чужим человеком. Он вам много, много будет рассказывать о нас и хорошего, и дурного, и печального, и смешного. К тому же он мастер рассказывать – не так, как я, – и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите».
Тургенев из рассказов Бакунина ещё задолго до поездки знал, что у того шесть братьев и четыре сестры. С двумя младшими братьями Михаила – Алексеем и Александром – даже успел познакомиться в Москве.
Они были восхищены Тургеневым и писали брату Михаилу: «Чудный, живой, одухотворяющий человек! Как он рассказывает! Будто сам вместе с ним всё видишь и переживаешь!..»
И вот осенью 1841 года Иван Сергеевич отправился в Тверскую губернию, в Премухино.
Он уже знал о том, что все четыре сестры его друга Михаила Бакунина –Варвара, Любовь, Александра, Татьяна – посещали в Москве философский кружок Станкевича.
Знал он и о несчастливой судьбе сестёр.
Старшая сестра, Любовь Александровна, полюбила писателя и публициста Николая Владимировича Станкевича. Они и познакомились на занятиях кружка. Однажды, Михаил Бакунин пригласил Николая Станкевича погостить в имении Бакуниных Премухино. Там знакомство Любы и Николая переросло в любовь. И он даже сделал предложение… Однако, вскоре ему пришлось ехать в Москву. Правда, и после отъезда отношения не только не прекратились, но развивались с помощью нежных и ласковых, искренних писем. Но чем ближе был день свадьба, тем прохладнее становилось отношение жениха к невесте. В конце концов, он понял, что любовь ушла, и женитьба не принесёт счастья ни ему, ни его невесте.
Люба была достаточно проницательна, чтобы не понять всего трагизма ситуации. Станкевич же молчал, полагая, что стоит объявить о разрыве, каак это убьёт девушку, чрезвычайно мечтательную, эмоциональную.
Трудно сказать, как бы он вышел из этого положения, но тут подкралась серьёзная болезнь, и врачи стали настаивать на его лечении за границей.
Он решился выполнить их требования, но вначале поехал не за границу, а на Кавказ, на воды, так и не решившись на объяснения с невестой. Даже не простился с нею. Понимал, что при прощании вынужден будет сказать всю правду о своих угасших чувствах. Целебные воды Кавказа не принесли облегчения. Оставались надежды на заграницу.
В 1837 г. он вынужден был отправиться на лечение в Карловы Вары. А в это время в Берлинском университете учились Грановский и Неверов.
Что тут поделать? Станкевич не выдержал и отправился к ним. Решил вернуться к студенческой жизни, поселился у своей сестры и организовал философский кружок, в котором вскоре появились Иван Тургенев и Михаил Бакунин.
Но прогрессировавшая болезнь заставила отправиться в Италию уже для более серьёзного лечения.
Взятый за горло жестокой болезнью, он продолжал надеялся, что Любовь Александровна простит его именно по причине болезни, что она ещё некоторое время будет в плену иллюзий по поводу их отношений. Но любящее сердце молодой женщины нельзя обмануть. Люба видела перемену в их отношениях и сделала верные хоть и печальные для себя выводы.
Разлука безо всяких надежд на встречу, во всяком случае, на встречу радостную, сразила её. А тут прибавилась неопределённость положения – ещё недавно она была невестой, но кем же стала теперь, после отъезда без прощания? Она умерла в августе 1838 года от чахотки.
Смерть некогда любимой женщины отразилась и на Николае Станкевиче.
Он написал:
«В ней я потерял не ту, которую любил, но которой жизнь, может быть, сделал бы безотрадной. Судьба кончила всё, как обыкновенно кончает: она разложила вину. Её память освещает душу мою, которую сушила неестественность положения».
Он часто повторял, что разлюбил Любовь, которая осталась для него вечным духовным идеалом.
Вскоре чахотка сразила и его. Судьбе было угодно распорядиться так, что умирал он на руках у Варвары Александровны, сестры его позабытой любви. Она нашла его в Италии за месяц до смерти.
Нелёгкой была судьба Варвары Александровны. Она вышла замуж за тверского помещика Дьякова, но вскоре поняла, что не любит его и даже обществом его тяготится. Взяв трёхлетнего сына Александра, она уехала за границу и уже там узнала, что Николай Станкевич в Италии. Они встретились. Это была особенная встреча. Тогда, внутренне свободные – он от романа с её сестрой, она – от необходимости быть с мужем, поняли, что давно уже любят друг друга. Но и тут не суждено было насладиться счастьем любви. Николай Станкевич угасал на глазах и в один из дней заснул, измученный болезнью, у неё на руках. Во сне перестало биться сердце.
Обо всём этом Тургенев знал, отправляясь в гости к Бакуниным.
Усадьба их располагалась на живописном берегу реки Осуга в селе Премухино Кувшиновского уезда Тверской губернии (ныне Прямухино Кувшиновского района Тверской области). В первой половине девятнадцатого века там нередко гостили известные литераторы, деятели культуры. Приезжали в гости Виссарион Белинский, Тимофей Грановский, а позднее Лев Толстой (1881) и Максим Горький (1897). Горький даже поселился неподалеку, в Кувшиново.
Возможно, «Жизнь Клима Самгина» написана под влиянием впечатлений от этих мест.
Ну а жизнь Бакуниных в усадьбе отразил не раз приезжавший в имение Том Стоппард в пьесе «Берег утопии». Имение славилось большим живописным парком, который спускался от главного входа в господский дом к берегу Осуги.
В 1830-1840-х годах семья Бакуниных играла значительную роль в развитии русской общественной мысли и литературы тех времен, благодаря своей связи с кружком Станкевича. В 1836 году Михаил Бакунин построил в Прямухино Троицкую церковь, которая сохранилась до наших дней.
Но имение привлекало не только своим живописным расположением, но и, конечно же, своими обитателями.
И вот Тургенев прибыл в эти чудные края. Стоял октябрь 1841 года. Среди сестёр Михаила, вышедших встречать Ивана Сергеевича, была и младшая из них Татьяна Александровна Бакунина. Тургенев не мог не обратить на неё внимания сразу, с первого взгляда. Что это было за создание?! Белинский, приезжавший в Премухино несколько раньше, написал:
«Что за чудное, прекрасное создание Татьяна Александровна! Эти глаза, тёмно-голубые и глубокие как море; этот взгляд внезапный, молниеносный, долгий как вечность, по выражению Гоголя; это лицо кроткое, на котором ещё как будто не изгладились следы жарких молений к небу – нет, обо всём этом не должно говорить, не должно сметь говорить».
Такой и увидел её Тургенев, который, однако, не сразу поддался своим чувствам. И были на то причины. Татьяне Александровне шёл двадцать седьмой год. Тургеневу исполнилось двадцать три. С ней было интересно, поскольку образование получила она прекрасное, много читала, великолепно музицировала, говорила не нескольких языках. Разбиралась в искусстве, любила поэзию.
Сближение с Тургеневым произошло именно на почве философии. Причём, инициатором этого сближения была сама Татьяна. Да это и понятно. Когда девушке идёт двадцать седьмой год, неизбежно возникает тоска по уходящей молодости. И всё более призрачными становятся мечты о сказочном принце, который всё никак не является пред её очами.
И вот он появился! И его имя Иван Тургенев. О нём писал Михаил, им восхищались младшие братья Александр и Алексей.
Татьяну не могли не охватить волнения и смутные предчувствия чего-то необыкновенного, значительного, что могло произойти в её жизни и судьбе.
С Тургеневым и время летело незаметно. Они обсуждали философские книги, совершали прогулки по прекрасному парку, спускаясь к берегу реки. Любовались живописными пейзажами и говорили, говорили, говорили…
Тургенев ещё ничего не подозревал, а Татьяна уже начинала думать, что всё не случайно, что, наконец, в жизни её появился избранник… Всё восхищало в нём: и манера говорить и страстность в оценке людей, событий, книг. К тому же Тургенев был красив.
«Он был очень красив», – написал о нём князь Пётр Алексеевич Кропоткин.
Кстати, именно Кропоткин оставил великолепный словесный портрет писателя:
«Внешность Тургенева хорошо известна. Он был очень красив: высокого роста, крепко сложенный, с мягкими седыми кудрями. Глаза его светились умом и не лишены были юмористического огонька, а манеры отличались той простотой и отсутствием аффектации, которые свойственны лучшим русским писателям. Голова его сразу говорила об очень большом развитии умственных способностей…»
Не случайно Ивану Сергеевичу симпатизировали многие женщины, не случайно ему удавалось заводить романы довольно легко.
Роман с Татьяной Бакуниной нашёл своё отражение в рассказе «Андрей Колосов» и целом ряде стихотворений.
Вот одно из них, посвящённое именно Татьяне Бакуниной:
Осенний вечер… Небо ясно,
А роща вся обнажена –
Ищу глазами я напрасно:
Нигде забытого листа
Нет – по песку аллей широких
Все улеглись – и тихо спят,
Как в сердце грустном дней далёких
Безмолвно спит печальный ряд.
1842
Сначала возникла дружба. И Тургенев, и Татьяна увлекались в то время немецкой идеалистической философией. Их сблизила не только философия, скорее наоборот – философия одновременно и сближала и отталкивала. Были на то причины. Их сблизили стихи. И хотя Тургенев прогостил в Премухине всего шесть дней, он успел за это время пройти сердечный путь от дружбы, до симпатии, от симпатии до влюблённости, в которой, впрочем, признался себе не сразу, а может быть и от влюблённости до любви. Те немногие дни, все напролёт, они проводили вместе. Более всего Татьяна Бакунина любила, когда Тургенев читал ей стихи, причём читал он не только и не столько свои. Он читал стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова, Кольцова.
Впоследствии Татьяна Бакунина вспоминала, как однажды Тургенев сказал ей:
– Поэзия – язык богов. Но не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо – отовсюду веет красотой и жизнью; а где красота и жизнь, там и поэзия.
Поначалу Тургенев, который был всё-таки моложе на три года, воспринимал Татьяну, как старшую сестру. И часто сестрой и называл. Это совсем не нравилось Татьяне, поскольку увлечение юным писателем росло день ото дня. Но однажды Иван Сергеевич назвал Татьяну своей Музой. Это вдохновило её, заставило поверить в то, что и он увлечён ею, что вот-вот последует объяснение в любви. Но Тургенев ещё и сам не понимал, каково его истинное отношение в молодой и очень привлекательной женщине.
Настала пора отъезда. Иван Сергеевич с грустью покидал Премухино, где даже за столько короткий срок всё стало для него родным и близким.
Встретившись в Москве с братом Татьяны Алексеем, он попросил написать в Премухино, что навсегда останутся в его памяти дни, проведённые там, что он всех любит бесконечно.
А потом вдруг решил написать Татьяне сам. Письмо завершалось несколько загадочно…
«Я знаю, что вы не любите, когда вам говорят о вашем здоровье. Я хотел бы сказать одно. Вам должно бы знать, что ваша жизнь может приобрести и для других высокое и святое предназначение – да и кто знает, не случилось ли это уже?»
Что означают эти фразы? Уж не то ли, что вовсе не платоническим был Премухинский роман? Высокое и святое предназначение? Политика? Философия? А может быть материнство?
А в следующем письме уже высказал желание встретиться, но тут же и огорчил Татьяну тем, что не с нею одной он мечтает о встрече:
«Приезжайте в Москву, милые, милые мои сёстры! Прошу помнить обо мне, и знайте (как Пушкин сказал), что
Ваша тихая пустыня,
Последний, грустный звук речей,
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей».
Татьяна была влюблена, а потому часто выдавала желаемое за действительное. Она стремилась не замечать обращение к сёстрам, старалась обратить всё на себя. Она не знала, как вести себя, она торопила события, не в силах сдерживать чувства и решилась на объяснение:
«…расскажите, кому хотите, – писала она, – что я люблю Вас, что я унизилась до того, что сама принесла к ногам Вашим мою непрошеную, мою ненужную любовь. И пусть забросают меня каменьями…»
Тургенев не ожидал такого поворота и написал:
«Я никогда ни одной женщины не любил более Вас, хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью».
Вскоре и сама Татьяна осознала, что Тургенев не любил её и «всё это было не более, как фантазия разгорячённого воображения».
И, тем не менее, Премухинский роман оставил заметный след в творчестве писателя.
«Не быть нам никогда с тобой, о друг мой милый»
Через три года после памятной поездки у Тургенева родился замысел рассказа «Переписка». Он начал работу над ним, но что что-то мешало, не давало развернуться, окунуться во всю глубину происшедшего.
Так и не получился рассказ с первого захода. Он отложил его и вернулся к работе над ним лишь спустя десять лет, причём снова, как и в повети «Первая любовь» не скрывал, кто является прототипами произведения, а в тексте использовал письма Татьяны Бакуниной к нему и свои письма к ней.
Марья Александровна в рассказе, несомненно, Татьяна Александровна. Тургенев прячет авторство – он ведёт рассказ от «я», но о переписке повествует герой рассказа.
«Я бы мог вам рассказать кое-что о Марье Александровне, любезный читатель, но вы её узнаете сами из её писем».
Явный намёк на узнаваемость Татьяны Александровны… Далее как бы представление читателю героя…
«…Он находился тогда в Петербурге, внезапно уехал за границу, занемог и в Дрездене умер. Я решился напечатать его переписку с Марьей Александровной...»
Вот строки из писем, использованных в рассказе:
От Алексея Петровича к Марье Александровне:
«…я не стану предлагать вам мою дружбу и т. д.; я вообще чуждаюсь торжественных речей и «задушевных» излияний. Начав писать это письмо, я просто следовал какому-то мгновенному влечению; если во мне таится другое чувство, пусть оно и останется пока под спудом….»
А вот следующее письмо из рассказа:
«…В молодости меня занимало одно: моё милое я; я принимал своё добродушное самолюбие за стыдливость; я чуждался общества – и вот теперь я сам себе надоел страшно. Куда деться? Я никого не люблю; все мои сближения с другими людьми как-то натянуты и ложны; да и воспоминаний у меня нет, потому что во всей моей прошедшей жизни я ничего не нахожу, кроме собственной моей особы. Спасите меня; вам я не клялся восторженно в любви: вас я не оглушал потоком болтливых речей; я довольно холодно прошёл мимо вас, и оттого именно решаюсь теперь прибегнуть к вам. (Я и прежде об этом подумывал, да вы тогда не были свободны...) Среди всех моих самодельных ощущений, радостей и страданий, единственно истинным чувством было то небольшое, но невольное влечение к вам, которое завяло тогда, как одинокий колос среди негодных трав... Дайте мне хоть раз посмотреть в лицо другое, в другую душу – моё собственное лицо мне опротивело; я похож на человека, который был бы осужден весь свой век жить в комнате с зеркальными стенами... Я не требую от вас никаких признаний – о, Боже, нет! Подарите меня безмолвным участием сестры или хоть простым любопытством читателя – я вас займу, право займу».
Вспомним стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы» и ещё одно… «В дороге», ибо между ними много сходства. И это сходство далеко не случайно. В этом позднем своём произведении Тургенев мысленно возвращается в юность и вспоминает «весёлый шум семейной деревенской жизни», увлечение юной красавицей.
Во второй строфе стихотворения «В дороге» появляется противоречие – даётся конкретное сопоставление пережитого прошлого и новых умонастроений поэта. В кругу, который он оставил, много и увлечённого говорили («Вспомнишь обильные страстные речи…»), но сам автор рассказывает об этом предельно лаконично. Его память удержала не столько содержание разговоров, сколько взгляды, мимолётные впечатления и переживания кризисных моментов отношений («первые встречи, последние встречи»).
Письма Татьяны Бакуниной к Тургеневу носили отпечаток господствующего тогда стиля «романтических излияний» вошедших в ту пору в моду. Молодежь конца 1830 – начала 1840-х годов заразилась идеализмом, которому и был свойственен многословный, преувеличенно-эмоциональный стиль изложения. Тургенев не принимал такое повествование, не подражал ему в своих письмах и первых художественных произведениях. Это самое неприятие в значительной степени повлияло на его личную, тургеневскую манеру выражения мысли, на изображение чувств героев произведений. Он придерживался более лаконичного письма. Быть может, именно переписка с Татьяной Бакуниной сыграла роль в выработке стиля повествования и помогла быстро избавиться от романтизма, столь популярного в то время.
К примеру, в очерке «Татьяна Борисовна и её племянник» он даже издевался над непомерно возвышенными оборотами речи восторженной девицы и, повествуя о романе её со студентом, показал как своими «экстатическими, эффектированными» речами и письмами Татьяна Борисовна буквально «довела… юношу до мрачного состояния».
Таким образом, Тургенев выбросил из своего творчества неуместные по его мнению обороты болезненного романтизма. Это мы видим уже в стихотворении «В дороге». В нём особенно ярко проявились особенности творческого сознания писателя. В русской поэзии особенно популярным был «образ дороги». Достаточно вспомнить Пушкина, Лермонтова… Правда у Пушкина образ дороги, порою, ассоциировался с «бессодержательностью подобной поэзии». В «Евгении Онегине» есть такие строки:
…Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка…
«Премухинский» роман вылился в новый творческий порыв. Сколько стихотворений посвящено Татьяне Бакуниной! Это и «В ночь летнюю, когда, тревожной грусти полный...»…
В ночь летнюю, когда, тревожной грусти полный,
От милого лица волос густые волны
Заботливой рукой
Я отводил – и ты, мой друг, с улыбкой томной
К окошку прислонясь, глядела в сад огромный,
И тёмный и немой...
В окно раскрытое спокойными струями
Вливался свежий мрак и замирал над нами,
И песни соловья
Гремели жалобно в тени густой, душистой,
И ветер лепетал над речкой серебристой...
Покоились поля.
Ночному холоду предав и грудь и руки,
Ты долго слушала рыдающие звуки –
И ты сказала мне,
К таинственным звездам поднявши взор унылый:
«Не быть нам никогда с тобой, о друг мой милый,
Блаженными вполне!»
Я отвечать хотел, но, странно замирая,
Погасла речь моя... томительно-немая
Настала тишина...
В больших твоих глазах слеза затрепетала
А голову твою печально лобызала
Холодная луна.
Ноябрь 1843
Премухинский цикл это и «Когда с тобой расстался я...» и «Долгие, белые тучи плывут...», и «Дай мне руку – и пойдём мы в поле...»
Когда с тобой расстался я –
Я не хочу таить,
Что я тогда любил тебя,
Как только мог любить…
А вот «Долгие, белые тучи плывут...»…
Долгие, белые тучи плывут
Низко над тёмной землею...
Холодно... лошади дружно бегут,
Еду я поздней порою...
Еду – не знаю, куда и зачем.
После подумать успею.
Еду, расставшись со всеми – совсем,
Со всем, что любить я умею.
Молча сидит и не правит ямщик...
Голову грустно повесил.
Думать я начал – и сердцем поник,
Так же, как он, я невесел.
«Дай мне руку – и пойдём мы в поле…»
Чем дальше уносило время от той прекрасной поездки, тем острее чувствовалась грусть по минувшему. Тургенев писал всё новые и новые стихи. Это были страницы его романа с Татьяной Бакуниной. Страницы – в поэзии, наверное, более яркие, чем в жизни.
Каждое стихотворение, как песня. Каждое – поэтический шедевр.
Дай мне руку, и пойдём мы в поле,
Друг души задумчивой моей…
Наша жизнь сегодня в нашей воле,
Дорожишь ты жизнию своей?
Если нет, мы этот день погубим,
Этот день мы вычеркнем шутя.
Всё, о чём томились мы, что любим, –
Позабудем до другого дня…
Пусть над жизнью пёстрой и тревожной
Этот день, не возвращаясь вновь,
Пролетит, как над толпой безбожной
Детская, смиренная любовь…
Светлый пар клубится над рекою,
И заря торжественно зажглась.
Ах, сойтись бы я хотел с тобою,
Как сошлись с тобой мы в первый раз.
«Но к чему, не снова ли былое
Повторят?» – мне отвечаешь ты.
Позабудь всё тяжкое, всё злое,
Позабудь, что расставались мы.
Верь: смущён и тронут я глубоко,
И к тебе стремится вся душа
Жадно так, как никогда потока
В озеро не просится волна…
Посмотри… как небо дивно блещет,
Наглядись, а там кругом взгляни.
Ничего напрасно не трепещет,
Благодать покоя и любви…
Я в себе присутствие святыни
Признаю, хоть недостоин ей.
Нет стыда, ни страха, ни гордыни.
Даже грусти нет в душе моей…
О, пойдём, и будем ли безмолвны,
Говорить ли станем мы с тобой,
Зашумят ли страсти, словно волны,
Иль уснут, как тучи под луной, –
Знаю я, великие мгновенья,
Вечные с тобой мы проживём.
Этот день, быть может, – день спасенья.
Может быть, друг друга мы поймём.
Весна 1842
Так что же это было? Простое увлечение? Мимолётная влюблённость? А, может, всё-таки любовь?
Под впечатлениями романа с Татьяной Бакуниной написаны повести «Андрей Колосов» в 1844 году, «Переписка» в 1854 году и сатирический рассказ «Татьяна Борисовна и её племянник» в 1848 году.
Все эти произведения явились как бы отражением юношеских увлечений Тургенева, его первой влюблённости, а может и любви, хотя биографы склонны считать, что была у писателя лишь одна настоящая всепобеждающая любовь – любовь к Полине Виардо. Но так ли это?
«Кто сказал, что некрасива?»
Осенью 1843 года Тургенева захватило новое чувство, едва ли не самое сильное в его жизни. 1 ноября 1843 года он был представлен Полине Виардо, которую незадолго до того увидел на сцене, в опере.
Имя Полина Виардо было широко известно. Причём в России оно известно до сих пор и известно не просто так – имя певицы связано с Иваном Сергеевичем Тургеневым.
Полина Виардо приехала на гастроли в России в 1843 году, когда ей было всего 22 года, но в этом возрасте она уже покорила Европу настолько, что известный французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель того времени Гектор Берлиоз назвал «одной из величайших артисток прошлой и современной истории музыки».
Она буквально взрывала театральные залы Европы необыкновенной манерой исполнения. Певица – в жизни, по отзывам современников, некрасивая – на сцене словно перерождалась. А некрасива она была настолько, что Генрих Гейне сравнил её внешность «с экзотическим и чудовищным пейзажем, некой стихией, самой Природой».
И, несмотря на это её обожала публика.
Полина Виардо вдохновила Жорж Санд на создание образа героини её знаменитого романа «Консуэлло». А была она роста невысокого, сутулилась, буквально отталкивали выпуклые крупные глаза, делавшие черты лица почти мужскими. Поистине «экзотический и чудовищный пейзаж». Когда выходила на сцену, все поражались некрасивостью, но едва начинала петь, зрители приходили в восторг. Современник Виардо французский композитор, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель Шарль-Камиль Сен-Санс отмечал, что «...её голос, не бархатистый и не кристально-чистый, но скорее горький, как померанец, был создан для трагедий, элегических поэм, ораторий».
Так кто же она, женщина, покорившая Тургенева?
Полина Виардо родилась в 1821 году. Её крестной матерью стала княгиня Прасковья Андреевна Голицына, которая и дала ей имя Полина. Это событие связало будущую певицу с Россией почти с рождения, хотя кто тогда мог предположить, что ей выпадет судьба стать вдохновительницей великого русского писателя, по мнению современников «одного из самых неистовых певцов высокого чувства Любви!»
Отцом Полины Виардо был известный во Франции тенор Парижского итальянского театра Мануэль Гарсиа. Имя его, как певца, гремело на всех европейских сценах, но кроме того был ещё и композитором. Песни его были особенно популярны на родине, в Испании. Мать Полины, Хоакина Сичес, имела неотразимую внешность. Её называли украшением Мадридского драматического театра…
Полина была второй дочерью Мануэля и Хоакины. Она наблюдала, как родители пытались привить любовь к музыке своей старшей дочери – старшей сестре Полины – однако им практически не удавалось сделать этого.
Полину же рояль притягивал как магнит. Когда началось обучение, она дни напролёт проводила за клавишами. Сначала отец сам занимался с ней, но затем, когда увидел замечательные успехи пригласил в учителя знаменитого Ференца Листа.
Сен-Санс писал о Листе: «Когда время сотрёт лучезарный след самого великого из всех когда-либо существовавших пианистов, оно запишет в свой золотой фонд имя освободителя оркестровой музыки».
Полине легко давались не только уроки музыки, но и изучение языков. Она хорошо говорила по-испански, по-итальянски, по-французски и по-английски…
Уже в шестнадцать лет в 1837 году она начала выступать в гостиных и салонах, а вскоре стала принимать участие в концертах. Успехи на сцене привели к тому, что она отправилась в Германию в своё первое концертное турне. Затем её встретил Париж. Там старший брат Родригес Гарсиа, Мануэль Патрисио преподавал пение в Парижской консерватории. В последствии, (1848 – 1895 годах) он стал профессором Королевской академии музыки в Лондоне.
Кстати, именно в Лондоне состоялся дебют Полина Виардо, как оперной певицы. Она исполняла партию Дездемоны в «Отелло».
В театре присутствовал директор Итальянской оперы в Париже Людовик Виардо. Восхищённый её голосом, он пригласил певицу в парижский театр. В Париже Полина увлеклась французским поэтом Альфредом де Мюссе. Тогда он уже получил известность не только как поэт, но и как драматург и прозаик. Был хорош собою, молод, и девятнадцатилетняя певица готова была отдать ему руку и сердце.
И тут ей сделал предложение Людовик Виардо.
Певица оказалась перед выбором. И тогда на помощь пришла знаменитая Жорж Санд, считавшая Альфреда де Мюссе весьма ветреным и непригодным для семейной жизни человеком. Она сумела убедить юную певицу дать согласие серьёзному и уравновешенному Людовику Виардо, которого все звали в своём кругу Луи Виардо, хотя он и был много старше. Правда, сама Жорж Санд называла его «печальным, как ночной колпак», но всё же считала, что даже неплохо, что он является в некотором отношении антиподом страстной и энергичной Полины.
Иван Сергеевич Тургенев, в ту пору совсем ещё молодой литератор, увидел Полину Виардо на сцене, когда она исполняла в опере «Севильский цирюльник» партию Розины.
Позднее он вспоминал о том впечатлении:
«Не успела ещё Виардо-Гарсиа кончить свою арию, как плотина прорвалась: хлынула такая могучая волна, разлилась такая буря, какой я не видывал и не слыхивал. Я не мог дать себе отчёта, где я? Что со мной делается? Помню только, что и сам я, и всё кругом меня кричало, хлопало, стучало ногами и стульями, неистовствовало. Это было какое-то опьянение, какая-то зараза энтузиазма, мгновенно охватившая всех снизу доверху, неудержимая потребность высказаться как можно горячее и энергичнее».
А ведь ещё несколько минут назад впечатление было совершенно иным.
Едва Полина Виардо появилась на сцене, по залу пролетел шумок, ему вторили ложи… «Некрасива! Как некрасива!»
Тургенев тоже подумал: «В самом деле, некрасива!»
Но вот Полина Виардо запела… И тут же вся преобразилась, засверкали волшебным светом глаза. В зал полились непревзойдённые звуки. И Тургенев подумал: «Кто сказал некрасива? Какая нелепость? Да ни одной черты нельзя изменить в этом прекрасном лице!»
Так двадцатипятилетний и пока ещё почти неизвестный публике писатель Иван Тургенев впервые увидел любовь, которая, как считается до сих пор, стала любовью всей его жизни. Увидел и был совершенно сражён и очарован певицей.
Что же случилось? В чём причина столь быстрого и столь сильного увлечения. Конечно же, в необыкновенном таланте актрисы, в её страстности, непосредственности, в её искренности на сцене. Она вживалась в свои роли, она горела и едва ни сгорала в них. Оперный певец Рубини, современник Полины Виардо не раз говорил ей после окончания спектаклей: «Не играй так страстно: умрёшь на сцене!»
Иван Тургенев сделал всё, чтобы быть представленным певице. Ему удалось познакомиться на охоте с мужем Полины – директором Итальянского театра в Париже, известным критиком и искусствоведом – Луи Виардо. 1 ноября 1843 года Иван Сергеевич был представлен и самой Полине.
У певицы в то время было множество поклонников. Тургенев же ещё не был известен, а потому, казалось, совершенно не имел шансов. Его представили, как русского помещика, даже вовсе не писателя – о том ни слова. Сообщили лишь, что он автор нескольких посредственных стихотворений. Вполне естественно, певица поначалу и не обратила на него особого внимания. Однако, настойчивость Тургенева растопила сердце, и певица попросила своего обожателя помочь ей в изучении русского языка, без хорошего знания которого сложно петь романсы. Русские романсы ей нравились всё больше, по мере того как она прикасалась к этому бездонному кладезю.
Между тем, окружающим было видно, что Тургенев увлечён сильно и страстно.
Любовь или тайная война?
Варвара Петровна Тургенева совсем не разделяла увлечения сына и пыталась помешать развитию каких-либо отношений, хотя даже она не могла не отметить таланта певицы. Однажды заявила: «Хорошо поёт эта цыганка». Виардо была испанкой.
Остаётся загадкой, каким образом смог Тургенев против воли матери уехать после окончания гастролей вместе с Виардо и её мужем в Европу. Ведь такая поездка требовала средств, а он ещё не был известен ни в России, ни, тем более в Европе, ещё не выходили его книги, ещё не было никакого дохода.
Муж Полины Виардо был старше неё на 21 год. И при всём при этом он, судя по отзывам современников, совершенно спокойно взирал на то, как ухаживал Тургенев за его женой, даже не противился тому, что Тургенев часто останавливался в его имении.
Почему же? Ничего не замечал? Или, как считают некоторые биографы, просто «полагался на её благоразумие».
Давайте подумаем, каким образом Тургеневу удалось отправиться в заграничное путешествие, если мать, Варвара Петровна, была категорически против этой поездки и не дала на неё денег. Или, может быть, супруг возлюбленной Иваном Сергеевичем Полины Виардо взял его за границу за своё счёт? Нет, напротив, в одном из очерков о Тургеневе проскользнула мысль, что муж певицы не препятствовал отношением Полины с Тургеневым, поскольку эти отношения сулили материальные выгоды. Какие же? Каким образом он мог получить что-то за приглашение Тургенева сопровождать молодую жену?
Здесь кроется какая-то тайна. Увлечённые чтением романов Тургенева, занятые изучением его биографии, составленной так, что писатель показан целомудренным аскетом, мы не замечали многих нестыковок. И вот в 1999 году появились мемуары Юрия Дроздова «Записки начальника нелегальной разведки».
Обратимся к предисловию, сделанному автором. Она называется: «Между большими войнами ведётся война тайная».
И вот тут мы находим удивительный факт:
«В нашей истории всегда существовало деление на две части: военную разведку и разведку князя, императора, канцлера, как это было в елизаветинские и екатерининские времена. К концу XIX века во всех генерал-губернаторствах существовали тайные отделения, в которых сидели офицеры второго отдела управления генерального штаба и которые занимались разведкой, в том числе нелегальной.
Среди наших тогдашних разведчиков, в первую очередь разведчиков-нелегалов, было очень много выдающихся людей, большая часть которых известна нам как писатели, исследователи и путешественники. Тут можно вспомнить Пржевальского, Ивана Сергеевича Тургенева: Если взять период Отечественной войны 1812 года, то это – Александр Фигнер, а если уйти еще дальше в историю, можно вспомнить монаха Иакинфа Бичурина, известного своими исследованиями по Китаю».
Сведения о том, что Иван Сергеевич Тургенев был резидентом разведки Генерального Штаба Русской Армии в Европе, просачивались давно. Это уже совсем не тайна. О том, что Тургенев был резидентом, писал Юрия Яковлев, автор нашумевшей книги «ЦРУ против СССР», об этом проговаривался в бытность свою Председателем КГБ, Андропов.
И вот прямое заявление ветерана разведки. Можно ли ему верить? Судите сами. Вот официальные данные, помещённые в книге:
«За 35 лет службы в нелегальной разведке Юрий Иванович Дроздов прошёл путь от оперативного уполномоченного до начальника управления "С" Первого главного управления КГБ. Ему довелось участвовать во многих секретных операциях. Имеет правительственные награды СССР, ГДР, Польши, Кубы, Афганистана. Юрий Дроздов присутствовал в качестве «родственника» знаменитого полковника Рудольфа Абеля при его обмене на американского летчика Пауэрса, был резидентом в Китае и США, руководил операцией по взятию дворца Амина в Кабуле. Он имел непосредственное отношение к созданию, подготовке и использованию секретного подразделения советской разведки «Вымпел».
Каким образом Тургенев стал разведчиком? Прямых свидетельств об этом по понятным причинам нет. Тогда подобные факты держались в секрете. К примеру, о созданной Михаилом Богдановичем Барклаем-де-Толли перед Отечественной войной Особенной канцелярии – первого официального разведывательного органа в России – известно до крайности мало. А тут речь о резиденте… Любая утечка может привести к гибели разведчика в чужой стране.
Как тут не вспомнить мужественное заступничество Тургенева за крепостную матери, проданную жестокой соседке помещице. Ведь тогда Тургенев едва избежал суда, который, несомненно, приговорил бы его к каторге. И снисхождений бы не было – он ведь ещё не стал известным всей России писателем. Суда не было, но Тургенев находился в течении двадцати семи лет под следствием… Может быть, именно тогда ему предложили нелегальную работу за рубежом? Вот и ответ на вопрос, на какие деньги выехал он за границу вместе с семьёй Виардо? Вот и объяснение, почему мужу Полины было выгодно с материальной точки зрения приютить писателя. Насколько была посвящена в эту операцию семья Виардо, сказать трудно. Возможно, глава семьи просто клюнул на «богатого» помещика – о том, что у Тургенева не было денег своих, он мог и не знать.
По поводу того, что Тургенев влюбился без памяти, можно сказать, с первого взгляда, русская писательница Авдотья Панаева его современница писала:
«Такого влюблённого, как Тургенев, я думаю, трудно было найти другого. Он громогласно всюду и всех оповещал о своей любви к Виардо, а в кружке своих приятелей ни о чём другом не говорил, как о Виардо, с которой он познакомился».
И снова вопрос, почему «громогласно всюду и всех оповещал о своей любви» именно к Полине Виардо? О других увлечениях он громогласно никого не оповещал. Да, о них можно было прочитать в произведениях, но рассказывал он о них редко и далеко не всем.
«Позвольте мне упасть к Вашим ногам?»
Создают мнение о большой любви Тургенева к Полине Виардо его необыкновенные письма:
«Вторник, 1 (13) ноября 1850. С.-Петербург.
…Дал бы Бог, чтобы мы могли провести вместе следующую годовщину этого дня, и чтобы через семь лет наша дружба оставалась прежней.
Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые семь лет тому назад имел счастье говорить с Вами. Дом этот находится на Невском, напротив Александринского театра; Ваша квартира была на самом углу, – помните ли вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к вам... Мне приятно ощущать в себе после семи лет всё то же глубокое, истинное, неизменное чувство, посвящённое Вам; сознание это действует на меня благодетельно и проникновенно, как яркий луч солнца; видно, мне суждено счастье, если я заслужил, чтобы отблеск Вашей жизни смешивался с моей! Пока живу, буду стараться быть достойным такого счастья; я стал уважать себя с тех пор, как ношу в себе это сокровище. Вы знаете, – то, что я вам говорю, правда, насколько может быть правдиво человеческое слово... Надеюсь, что вам доставит некоторое удовольствие чтение этих строк... а теперь позвольте мне упасть к Вашим ногам».
Вот так – один взгляд и почти сорок лет страстной, неподражаемой, всепобеждающей любви. Любви, споры о который не смолкают почти два столетия. Любви почти постоянной, которую не смогли победить даже случавшиеся время от времени увлечения Тургенева и даже попытки построиться семейную жизнь. Они наталкивались на его чувства к Полине Виардо и не могли победить их, а не имея возможности победить, погибали.
Письма же свидетельствуют и о неизменности писателя. Они говорят сами за себя:
Вторник, 1 ноября 1850. Письмо из Санкт-Петербурга. После знакомства прошло ровно семь лет, но Тургеневу всё памятно, всё дорого:
«...Дал бы Бог, чтобы мы могли провести вместе следующую годовщину этого дня, и чтобы и через семь лет наша дружба оставалась прежней...»
Это письмо уже приведено выше. А уже 7 ноября 1850 написано следующее:
«Дорогая моя, хорошая m-me Виардо, theuerste, lieb-ste, beste Frau, как вы поживаете? Дебютировали ли вы уже? Часто ли думаете обо мне? нет дня, когда дорогое мне воспоминание о вас не приходило бы на ум сотни раз; нет ночи, когда бы я не видел вас во сне. Теперь, в разлуке, я чувствую больше, чем когда-либо, силу уз, скрепляющих меня с вами и с вашей семьей; я счастлив тем, что пользуюсь вашей симпатией, и грустен оттого, что так далек от вас! Прошу небо послать мне терпения и не слишком отдалять того, тысячу раз благословляемого заранее момента, когда я вас снова увижу!»
И снова письма, письма, письма:
«Уверяю Вас, что чувства, которые я к Вам испытываю, нечто совершенно небывалое, нечто такое, чего мир не знал, что никогда не существовало и что вовеки не повторится!»
Или:
«О мой горячо любимый друг, я постоянно, день и ночь, думаю о Вас, и с такой бесконечной любовью! Каждый раз, когда Вы обо мне думаете, Вы спокойно можете сказать: «Мой образ стоит теперь перед его глазами, и он поклоняется мне». Это буквально так».
Мы не можем сомневаться в искренности этих писем, точнее, у нас нет права на сомнения. Но ведь известно, что в то время письма нередко вскрывались соответствующими службами. Особенно письма из России в Европу. Может и не все, но вскрывались. Могли прочитываться кем-то и письма Тургенева… А он вёл себя как горячо влюблённый и в письмах и в жизни. Лишь в 1845 году вернулся в Россию, но уже в январе 1847 года снова помчался за границу, едва узнав, что у Виардо начинаются гастроли в Берлине. Затем он сопровождал её во время гастролей в Лондоне и Париже.
Сохранились некоторые его письма того периода:
«Ах, мои чувства к вам слишком велики и могучи. Я не могу жить вдали от вас, – я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею, – день, когда мне не светили ваши глаза, – день потерянный».
А вот другое письмо:
«Здравствуй, моя любимая, самая лучшая, самая дорогая моя женщина... Родной мой ангел... Единственная и самая любимая...»
Письма весьма откровенны. Отчего же так спокойно реагировал на них супруг Полины Виардо? Н могла же она скрыть эту страстную переписку. Во всяком случае, всегда тайная переписка может стать явной. А писем было слишком много…
Были, конечно, и просто о творчестве:
«Господи! Как я был счастлив, когда читал Вам отрывки из своего романа (Тургенев читал своей возлюбленной роман «Дым») Я буду теперь много писать, исключительно для того, чтобы доставить себе это счастие. Впечатление, производимое на Вас моим чтением, находило в моей душе стократный отклик, подобный горному эху, и это была не исключительно авторская радость».
Кстати, относительно того, что Тургенев сделал её первой читательницей, слушательницей и ценительницей своих произведений,
Об этом Полина Виардо писала так:
«Ни одна строка Тургенева не попадала в печать прежде, чем он не познакомил меня с нею. Вы, русские, не знаете, насколько вы обязаны мне, что Тургенев продолжает писать и работать».
Ну а на пересуды об их отношениях она ответила очень твёрдо и вразумительно:
«Сорок лет прожила я с избранником моего сердца, вредя разве что себе, но никому другому. Какое право имеют клеймить нас? Чувства и действия наши были основаны на законах, нами принятых, непонятных для толпы. А положение наше было признано законным всеми, кто нас любил».
Ну а теперь вспомним крылатую фразу: «Тот, кто счастлив в любви, становится семьянином, кто несчастлив – писателем или философом».
Так счастлив или несчастлив в любви был Иван Сергеевич Тургенев?
С творчеством Тургенева мы знакомимся ещё на школьной скамье. Но при изучении творчества писателя в школе внимание учеников на том, откуда взяты те или иные коллизии, не заостряется. Особенно это касается книг о любви. Произведения в этих случаях редко сопоставляются с этапами биографии писателя. В программе определено, что надо изучать и как изучать – в советское время необходимо было выискивать те или иные эпизоды или сцены, которые можно использовать для бичевания порядков дореволюционной России.
А между тем, зачастую, писатели вовсе не ставали перед собой задачи бичевать государственное устройство. В своих произведениях они показывали героев эпохи…
Вспомним Лермонтовского «Героя нашего времени». Писатель, как иногда говорят, инженер человеческих душ. Вот и исследовали наши классики именно души человеческие. Ну а эпоха, эпоха служила только фоном, на котором высвечивались те или иные исследования.
Тургенев почти непрерывно сопровождал певицу во время её многочисленных гастролей. В Россию приезжал не часто, но во время этих приездов успевал завести новые романы.
И это несмотря на большую любовь к Полине Виардо!?
Всех увлечений, которые пережил Тургенев, видимо, не счесть, поскольку далеко не каждый из них становился основой для очередного романа или повести. Были, конечно, и такие, что вдохновляли на целую плеяду стихотворений, ну и конечно, на роман, повесть или рассказ, а то и на все произведения, вместе взятые.
Недаром Иван Сергеевич писал:
«Всякий раз, когда я задумывал написать новую вещь, меня трясла лихорадка любви».
Уже стало традицией говорить о сорокалетней неиссякаемой любви к Полине Виардо. Но тогда почему же за эти сорок лет Тургенев не только завёл немало романов, но и неоднократно делал серьёзные попытки построить семью?
Так в 1854 году Иван Сергеевич стал серьёзно подумывать о женитьбе на Ольге, дочери одного из своих кузенов. Тургеневу было 36 лет, девушке – 18. Разница, конечно, немалая, но в то время в России такое не было исключением. Мужчины вообще женились в основном не в ранней молодости, а в районе тридцати лет. Иногда и позднее. Так что ничего удивительного не было в том, что Тургенев воспылал нежными чувствами к юной Ольге и даже готов был сделать предложение. И девушка отвечала на его чувства чувствами, ещё более сильными и, несомненно, значительно более искренними.
Но почему же он снова не решился на женитьбу? Биографы полагают, что тому виною любовь к Полине Виардо, что Тургенев был не в состоянии поставить любую другую, даже очень привлекательную женщину между собою и возлюбленной певицей.
И всё-таки кажется странным, что он, выбирая между бесперспективным обожанием Полины Виардо и чувствами к другой женщине, отвечающей на его чувства, вновь и вновь возвращался в плен своего безответного обожания.
И с чувствами к Ольге было также скоро покончено, и они так же скоро, как и прежние чувства, «были сданы в архив».
И вот тут возникает мысль – а имел ли право Тургенев на любовь к кому либо, кроме Полины Виардо? Ведь он не принадлежал себе, он был резидентом Русской разведки. Ну а публике давалось объяснение, которое её устраивало и которое скрывало правду о деятельности Тургенева.
«Тургенев скверно поступает с Машенькой…»
У любимой сестры Льва Николаевича Толстого, Марии Николаевны, ставшей прототипом Любочки в его повести «Детство. Отрочество. Юность», личная жизнь не сложилось. Она была вынуждена взять детей и уйти навсегда от мужа, жизнь с которым оказалась невыносимой.
Лев Толстой искренне переживал за неё. Она была действительно очень и очень дорогим для него человеком. Свои письма к ней он начинал самыми ласковыми словами:
«Милый, милый, тысячу раз дорогой друг мой Машенька... Не стану извиняться, что не скоро написал тебе, уж это сколько раз было и всё-таки не мешает нам любить друг друга и быть уверенным в этом…»
Но она была ещё очень молодой женщиной. Ей хотелось любви, она мечтала о счастье.
Тургенев периодически приезжал в Россию и живо интересовался литературными новостями и книжными новинками. И вот в 1854 году он прочитал в журнале «Современник» повесть Толстого «Детство. Отрочество. Юность», которая привела его в восторг. Зная, что неподалёку от Спасского-Лутовинова живут сестра Льва Толстого с мужем, он решил обязательно познакомиться с ними.
Тургенев нанёс визит. Вскоре семья Толстых тоже посетила его, и постепенно завязалась дружба.
Мария Николаевна сразу тронула сердце Тургенева. Иван Сергеевич признался в своём письме к издателю «Современника» Некрасову: «Сестра автора «Отрочества» премилая женщина, умна, добра и очень привлекательна… Она мне очень нравится. Мила, проста – глаз бы не отвел. На старости лет... я едва не влюбился. Жаль, что отсюда до них около 25 верст...»
Друзьям говорил о ней: «Если взглянешь на неё хоть раз, теряешь рассудок и падаешь на землю, как скошенный стебель».
Да и Мария Николаевна, лишённая в семье любви, постепенно увлеклась Иваном Сергеевичем. Она говорила о Тургеневе: «Он удивительно интересен своим живым умом и поразительным художественным вкусом. Такие люди редки».
Брат Николай Николаевич был встревожен увлечением Марии. Он писал Льву Николаевичу: «Маша очарована Тургеневым. Она не знает света и вполне может ошибиться».
Между тем, любящие сердца забились в унисон, хотя их обладателя тщательно скрывали свои чувства, причём скрывали их не только от посторонних, но и друг от друга. Но однажды Тургенев не выдержал… Это случилось, когда он читал вслух «Евгения Онегина».
Как-то так вышло, что он, почти не владея собой, взял её руку и поцеловал. Мария Николаевна испуганно отдёрнула её и проговорила:
– Прошу более этого не делать.
Эта сцену Тургенев оживил в своём «Фаусте». Вот она:
«Я знаю, как опасна какая бы то ни было связь между мужчиной и молодой женщиной, как незаметно одно чувство сменяется другим. Я бы сумел оторваться, если б я не сознавал, что мы оба совершенно покойны. Правда, однажды между нами произошло что-то странное. Не знаю, как и вследствие чего – помнится, мы читали "Онегина" – я у ней поцеловал руку. Она слегка отодвинулась, устремила на меня взгляд (я, кроме её, ни у кого не видал такого взгляда: в нём и задумчивость, и внимание, и какая-то строгость)... вдруг покраснела, встала и ушла. В тот день мне уж не удалось быть с ней наедине. Она избегала меня и битых четыре часа играла с мужем, няней и гувернанткой в свои козыря! На другое утро она предложила мне идти в сад. Мы прошли его весь до самого озера. Она вдруг, не оборачиваясь ко мне, тихо прошептала: «Пожалуйста, вперёд не делайте этого!» – и тотчас начала мне что-то рассказывать... Я был очень пристыжен».
Повесть «Фауст» написана Тургеневым за несколько дней на одном вздохе. Прототипом главной героини Верочки Ельцовой стала Мария Николаевна. Во многих произведениях Тургенева заметна одна закономерность. Он даёт героиням имя, отличное от прототипов, но отчество неизменно оставляет прежнее. Вот мы видим: Мария Николаевна – Вера Николаевна в «Фаусте», Татьяна Александровна – Мария Александровна в «Переписке»…
В «Фаусте» писатель даёт портрет Верочки Ельцовой, списанный с Марии Николаевны:
«Когда она вышла мне навстречу, я чуть не ахнул: семнадцатилетняя девочка, да и полно! Только глаза не как у девочки; впрочем, у ней и в молодости глаза были не детские, слишком светлы. Но то же спокойствие, та же ясность, голос тот же, ни одной морщинки на лбу, точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу. А ей теперь двадцать восемь лет, и трое детей у ней было...»
И возраст соответствует, и детей у Марии Николаевны было трое, как и у Верочки Ельцовой.
А вот уже оценка Тургенева:
«Вера Николаевна не походила на обыкновенных русских барышень: на ней лежал какой-то особый отпечаток».
Ну и ещё одна подробность – Верочка, как и Мария Николаевн не любила стихов.
И именно Тургенев привил эту любовь Марии Николаевне, во всяком случае, к «Фаусту» Гёте, а его герой то же самое сделал с Верочкой Ельцовой.
Тургенев пережил почти юношескую влюблённость. Это видно из его писем. Боткину он признался: «Прощаясь со мною, она подала мне руку с таким внутренним болезненным движением, словно птичка, которая ищет где-нибудь укрыться от застигнувшей её бури. У меня готовы были навернуться слёзы на глаза... Всё в ней проникнуто благородством и искренностью сердца».
В 1855 году Тургенев познакомился с братом своей возлюбленной, Львом Николаевичем Толстым, причём Толстой сообщил сестре об этом и добавил, что «полюбил его (Тургенева – авт.) ещё и за то, что он тебя так любит и ценит».
Может показаться странным, но любовь Тургенева разгоралась, пока Мария Николаевна была недоступна для него – пока была замужем. И вдруг, пришло сообщение, что она ушла от мужа и переехала к брату Сергею Николаевичу в Пирогово – там было его имени, в котором ей принадлежала часть, именуемая Малым Пироговым.
Совсем ещё молодая женщина – а было ей в ту пору двадцать семь лет –смело оставила мужа, хотя было у неё трое детей.
Тургенев поспешил послать ей уверения в своих чувствах, правда, говорил он дружбе, а не о любви:
«Вы недаром полагаетесь на мою дружбу: действительно – я останусь Вашим другом, пока буду жив...»
Видимо этими словами о дружбе он несколько озадачил Марию Николаевну, которая полагала, что он питает к ней гораздо более сильные чувства. Написал Тургенев и Льву Николаевичу Толстому: «Скажите ей, что я часто думаю о ней и что, если бы желания могли осуществляться, она была бы совершенно счастлива».
Но снова позвала заграница, что, конечно же, огорчило Марию Николаевну, ведь всем было известно о непонятной, странной, почти виртуально, но всё-таки любви к Полине Виардо.
Даже Толстой в 1858 году записал в своём дневнике: «Машеньку известие об отсутствии Тургенева ударило. Вот те и штучки».
А Тургенев уже всё для себя решил – снова он не отважился на то, чтоб сделать предложение, и на вопрос Анненкова о развитии отношений с сестрой Льва Толстого, ответил с известной долей цинизма, мол, Мария Николаевна ещё не знает: «дела с ней покончены и сданы в архив».
В следующий свой приезд в России Тургенев побывал в Пирогове, повидал и Марию Николаевну и её братьев. Он подробно описал этот визит Полине Виардо: «Я провёл три очень приятных дня у своих друзей: двух братьев и сестры, прекрасной и очень несчастной женщины. Она вынуждена была разойтись со своим мужем, своего рода деревенским Генрихом 8-м, преотвратительным».
Лев Николаевич Толстой дал этому поступку в своём дневнике такую резкую оценку: «Тургенев скверно поступает с Машенькой. Дрянь».
Иван Сергеевич просто разлюбил Марию Николаевну, о чём признался в письме к Боткину: «Я видел в Ясной Поляне графиню Толстую; очень она переменилась на мои глаза – да сверх того мне нечего ей сказать».
Произошёл разрыв и со Львом Толстым. Иногда называют иные причины – мол, однажды Тургенев читал Льву Николаевичу свою повесть, а тот заснул, или, они поссорились из-за различного подхода к воспитанию детей, когда речь зашла о воспитании во Франции дочери Тургенева. Возможно, и был какой-то повод, но причина кроется в том, что, на взгляд Толстого, Тургенев очень нехорошо поступил в его любимой сестрой, вселив надежду на любовь, на будущее, но затем всё резко разорвав.
Считается, что Тургенев в «Фаусте» в какой-то степени предсказал судьбу Марии Николаевны через судьбу своей героини Веры Николаевны.
Мы не знаем, каким было последнее свидание Тургенева с Марией Николаевной. Но в «Фаусте» говорится об обещании встречи – встречи, которая не состоялась:
«– Завтра, завтра вечером, – проговорила она, – не сегодня, прошу вас... уезжайте сегодня... завтра вечером приходите к калитке сада, возле озера. Я там буду, я приду... я клянусь тебе, что приду, – прибавила она с увлечением, и глаза её блеснули, – кто бы ни останавливал меня, клянусь! Я всё скажу тебе, только пусти меня сегодня».
Она переходит на «ты», она обещает встречу и какую встречу! Можно только догадываться.
Тургеневский герой, от имени которого ведётся повествование, проводит страшную для него ночь, он вспоминает, вспоминает всё, что связывало его с Верой Ельцовой, вспоминает её слова, её откровения:
«Вспоминал я также слова Ельцовой, переданные мне Верой. Она ей сказала однажды: «Ты как лёд: пока не растаешь, крепка, как камень, а растаешь, и следа от тебя не останется».
И вот развязка… Строки из письма:
«Я не могу продолжать так, как начал, любезный друг: это стоит мне слишком больших усилий и слишком растравляет мои раны. Болезнь, говоря словами доктора, определилась, и Вера умерла от этой болезни. Она двух недель не прожила после рокового дня нашего мгновенного свидания. Я её видел ещё раз перед её кончиной. У меня нет воспоминания более жестокого. Я уже знал от доктора, что надежды нет. Поздно вечером, когда уже все улеглись в доме, я подкрался к дверям её спальни и заглянул в неё. Вера лежала на постели с закрытыми глазами, худая, маленькая, с лихорадочным румянцем на щеках. Как окаменелый, смотрел я на неё. Вдруг она раскрыла глаза, устремила их на меня, вгляделась и, протянув исхудалую руку».
«Фауст» написан в период горячей влюблённости, но почему же такой конец? Словно какой-то рок лежал на всех попытках Тургенева встретить настоящую любовь и устроить свою судьбу. Он говорил о любви к Марии Николаевне, восхищался ею, но уже были написаны роковые строки повести. И ведь свершилось… Нет, Мария Николаевна не умерла, но ушла из мирской жизни.
Вспоминала ли она Тургенева? Да, конечно же, вспоминала его и свою любовь к нему. И спустя годы пришла к выводу:
«Если бы он не был в жизни однолюбом и так горячо не любил Полину Виардо, мы могли бы быть счастливы с ним, и я не была бы монахиней, но мы расстались с ним по воле Бога...»
Обрести счастья в любви Марии Николаевне так и не довелось. Потрясённая ничем не оправданным разрывом с Тургеневым, она уехала за границу, где завела роман со шведским подданным Виктором де Кленом». От него родила дочь, о чём сообщила братьям. С трепетом ждала писем, особенно от любимого брата Льва Николаевича. И получила ответ:
«Ты говоришь, пусть братья тебя судят, как хотят. Кроме любви, кроме жалости, нет и ничего не будет, к тебе в моём сердце. Упрекнуть тебя не поднимется рука ни у одного честного человека. Теперь что делать? Первое – выйти за него замуж, второе – ребёнка ни в коем случае не брать себе, а отдать мне. Третье – важнее всего – скрыть от детей и от света».
Но и здесь встретились непреодолимые препятствия. Родственники виконта помешали браку, хотя дочь взяли на воспитание. Её ожидало одиночество, особенно после смерти сына. И она решила удалиться из мирской жизни. В Оптиной пустыни встретилась со старцем Амвросием и в 1891 году отправилась в Шамординский монастырь, который находился неподалёку от пустыни. Она ушла в мир иной весной 1912 года.
«Что это? Слёзы… или кровь?».
Тургенев писал в одном из своих писем: «В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которых прошедшее умирает и зарождается нечто новое; горе тому, кто не умеет их чувствовать, – и либо упорно придерживается мёртвого прошедшего, либо до времени хочет вызывать к жизни то, что ещё не созрело».
И вот, когда ему было в районе шестидесяти лет, он снова испытал всепобеждающее чувство любви…
А.Ф. Кони отметил, что Тургенев «находился во власти чувства, не похожего на одностороннее восхищение, за которое платят одним дружеским расположением, – чувства, гораздо более сильного и острого».
И далее:
«Таковы были его отношения к баронессе Ю. П. Вревской, в 1874-1877 годах, начавшиеся дружбой и признанием с его стороны, что ближайшее знакомство с нею оставило глубокий след в его душе и дало ему почувствовать, что в его жизни стало одним существом больше, к которому он искренно привязался. Но вскоре это «несколько странное, но хорошее чувство» переходит у него в «дружескую любовь», а в последнюю настойчиво вторгается страсть, так что ему становится жутко при мысли о возможности быть прижатым любимым другом к сердцу не по-братски...
Говорят, что в жизни мужчин вот этакие смены, о которых писал Тургенев, происходят каждые 29 лет…
«Баронесса Юлия Петровна Вревская (урожденная Варпаховская, 1841 –
1878) семнадцатилетней девушкой вышла замуж за генерала И. А. Вревского, вскоре убитого на Кавказе.
Тургенев был знаком с этой женщиной с 1873 г. и переписывался с ней вплоть до её смерти. Вревская приезжала к нему в имение Спасское-Лутовиново и гостила там пять дней. В день её отъезда Тургенев написал: «...в моей жизни с нынешнего дня одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интересоваться».
Когда начала русско-турецкая война 1877-1878 гг., Ю. П. Вревская добровольно отправилась сестрой милосердия в действующую армию. Но сначала она приехала в Яссы, где с июня 1877 г. дислоцировался только что сформированный отряд Свято-Троицкой общины во главе с весьма пожилой настоятельницей Е.А. Кублицкой. В отряде было около двадцати человек – врачи, медицинские сёстры. Баронесса Вревская определилась медсестрой в этот отряд.
Узнав об отъезде Вревской в действующую армию, Тургенев написал:
«Моё самое искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Вашем тяжёлом странствовании. Желаю от всей души, чтобы взятый Вами на себя подвиг не оказался непосильным...»
Но, увы – Ю.П. Вревская заразилась пятнистым тифом и умерла
24 января 1878 г. в госпитале, находившемся в городе Бялы (Болгария). Её смерть глубоко потрясла И. С. Тургенева. В письме к другу он писал:
«Она получила тот мученический венец, к которому стремилась её душа, жадная жертвы... Это было прекрасное, неописанно доброе существо... Её жизнь – одна из самых печальных, какие я знаю».
Именно в память о ней в сентябре того же года Тургенев создал одно из лучших своих стихотворений в прозе.
«На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращённого в походный военный гошпиталь, в разорённой болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа.
Она была в беспамятстве – и ни один врач даже не взглянул на неё; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока ещё могла держаться на ногах, поочерёдно поднимались с своих заражённых логовищ, чтобы поднести к её запёкшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.
Она была молода, красива; высший свет её знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились…два-три человека тайно и глубоко любили её. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слёз.
Нежное кроткое сердце…и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи…она не ведала другого счастия…не ведала – и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась – и вся, пылая огнём неугасимой веры, отдалась на служение ближним.
Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом её тайнике, никто не знал никогда – а теперь, конечно, не узнает.
Да и к чему? Жертва принесена…дело сделано.
Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже её трупу – хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.
Пусть же не оскорбится её милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на её могилу!
Сентябрь 1878 года».
Здесь нужно добавить кое-что о тех каплях воды, которые солдаты подносили к запекшимся губам Вревской. Эту воду, как оказывается, они покупали у спасаемых от османской смерти болгар, причём, покупали не за малые деньги…
Стихотворениями в прозе «Деревня», «Дрозд II», «Памяти Ю.П. Вревской» Тургенев откликнулся на события русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов, войны очень необычной, которую впоследствии назвали «военной прогулкой». Ведь направляя своего брата в Дунайскую армию главнокомандующим, Александр Второй определил главную цель – Константинополь! Но заговор западных стран, во главе с Англией, помешал осуществить вековое стремление о водружении Православного Креста на Святой Софии. Сколько людей загублено – и всё напрасно. Вот и звучат проникающие глубоко в душу строки стихотворения в прозе «Деревня»:
«О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!
И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?».
Какой глубокий смысл! Это уже, безусловно, прозаические начала в стихотворениях в прозе, но начала, усиленные поэтическим духом произведения. На таком удивительном контрасте Тургенев показывает мир деревни, далёкий от войн, сражений и походов, смысл которых очень мало понятен простым деревенским жителям. Им понятны лишь войны в защиту своего Отечества. Вспоминается стихотворение «Как хороши, как свежи были розы», с их пронзительным ощущением беззащитности «перед лицом Неведомого, перед бесконечностью неба».
Необыкновенно сильно звучат строки стихотворения в прозе «Дрозд II»:
«Меня терзают другие, бесчисленные, зияющие раны..
Тысячи моих братий, собратий гибнут теперь там, вдали, под неприступными стенами крепостей; тысячи братий, брошенных в разверстую пасть смерти неумелыми вождями.
Они гибнут без ропота; их губят без раскаяния; они о себе не жалеют; не жалеют о них и те неумелые вожди.
Ни правых тут нет, ни виноватых: молотилка треплет снопы колосьев, пустых ли, с зёрнами ли – покажет время».
Время показало… А Тургенев гениально предвидел и написал: «Горячие, тяжёлые капли пробираются, скользят по моим щекам… скользят мне на губы… Что это? Слёзы… или кровь?».
И апофеозом войны звучит стихотворение в прозе «Памяти Ю.П. Вревской». Да – это проза, тяжелая, всесокрушающая высоким стилем проза, в котором звучат душераздирающие поэтические нотки. Поэзия тоже бывает тяжёлой и сильной. Вот как, например, «Вставай страна огромная!».
Христианским милосердиям и несовершенствам общественных отношений посвящено стихотворение в прозе «Мне жаль…».
«Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц… всего живущего», – писал Тургенев и за перечислением всех, кого жаль, в которое входит весь свет, он говорит, что завидует камням. Почему? Должно быть потому, что камни не могут чувствовать.
В этих произведения проявляются в большей степени прозаические начала, даже, можно сказать, философские. Собственно, в стихотворениях в прозе очень сильны философские начала. Порою, эти маленькие произведения являются как бы подведением итогов жизни и разговором писателя с самим собою: «Когда меня не будет» – обращение к любимой; «Песочные часы» – размышления над скоротечностью жизни; «Я встал ночью» – смирение с неизбежностью ухода в мир иной; «Когда я один» – размышление над своим вторым «я», над чем-то тем неведомым, что ждёт впереди.
«Песнь торжествующей любви»
В своём очерке «Савина и Тургенев» Анатолий Фёдорович Кони рассказал:
«17 января 1879 г. на сцене Александрийского театра, в бенефис Марии Гавриловны Савиной, была поставлена комедия Тургенева «Месяц в деревне», написанная им в 1850 году. Простая, по-видимому, история, представленная в ней, полна психологического интереса. Обыденная и весьма не редкая тема развита автором с тончайшей наблюдательностью над глубокими переживаниями женской души.
В сцене борьбы долга с чувством, – прочно сложившегося уклада жизни с нежданно-негаданно налетевшею страстью, – тяжёлого решения с внезапной нерешительностью, – чувства долголетней дружбы с безотчётным и безоглядным стремлением к разрыву с недавним прошлым – Тургенев показал себя великим мастером…Душевные переживания хозяйки дома – Натальи Петровны, – влюбившейся в течение месяца в молодого студента, учителя её сына, и теряющей, – под влиянием бросившегося ей в голову вина страсти, не испытанной дотоле, – не только самообладание, но даже и жалость к юной и бедной сироте – Верочке – создали, в глазах Тургенева, ей первенствующее место среди сценических исполнительниц его труда.
Личность Верочки, которая под влиянием постепенно, подобно цветку, распустившейся в сердце её любви к милому, жизнерадостному студенту – Беляеву – в течение месяца из ребёнка обращается в душевно взрослую женщину, вдруг понявшую лукавство и хитросплетения своей неожиданной соперницы, – оставлена была Тургеневым, при мысли о её сценическом воплощении, на втором плане. Но Савина, талант которой к концу семидесятых годов уже успел вполне расправить свои широкие крылья, глубоко вдумалась в произведение Тургенева и нашла, что роль Верочки не только равносильна роли Натальи Петровны, но, пожалуй, и превосходит её по задаче, даваемой артисту-художнику. Чувство Верочки к Беляеву выше и чище вспышки страсти у Натальи Петровны, – и когда автор, оканчивая комедию и избегая избитого морализирования, показывает замужнюю женщину остановившеюся, не по своей воле, на краю обрыва, а душевно возмужавшую девушку уносящею своё опустошенное сердце в болотную тину «брачного сопряжения», – все симпатии и зрителя, и воплотителя её образа на сцене – на стороне Верочки. Поэтому Савина и взяла роль Верочки. Узнав об этом, Тургенев был удивлён и спросил артистку: «Что же там играть?» А затем, когда впервые увидел на сцене, что создала из этого, лишь намеченного, образа Савина, он воскликнул, пристально вглядываясь в лицо артистки в её театральной уборной: «Верочка... Неужели эту Верочку я написал?!.. Я даже не обращал на неё внимания, когда писал... Всё дело в Наталье Петровне...» И он сразу признал большой талант в артистке, умевшей разработать и углубить этот образ, перенеся центр тяжести пьесы с томимой однообразием и эпикурейской безмятежностью зрелой женщины на почти ещё девочку, в белом передничке, с заплетённой косой и большим бумажным змеем в руках….»
Тургенев был поражён успехом пьесы. С актрисой Савиной довелось встретиться снова на литературном вечере в пользу Литературного фонда диалог графа Любина и Дарьи Ивановны Ступендьевой из его комедии «Провинциалка».
А.Ф. Кони отметил:
«Кто видел Савину в «Провинциалке» – не мог не поразиться её интонациями, игрою её лица, то томным, то торжествующим блеском её глаз именно в разговоре с графом, – тот может себе представить Тургенева при виде такого исполнения. Недаром Достоевский сказал ей в этот вечер: «У вас каждое слово отточено, как из слоновой кости…
С этого времени начинается ближайшее личное знакомство Тургенева с Савиной. Она, очевидно, произвела на него сильное впечатление, не только как изящная в своей отзывчивости женщина, но и как чуткая артистка, знающая цену и свойства своего дарования и умеющая его применять со всей его силой к горячо ею любимому искусству. Письма к ней и свидания с нею потянулись длинной чередой. Первые очень скоро вышли из рамок условной вежливости, приняли задушевный тон и вскоре стали отражать в себе нарастающую привязанность Тургенева, которую с полным основанием можно назвать любовью. В глазах его Савина, вероятно, имела не меньше блестящих достоинств, чем Виардо. И она возбуждала восторг публики, и ей иногда хотелось сказать во вдохновенные минуты ее творчества: «Стой! Какою я теперь вижу, останься навсегда такою в моей памяти...» – и с нею можно было делиться своими мечтами и планами, замыслами и откровенным мнением о своих современниках. Но она была, сверх того, своя, родная, русская, которой, конечно, были более понятны и близки чувства и мысли Тургенева по отношению к России, к её народу и его языку. И, наконец, – чего уже не было там, – она блистала и очаровывала своей молодостью. Во время первых представлений «Месяца в деревне» ей было всего 25 лет, а знакомство с нею Тургенева совпало с тем временем в его жизни, когда… он, приезжая на родину, повсюду был встречаем выражениями общей восторженной любви. Это его молодило, вливало в него новую бодрость. Отложивший вскоре после «Призраков» и «Довольно» перо с непоколебимым решением никогда больше не брать его в руки, он почувствовал, что литературная жилка в нём вновь зашевелилась, и спрашивал себя: «Неужели из старого, засохшего дерева пойдут новые листья и даже ветки?...»
Иван Сергеевич писал о новом своём состоянии:
«На моё старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души – и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня».
А какие были письма к Савиной:
«Милая Мария Гавриловна! Вот уже третий день, как стоит погода божественная, я с утра до вечера гуляю по парку или сижу на террасе, стараюсь думать о различных предметах – и вдруг замечаю, что мои губы шепчут: «Какую ночь мы бы провели... А что было бы потом? А Господь ведает!»... И мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда... Жаль для меня – и осмелюсь прибавить – и для Вас, потому что уверен, что и Вы бы не забыли того счастья, которое дали бы мне».
При знакомстве с Савиной история в какой-то мере повторилась. Вспомним, как Тургенев, увидев на сцене Полину Виардо, влюбился в неё без памяти с первого взгляда.
Он не мог забыть того момента, когда после спектакля зашёл в гримёрную к Савиной, чтобы выразить своё восхищение, а она в восторге и благодарности обвила его шею руками и поцеловала в щеку.
До нас не дошли все подробности взаимоотношений писателя и актрисы. Но известно, что когда Савина в 1880 году сообщила, что собирается на гастроли в Одессу, Тургенев забросал её письмами, в которых звучала просьба навестить его в Спаском-Лутовинове, ведь это было по пути. Он писал:
«О Вас я думаю часто, чаще, чем бы следовало. Вы глубоко вошли в мою душу... Я люблю Вас...»
Савина отвечала, что заехать не может. И тогда влюблённый Тургенев стал просить её выбрать поезд, проходящий через Мценск, с таким расчётом, сев в него на станции, проехать хотя бы небольшую часть пути. Тургенев говорил о своей любви, но Савина не могла ответить тем же – в её сердце, в её душе было глубокое уважение к писателю, но не более того, о чём мечтал он.
Они расстались на одной из станций. Тургенев вернулся в Спасское-Лутовиново, началась переписка, которая продолжалась несколько лет.
И всё-таки Мария Савина побывала у него в гостях летом 1881 года. Что за отношения были между ними в эти дни, сказать трудно. Когда Тургенев и Савина были в гостях у Полонских, актриса вновь не сдержала своих чувств, как когда-то в гримёрной. Она буквально кинулась к Тургеневу, в необыкновенным порыве и никого не стесняясь, поцеловала.
А.Ф. Кони рассказал в очерке:
«Пребывание Савиной в Спасском, одновременно с семейством поэта Полонского, было праздником для Тургенева, да и для всех. Читая своим гостям, ещё в рукописи, «Песнь торжествующей любви», совершая с ними прогулку в лес, чтобы слушать «ночные голоса», он изучил ближе, в повседневном общении, свою гостью, в честь которой комната, ею занимаемая, была названа «Савинской».
В ту пору чтения вслух вообще были принятый в дворянских усадьбах, ну а чтения писателями и поэтами своих произведениях составляли особый колорит. Представьте себе веранду, стол с самоваром, лёгкий шум парка, пение птиц. Представьте слушателей, расположившихся вокруг стола или в креслах качалках. И того, кто приковывает к себе всё внимание, чтением произведения. И звучит спокойный, негромки голос и растекаются по веранде строки произведения, которого ещё никто не видел, никто не читал, произведения, о котором ещё никто не знает – никто, кроме вот этих избранных счастливчиков – его близких друзей.
Иван Сергеевич умел читать превосходно, мастерски, удивительно красиво… Так он читал и «Песнь торжествующей любви». Не родилось ли название, благодаря сердечной вспышки, подаренной ему знакомством с несравненной Савиной?
А слушатели внимательны, задумчивы… А история загадочна и удивительна…
«Около половины XVI столетия проживало в Ферраре (она процветала тогда под скипетром своих великолепных герцогов, покровителей искусств и поэзии) – проживало два молодых человека, по имени: Фабий и Муций. Ровесники годами, близкие родственники, они почти никогда не разлучались; сердечная дружба связала их с раннего детства... одинаковость судьбы скрепила эту связь. Оба принадлежали к старинным фамилиям; оба были богаты, независимы и бессемейны; вкусы, наклонности были схожие у обоих. Муций занимался музыкой, Фабий – живописью. Вся Феррара гордилась ими, как лучшим украшением двора, общества и города. Наружностью они, однако, не походили друг на друга, хотя оба отличались стройной юношеской красотою: Фабий был выше ростом, бел лицом и волосом рус -- а глаза имел голубые; Муций, напротив, имел лицо смуглое, волосы черные, и в темно-карих его глазах не было того веселого блеска, на губах той приветливой улыбки, как у Фабия; его густые брови надвигались на узкие веки -- тогда как золотистые брови Фабия уходили тонкими полукругами на чистый и ровный лоб. Муций и в разговоре был менее жив; со всем тем оба друга одинаково нравились дамам – ибо недаром были образцами рыцарской угодливости и щедрости.
В одно и то же время с ними проживала в Ферраре девица по имени Валерия. Ее считали одной из первых красавиц города, хотя видеть ее можно было очень редко, так как она вела жизнь уединённую и выходила из дому только в церковь – да в большие праздники на гулянье. Она жила с своей матерью, благородной, но небогатой вдовою, у которой не было других детей. Всякому, кому только ни встречалась Валерия, – она внушала чувство невольного удивления и столь же невольного, нежного уважения: так скромна была ее осанка, так мало, казалось, сознавала она сама всю силу своих прелестей. Иные, правда, находили ее несколько бледной; взгляд ее глаз, почти всегда опущенных, выражал некоторую застенчивость и даже боязливость; её губы улыбались редко – и то слегка: голос её едва ли кто слышал. Но ходила молва, что он был у неё прекрасен и что, запершись у себя в комнате, ранним утром, когда все в городе еще дремало, она любила напевать старинные песни, под звуки лютни, на которой сама играла. Несмотря на бледность лица, Валерия цвела здоровьем; и даже старые люди, глядя на нее, не могли не подумать: «О, как счастлив будет тот юноша, для кого распустится, наконец, этот ещё свернутый в лепестках своих, ещё нетронутый и девственный цветок!»
Может быть, это память о тех далёких цветках юности воскресает в словах Тургеневских, а может, «Песнь…» навеяна именно прекрасной Савиной, которая сейчас рядом и ради которой сердце писателя поэт эту прекрасную песнь торжествующей в душе его любви?
…Савина уехала из Спасского 18 июля 1881 г.
Тургенев писал ей вслед:
«Я ещё короче узнал Вас в эти дни со всеми Вашими хорошими и слабыми сторонами – и именно потому ещё крепче привязался; Вы имеете во мне друга, которому можете довериться… Вы очень привлекательны и очень умны, что не всегда совпадает»
Но вместо ответа, которого ждал с нетерпением, 10 августа получил письмо из Перми, от 29 июля, в котором Савина писала так, что он понял – она выходит замуж за Всеволожского.
Он нашёл в себе силы ответить:
«Поглядел бы я на Вас в ту минуту, когда провозглашали многолетие невесте! Во-первых, Ваше лицо всегда приятно видеть, а во-вторых, оно должно было быть особенно интересным – именно тогда. Когда мы увидимся (если увидимся), Вы мне всё это расскажете с той тонкой и художественной правдивостью, которая Вам свойственна – и с той милой доверчивостью, которую я заслуживаю – не как учитель (с маленьким или с большим У), а как лучший Ваш друг».
А через несколько дней послал следующее письмо:
«Что касается до меня, то я хоть телесно ещё в Спасском, но мысленно уже там – и чувствую уже французскую шкурку, нарастающую под отстающей русской».
Однако, бракосочетание затягивалось. Узнав об этом, Тургенев стал звать Савину за границу, предлагал поехать в Италию, в Венецию…
В письмах он не скрывал своих чувств:
«Милая Мария Гавриловна, я Вас очень люблю – гораздо больше, чем следовало бы, но я в этом не виноват».
Эта любовь озарила последние годы жизни писателя. Он надеялся, хотя надеяться было не на что. Почему Савина не хотела связать с ним свою судьбу? Быть может и её и многих других возлюбленных писателя пугала тень Полины Виардо, нависающая над ним и теми, с кем он пытался связать свою судьбу? А может помехой в их отношения стала любовь к другому человеку?
Савина была необыкновенной женщина. А.Ф. Кони, тайно влюблённый в неё и долго не признававшийся в этом даже самым близким людям, писал:
«Савина не есть только имя личное; это имя собирательное, представляющее собой соединение лучших традиций, приёмов и преданий с талантом и умом. Вы сами по себе школа. И должны как солдат стоять на бреши, пробитой в искусстве нелепыми представителями театральной дирекции».
Последняя встреча Тургенева и Савиной произошла в Париже, когда актриса приехала туда лечиться. Тургенев обращался к лучшим докторам, добился того, что её принял знаменитый в то время невропатолог Жан Шарко, а когда она отправилась лечиться во Флоренцию, не смог сопровождать в этой поездке. Он сам был тяжело болен, и дни его сочтены.
Он встретил свой смертный час в доме Полины Виардо. Последними словами были:
«Ближе, ближе ко мне, и пусть я всех вас чувствую около себя… Настала минута прощаться… Простите!..»
Но что же Савинова? Она сохранила в своём сердце какие-то совершенно особенные чувства. Была ли это любовь? Она вполне могла осознать то, что любила Тургенева, когда потеряла его навсегда.
В 1908 году в Санкт-Петербурге в одном из залов Академии Наук был открыт небольшой музей Тургенева.
Одной из первых посетительниц музея стала Мария Савинова. Она принесла букет роз и долго ходила по залу, внимательно осматривая экспонаты. И думала, думала о чём-то своём личном. Она пришла и на другой день, она приходила снова и снова, когда было на то время. Она словно навёрстывала упущенные встречи с дорогим её сердцу человеком…
А.Ф. Кони писал:
«Прошло четверть века. В большой зале Академии Наук создалась трудами любящих светлое прошлое нашей словесности Тургеневская выставка. На ней было собрано всё, касающееся жизни, творчества и личных отношений незабвенного для современников писателя, – всё, что только можно было собрать, начиная с листка записной книжечки его матери о рождении 28 октября 1818 г., в 12 часов дня, сына Ивана, 12-ти вершков ростом, и кончая знаменитым диваном «самосоном», из Спасского, и охотничьим ружьём...
Перед большим и лучшим портретом Тургенева постоянно обновлялся роскошный букет свежих роз, как символ неувядающих воспоминаний. Эти розы привозила ежедневно Мария Гавриловна Савина...»
Современники отмечали, что Савинову нельзя было назвать красавицей, но необыкновенный талант делал её невероятно привлекательной. Один из театральных критиков тех лет писал:
«У Савиновой был далеко не безупречной красоты голос. Лицо Савиновой далеко не было лицом красавицы. Но между голосом, между манерой говорить, лицом, жестами была какая-то совсем особая безупречная гармония».
Вспомним слова о том, что неудачи в любви делают человека писателем и философом. Любовные драмы Тургенева, видимо, не случайны. Болезненные воспоминания оставила его первая любовь, когда он узнал, что его возлюбленная является любовницей его отца. А что могла дать связь с крепостной, на которую подтолкнула мать, столь неординарным способом решившая заняться воспитанием сына.
Известно, что юноша, испытавший первые радости в любви с развратной или, по крайней мере, видавшей виды женщины, получает глубокую травму на всю жизнь. Быть может, крепостная, выполнившая поручение своей барыни и соблазнившая Тургенева и не была развратной, но она, несомненно, прошла уже какие-то азы интимных отношений, иначе бы не посылали ее к Тургеневу в роли воспитательницы. И вот это первое знакомство с женщиной, знакомство без любви, знакомство чисто механическое тоже не могло не отложить отпечатка на судьбу Тургенева, на его грядущие любовные увлечения, превращавшиеся в драмы.
Счастлив ли он был в своих любовных увлечениях? Доподлинно известно это было только ему самому. Он мог говорить, что счастлив в своей безответной любви к Полине Виардо, но мы не знаем, так ли это. В любом случае, его неудачи в любви подарили нам великолепную прозу и поэзию в прозе поистине величайшего русского писателя.
Тургеневым говорил: «…В том и состоит особенно преимущество великих поэтических произведений, которым гений их творцов вдохнул неумирающую жизнь, что воззрения на них, как и на жизнь вообще, могут быть бесконечно разнообразны, даже противоречащи – и в то же время одинаково справедливы».
Французские писатели братья Эдмон де Гонкур и Жюль де Гонкур, современники Тургенева, лично звавшие его, посвятили в своём «Дневнике» немало страниц Ивану Сергеевичу:
«Он говорит, что когда ему грустно, когда у него дурное настроение, двадцать стихов Пушкина спасают его от меланхолии, вливают в него бодрость, будоражат. Они приводят его в состояние восхищённого умиления, которого не может у него вызывать никакое великое и благородное деяние. Только литература способна порождать такое просветление духа…».
Из своей сложной судьбы Тургенев вынес твёрдое понимание того главного, что должно быть в жизни каждого человека:
«Нет счастья вне семьи и вне родины, каждый сиди на своём гнезде и пускай корни в родную землю. Что лепиться к краюшку чужого гнезда?»
Он так и не создал семьи. И действительно лепился к краюшку чужого гнезда. Но он глубоко пустил корни в родную русскую землю. Об этом говорят его произведения и поэтические и прозаические, это выражено в его ярких словах, посвящённых родному русскому языку:
«Берегите чистоту Русского языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас».
Ну и, конечно, нельзя не привести знаменитое Тургеневское стихотворение в прозе, которое так и названо: «Русский язык»:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
Когда не раскрылся парашют
Николай Шахмагонов. Золотой скальпель
Спасти жизнь десантнику
Глава шестая
Едва тёмно-зелёный десантный самолёт, натужно гудя моторами, неторопливо забрался на нужную высоту, инструктор скомандовал:
– Приготовиться!
Открылся люк, и в его проём Михаил Гулякин увидел ровное заснеженное поле. Вспомнился первый прыжок. Погода была такой же солнечной, ясной. Разве что снега побольше.
– По моей команде, первый…
Гулякин встал, повинуясь властному требованию инструктора, шагнул к люку и, услышав резкое: – «Пошёл!» – провалился вниз.
Его сразу подхватил и развернул встречный поток воздуха, но через считанные секунды резкий толчок возвестил о раскрытии парашюта. Над головой вспыхнуло серебристо-белое облако купола.
Охватило знакомое, радостное волнение. В аэроклубе он совершил два прыжка. Теперь всё было и так как прежде, и иначе. Прыгали не со стареньких тихоходных самолётов, а с больших транспортных. Да и парашюты не спортивные, а боевые, десантные.
Гулякин с восторгом оглядел местность. Под солнцем горело и сверкало ярко-белое покрывало снега. На горизонте синели леса, чуть ближе пестрели крыши районного городка, примостившегося на берегу величавой Волги, русло которой ещё темнело студеной водой, ожидавшей скорого ледяного покрова.
А вокруг, словно большие пушистые снежинки медленно опускались на землю серебристые купола парашютов.
Потянув одну стропу, Михаил развернулся по ветру и приготовился к встрече с землёй. И вот ноги ушли в снег, и он, удачно сманеврировав, быстро погасил купол.
Поблизости приземлялись десантники. Многие сегодня прыгали впервые. Барахтался, пытаясь высвободиться из паутины строп Дуров, ему старался помочь Тараканов. А Мялковский стоял рядом, задрав голову, и с тревогой глядел вверх.
– Парашют не раскрывается, – неожиданно закричал он. – Смотрите, смотрите… Что же он?
Гулякин поднял голову и посмотрел туда, куда указывал Мялковский. Один десантник падал комом…
– Мялковский, за мной. Тараканов – остаётесь здесь, – скомандовал Гулякин и, определив, что десантник упал где-то на окраине города, поспешил туда.
Десантник лежал на левом боку в глубоком сугробе, наметённом возле плетня.
– Сержант Черных! – узнал Мялковский и, нащупав пульс, радостно воскликнул: – Жив!
Гулякин склонился над пострадавшим.
– Снег спас, снег возле плетня. А если б на открытом месте, – он махнул рукой. – Но состояние тяжёлое! Срочно нужна операция.
С аэродрома примчалась машина. Из неё с поспешностью вышли военврач 2 ранга Кириченко и начальник парашютно-десантной службы бригады лейтенант Поляков.
– Что с сержантом? – чуть ли не в один голос спросили они.
– Множественный перелом рёбер слева, – сказал Гулякин и, продолжая осмотр, прибавил: – Есть признаки внутреннего кровотечения.
Черных открыл глаза и, узнав Гулякина, через силу проговорил:
– Я ещё буду прыгать, доктор?
И даже попытался улыбнуться.
А к спасительному плетню уже сбегались местные жители, в основном, конечно, женщины и вездесущие дети.
– Какой дорогой быстрее попасть в больницу? – спросил Кириченко, обращаясь ко всем сразу.
– Здесь недалече. Там вон, за поворотом она, в переулке, – сказала женщина в телогрейке.
– Двухэтажный домик, белый такой?
– Он самый, сынок, он самый…
– Видел его. Мимо проезжали.
– Сержанта в машину, – распорядился Кириченко. – Давайте помогу. Осторожнее…
Несколько человек склонились над пострадавшим, аккуратно подняли его и положили в машину. Он не проронил ни звука.
Поехали потихоньку. Дорога-то ухабистая. Просёлок. Остановились у крылечка больницы. Гулякин взбежал по ступенькам и открыл дверь.
– Есть кто? – громко спросил он.
На голос вышла пожилая женщина в белом халате.
Поздоровавшись, Гулякин сообщил:
– Мы привезли пострадавшего. Нужно срочно оперировать, – и спросил – Хирург на месте?
– Нет хирурга, никого нет. На фронт все ушли. Один терапевт остался, да и он на вызове, в деревне.
– Хирурга нет? А кто ж оперирует? – удивился Гулякин.
– В область отвозим. А по мелочам и сама управляюсь.
– Вы фельдшер?
– Какой там?! Сестрой хирургического отделения здесь всю жизнь проработала.
Зашёл Кириченко. Сразу оценил обстановку. Тихо сказал, положив Гулякину руку на плечо:
– Ну, Миша, решайся. Ты же хирург...
Медлить было нельзя.
– Мне не приходилось делать таких операций! – сказал Гулякин.
– Иного выхода нет, Миша, – сказал Киричнко. – Жизнь сержанта в твоих руках. В твоих, Миша! Приказать не могу, но… решайся. – и, обратившись, к медсестре спросил: – А вы поможете?
– Конечно, о чём разговор. Операционная у нас в порядке, хоть и не используется давно.
Нашлись и носилки. Это ж не в машину перенести, что остановилась в двух шагах. Тут нужно было аккуратно доставить в операционную, которая оказалась на втором этаже.
Сержанта внесли в комнату, сообщавшуюся с операционной, осторожно поставили носилки. Медсестры тут же сделала инъекцию морфия и камфары с кофеином. Стала готовить внутривенное вливание физиологического раствора.
Лицо сержанта было бледным, пульс едва прощупывался. С помощью Мялковского и медсестры Гулякин осторожно освободил пострадавшего от оставшихся элементов снаряжения и одежды. Сразу обнаружил кровоподтёки на коже левого плеча и левой ноги. Нижняя часть груди была деформирована.
«Каковы же повреждения? – попытался определить заранее, до начала операции. – Очевидно, пострадали селезёнка, печень, лёгкие. Упал на левую сторону – значит, слева переломы рёбер. Да, явно разрыв селезёнки».
Коротко доложил стоявшему рядом Кириченко уточнённый диагноз.
– Кто оперировать будет? Вы? – спросила медсестра, уловившая то, о чём говорили военные медики, когда узнали, что в больнице нет хирурга.
– Да, оперировать будет военврач третьего ранга Михаил Филиппович Гулякин. Я давно уже администратор, да и прежде был не хирургом, а терапевтом. Ну а он у нас хирург.
Прежде Михаил Гулякин не думал, что вот так, в такой обстановке и при подобных обстоятельствах придётся делать столько сложную операцию. Да, ему приходилось нередко быть ассистентом у опытных хирургов. Ему даже доверяли операции, но операции далеко не такие, как предстояла теперь. Ещё на аэродроме, осматривая сержанта, он не сомневался, что в ближайшей больнице наверняка есть хирург. Ну и Кириченко рядом. Почему-то казалось. Что уж Кириченко-то справится с задачей… А вот ведь как всё повернулось.
В предоперационной было тихо. Все с надеждой смотрели на Гулякина. Много раз впоследствии он ловил на себе подобные взгляды, когда речь шла об очень тяжёлых операциях. Но это было потом. А в те минуты Гулякин не то чтобы растерялся, нет, он просто пытался определить, справится ли. Ведь он действительно ещё не имел необходимого опыта для такого сложного хирургического вмешательства.
Ответственность! Огромная ответственность! А если неудача? Какого молодому хирургу начинать с неудачи?
Гулякин неуверенно спросил у Кириченко:
– Может, всё-таки поручить более опытному хирургу?
– Ко-о-му? – начиная терять терпение, протянул Кириченко.
Гулякин назвал начальника физиологической лаборатории военврача Кунцевича и врача Яковенко из другой бригады.
– Не думал, Миша, что ты предложишь такое, – упрекнул Кириченко. – не думал, что, боясь ответственности, попытаешься уклониться от помощи десантнику, жизнь которого в твоих, только в твоих руках.
– Я не уклоняюсь. Я хочу, как лучше для сержанта…
– Лучше? А тебе известно, что Кунцевич – опытный преподаватель, много лет прослужил в Военно-медицинской академии, прекрасно знает биохимию, но никогда не делал операций? Тебе известно, что Яковенко находится в двадцати километрах отсюда и пока машина доберётся до него, пока привезёт сюда, если он вообще на месте и не придётся его искать, пройдёт столько времени, что он окажется уже не нужен…
Кириченко не хотел приказывать, но время на разглагольствования истекло. Сержанта уже перенесли на операционный стол.
– Всё! Решение принято! Будешь оперировать ты, Миша. Верю, что сделаешь всё возможное!
Твёрдость начальника, уверенность, с которой он поручил такое ответственное дело, придали Михаилу силы.
– Больной готов? – спросил он у медсестры.
– Готов!
– Ассистировать будете вы и фельдшер Мялковский. Очевидно, потребуется кровь…
– Об этом позабочусь, – сказал Кириченко. – Я уже вызвал младшего врача бригады Тарусинова и фельдшера-лаборанта. Приступайте к операции.
Дверь открылась, и на пороге появился комбат старший лейтенант Жихарев. Из-за его плеча выглядывал комиссар Коробочкин.
– Что с Черных? – спросил комбат.
– Скоро узнаем, – ответил Кириченко. – Гулякин будет оперировать. Состояние тяжёлое. Черных в рубашке родился. С этакой высоты… И надо же. Сугроб, наверное, единственный в округе, спас.
– Разберитесь, что случилось, – приказал комбату начальник парашютно-десантной службы бригады лейтенант Поляков. – Нужно выяснить, почему не раскрылся парашют. Это важно знать всем – и нам, и, – он кивнул на всё ещё открытую дверь в операционную, – его товарищам.
Пока Гулякин тщательно мыл руки, медсестра подготовила стерильный халат, помогла надеть его и подала перчатки.
Затем быстро подготовилась сама и вслед за Гулякиным вошла в операционную, где уже находился Мялковский. Туда же поспешил и Кириченко.
– Так, прошу дверь закрыть. К столу посторонним не приближаться, – уже твёрдым голосом, которым отдают приказы, – распорядился Гулякин.
Он подошёл к операционному столу, и в памяти его сразу ожило всё, чему учили преподаватели в институте и хирурги в клинике, которым он ассистировал во время дежурств. В больнице аппаратуры для проведения общего наркоза не оказалось, не было и анестезирующих средств общего обезболивания. К счастью, нашёлся раствор для местной анестезии.
Аккуратно обработав поверхность грудной клетки, Гулякин взял из рук сестры шприц с новокаином и ввёл анестезирующий раствор в места, из-под кожи выступали обломки рёбер.
Тут же вспомнилась заключительная напутственная лекция начальника кафедры военно-полевой и госпитальной хирургии военврача 1 ранга профессора Левита. Она так и называлась: «Как поступать на фронте».
Медленно, словно что-то постоянно обдумывая, профессор расхаживал по кафедру, вовсе не по-профессорски, а дружески говоря:
– Огнестрельную рану всегда сопровождают кровотечение, шок, инфекция… Поэтому наипервейшая обязанность каждого врача – остановить кровотечение, ввести анестезирующий раствор в места перелома костей…
Гулякин сделал первый разрез. В полости живота оказалось много крови. Предположение, что при ударе о землю произошёл разрыв селезёнки, к несчастью, подтвердилось.
Что же делать? Ему не доводилось не только оперировать самому, но даже и наблюдать, как работают другие хирурги при подобном повреждении. Конечно, теоретически он знал порядок операции, но его охватило беспокойство: удастся ли справиться практически?
Посмотрел на Кириченко. Тот казался спокойным, хотя, наверное, тоже понял, что жизнь сержанта – на волоске висит.
– Мялковский, следите за пульсом, – распорядился Кириченко. – Миша, смелее, всё будет в порядке.
«А ведь даже не предполагает, каково мне сейчас, что впервые берусь за столько сложное дело, – подумал Гулякин. – Надеется на меня, верит, что справлюсь. Верят и Мялковский, и медсестра, которая уже приготовила очередной хирургический инструмент, и имя и отчество которой так и не успел спросить, верят и командир батальона с комиссаром, что остались за дверью. Я обязан справиться!»
– Ну что же ты, Миша? Всё готово, – спокойным тоном проговорил Кириченко.
И снова твёрдый, голос военврача 2 ранга вселил уверенность, придал силы.
Тщательно осушив полость живота, Михаил аккуратно перевязал повреждённые сосуды и удалил селезёнку, глубокие трещины которой уходили к сосудистой ножке. Осмотрев другие органы, и не обнаружив повреждений, стал накладывать швы.
– Ну вот, кажется, и всё, – облегчённо вздохнул Кириченко.
– Нет, – отрицательно покачал головой Гулякин. – Необходимо переливание крови.
Вызванные младший врач бригады и лаборант уже доложили Кириченко, что подобраны два донора с первой группой крови, что, кроме того, готовится консервированная кровь.
После переливания крови самочувствие сержанта Черных заметно улучшилось: стало ровным дыхание, нормализовался пульс. Но угроза жизни ещё существовала. Дежурить у операционного стола Гулякин приказал Мялковскому, чтобы в случае ухудшения состояния, немедленно вызвать его.
Сняв халат и перчатки, Гулякин вышел из операционной. Кириченко крепко пожал руку:
– Спасибо. Ты даже не представляешь, Миша, что сегодня сделал! Сложнейшая операция и в таких условиях! Это же.., – Кириченко махнул рукой и, обняв Гулякина, прибавил: – Это настоящая победа.
– Первая моя операция! – устало сказал Гулякин.
– Неужели первая?! – удивлённо воскликнул комиссар батальона Коробочкин, который тоже подошёл, чтобы поблагодарить и поздравить с успехом. – Никогда не оперировал?
– В институте в основном ассистировал. Ну а операции доверяли простейшие, да и то под руководством опытных хирургов. А такие вот операции и в клинике делают очень редко. Практики то в институте, да и на военфаке студенты и слушатели не получают.
– В таком случае поздравляю с боевым крещением! – сказал Жихарев, тоже обнимая Гулякина и пожимая ему руку.
– Почему же с боевым? – пожал плечами Гулякин. – В бою я ещё не был.
– Да разве это не бой? Разве сегодня ты не сражался с главным врагом, – смертью, что угрожала Черных? – убеждённо сказал Жихарев.
– Сражался! – улыбнулся Гулякин.
– И победил, – заметил военврач 2 ранга Кириченко. – Это и есть боевое крещение хирурга. А в бою участвовать не наше с вами дело. Наше дело быть всегда готовыми прийти на помощь раненым. Конечно, война нынче особая. Может, придётся и за оружие браться, чтобы защитить свой медицинский пункт или медсанбат. Но основное для нас – врачебная помощь раненым.
Кириченко вышел на крылечко. За ним последовали остальные. После необычайного напряжения, после тревог за жизнь сержанта, все оживились.
– Кстати, вы слышали о подвиге военно-санитарного поезда? На днях указ был. Нет? – спросил Кириченко. – Так послушайте… Недавно наградили начальника поезда, начмеда и нескольких медсестёр. Фашисты, как уже известно, ни с какими правилами ведения войны не считаются. Вот и этот поезд несколько раз бомбили, хотя и видели на крышах вагонов красные кресты. Тогда-то начальник поезда и решил создать из медперсонала команду стрелков-зенитчиков. Командующий армией придал поезду три зенитных-пулемёта. При очередной транспортировке раненых фашистские стервятники как всегда сунулись за лёгкой добычей. Сунулись, как на воздушной прогулке. И тут ударили по ним из пулемётов. Два бомбардировщика сразу сбили, один крепко повредили. Вряд ли он дотянул до линии фронта. Остальные драпанули… Вот так. Нас это касается в первую очередь. Мы будем драться за линией фронта. А фашисты раненых не щадят, тем более десантников…
Комиссар Коробочкин как бы подвёл итог свершившемуся:
– Знаете! Сегодня и ещё одно очень важное событие произошло. На глазах у всего батальона у Черных не раскрылся парашют. Да что там батальона? Вся бригада уже знает, небось. И корпус скоро будет знать –солдатский телеграф работает быстро. Так вот! Сержант упал с такой высоты, что казалось бы всё – никаких шансов. А наш же, родной военврач третьего ранга, наш начальник батальонного медпункта спас его! Какую веру это придаст десантникам, которые в бой пойдут! Веру в то, что сильная у нас медицина. Спасёт, если что.
– Да, такая вера тоже ведь нужна, когда в бой идёшь, – согласился комбат Жихарев.
Продолжение следует…
Служба в ВДВ – подвиг!
Николай Шахмагонов. Золотой скальпель
Глава пятая
После распределения Михаил Гулякин и Виктор Гусев направились в общежитие.
– Ты доволен, что попал в воздушно-десантные войска? – спросил Гулякин.
– Ещё бы. Не зря ж мы с тобой в аэроклубе занимались, не зря с парашютами прыгали.
– Служба там посерьёзнее, чем где-то на аэродроме, – задумчиво проговорил Гулякин.
– Да что там, на аэродроме, посерьёзнее, чем в пехоте-матушке. Помнишь, как медсанбат на учениях развёртывали? А как там развёртывать, когда будем в тылу врага?
– Справимся! – уверенно сказал Гулякин и прибавил: – На почту надо зайти. Может, письмо есть из дому.
Письмо было. От сестры. Гулякин тут же вскрыл его и стал читать, кое-что комментируя.
Сестра сообщала, что отец, Филипп Кузьмич, и старший брат Алексей уже в действующей армии, младшие, Александр и Анатолий, пока не подходят по возрасту, но несколько раз побывали в военкомате, и Александра пообещали направить в артиллерийское училище.
– Представляешь, – говорил Михаил приятелю, – мои старшие уже дерутся с врагом. А я в тылу прозябаю.
– Недолго и тебе осталось, – возразил Виктор. – Постой, это что же, и отец на фронт ушёл? Он ведь по возрасту не подходит.
– Разве его удержишь? К военкому ходил, добровольцем попросился. Это вторая война для него.
– Что и в империалистической участвовал?
– Не успел. Мобилизовали только в семнадцатом, в начале года, и направили в запасной полк, что стоял в Москве, в Покровских казармах. В Москве и революцию встретил, ну а потом гражданская. Всю провоевалот звонка до звонка…
За разговором незаметно добрались до общежития, вошли в свою комнату. Впервые некуда было спешить. Михаил подошёл к окну, задумчиво оглядел двор. И вдруг поймал себя на мысли, что только сейчас заметил – осень полностью вступила в свои права. Позолотило деревья в небольшом скверике под окном. Клумбы с увядающими цветами, дорожки в сквере спрятались под разноцветное, пышное лиственное покрывало.
– Скоро поезд? – поинтересовался Виктор.
Михаил взглянул на часы, ответил:
– Через три часа. Даже не верится, что уже утром увижу маму, сестру, братьев. Не думал, что отпустят. Сейчас такое время! И вдруг дали целых двое суток!
– Да много ли это? Туда и обратно… Только разбередишь себя.
– Не скажи. В нынешнее время каждая встреча с родными дорога. А тем более с братишками, которые на фронт рвутся.
До Тулы Михаил добрался пассажирским поездом. Дальше ехал рабочим. Вагон был переполнен до отказа. Среди пассажиров в основном женщины с детьми, пожилые люди. Ехали, кто куда. Одни покидали город и направлялись в сельскую местность, чтобы там переждать грозу, другие спешили на работу.
С грустью и тревогой смотрел Михаил на маленьких пассажиров, которых немало оказалось в вагоне. Дети всегда остаются детьми, и ничто их не берёт – так же непоседливы, так же говорливы они были и теперь. И всё же что-то едва уловимо изменилось в их поведении, появились скованность, осторожность. Весёлость внезапно сменялась печалью, а то и испугом.
Пассажиры с уважением смотрели на Гулякина, одетого в новую, с иголочки, военную форму: молод, а знаки различия военврача 3 ранга.
Пожилой мужчина в рабочей спецовке, сидевший напротив, спросил:
– Что слышно, товарищ командир, когда остановим фашистов?
– Остановим, обязательно остановим, – ответил Михаил.
– Все так говорят, – сокрушённо вздохнул рабочий. – Но когда же, когда?
– Скоро…
Да и что ещё мог ответить Гулякин. Пояснил:
– Я только вчера учёбу закончил. Отпустили попрощаться с родителями перед отправкой на фронт.
– Оно и понятно, – сказал рабочий, ещё раз придирчиво оглядев Михаила. – Врач? – спросил он, обратив внимание на эмблемы.
– Врач, – кивнул Михаил.
Рабочий оживился, заговорил по-отечески:
– Ты вот что, сынок, поласковее, потеплее с ранеными-то. Меня в гражданскую сильно зацепило. Вытащили с поля и сразу в лазарет. В бреду был, но, знаешь, запомнилось что? Глаза хирурга, что штопал меня. Тёплые, добрые глаза. И боль… Моя боль в них будто отражалась. Вот и у тебя глаза, вижу, добрые.
Эти горячие, убедительные фразы пожилого человека, годящегося Гулякину в отцы, запали в душу. Часто он вспоминал того рабочего и маленький урок, им преподанный.
Разговор привлёк внимание других пассажиров. Пожилая женщина спросила, сколько лет молоденькому военврачу. Кто-то поинтересовался, откуда он родом.
Михаил был приветлив и внимателен. Он понимал, что сейчас представляет в этом вагоне всё воинство, вставшее на защиту Отечества, и вся любовь этих простых людей к Красной Армии, которую они безусловно носят в сердце, сосредоточена на нём.
Узнав, что у него три брата, что один из них уже на фронте вместе с отцом, что и младшие ждут не дождутся, когда настанет их черёд, женщины стали сокрушаться, жалея мать: сколько же тревог, сколько горя придётся ей пережить, провожая на смертный бой с фашистами мужа и детей.
И, конечно, больше всего тревожила судьба тех, кто уже на фронте, да и его, Михаила, которому тоже предстояло отправиться в пекло. Да и кто мог предположить, как сложится судьба Гулякиных в этой войне, кто из них встретит победу, а кто останется в сырой земле, сложив голову за счастье Родины.
Из Тулы поезд выходил ранним утром. Когда Михаил, стараясь быть как можно более деликатным, всё же вынужденно участвовал в штурме вагона, предрассветная мгла окутывала перрон. Но вот миновали Щекино, и затеплился тусклый осенний рассвет. Пассажиры в вагоне менялись. Кто-то вышел ещё на Косой Горе, кто-то в Щекино, кто-то на небольшой станции Лазарево. Другие сели в Плавске, чтобы ехать в Чернь, Орёл. В Орёл ехали на работу.
Занимался день 30 сентября, и никто в поезде ещё не знал, что в этот день, в то самое хмурое осеннее утро перешла в наступление 2-я танковая группа генерала Гудериана, которая нанесла первый удар по советской обороне, за два дня до начала всеобщего наступления по плану операции «Тайфун». Никто в вагоне даже предположить не мог, что город Орёл, тот самый Орёл, в который многие ещё ехали на работу, в ночь на 3 октября будет оставлен нашими войсками и уже утром в него вступят части 4-й танковой дивизии 24-го моторизованного корпуса 2-й танковой группы Гудериана. Тяжёлое иго оккупации надолго закроет солнце над старым русским городом. И освобождён он будет лишь 5 августа 1943 года в ходе стратегической наступательной операции «Кутузов».
А 30 сентября рабочий поезд спокойно шёл из Тулы в Орёл, развозя тех, кто спешил на фабрики и заводы, чтобы давать необходимую продукцию фронта, тех, кто ехал к родственникам, интуитивно ощущая близость тяжёлых времён. Отпускников, таких вот как Гулякин, было мало, да их, скорее, даже, практически не было.
Наконец, за окнами поплыли родные места. Вот и станция Горбачёво. Поезд на ней стоял не более минуты. Михаил спрыгнул на низкий, выщербленный перрон, когда состав ещё медленно тянулся вдоль него. Огляделся и не узнал станции. Её строения сильно пострадали от налётов вражеской авиации, близ железнодорожного полотна виднелись глубокие воронки.
«Значит и сюда добралась война, – подумал он. – Просто сегодня низкая облачность, потому и тихо, – и тут же охватила тревога: – Что дома?»
На станции дыхание фронта ощущалось значительно сильнее, чем в вагоне. Замаскированные позиции зенитной батареи, воронки, разрушенные пристанционные постройки, остовы сгоревших домов, пугающих обугленными печными трубами. Вот они ужасающие картины войны. И ведь за всеми этими картинами боль, горе и страдания людей.
Михаил быстро зашагал знакомой просёлочной дорогой, на которой помнил каждый поворот, каждый мосток, каждую низину и каждый пригорок. Постепенно следы войны исчезли. Впереди показалась берёзовая рощица, вся в разноцветье листвы. Она и в пасмурный день красива, а вот выглянет солнце… Но если разбегутся облака и брызнут солнечные лучи, прилетят облака другие, с чёрными крестами на крыльях, и не останется следа от чудес природы. Конечно, рощицу никто бомбить не будет, если там не укрыты войсковые подразделения, боевая техника, но гул от бомбёжки станции далеко раскатится по окрестностям, стирая мирный тёплый пейзаж.
Миша Гулякин шёл той дорогой, которой он уже проходил десятки раз и во время учёбы в Орле, и в период работы в Туле, и позже, когда стал студентом, а затем слушателем военного факультета. Он проходил здесь с разными чувствами – с радостью в сторону дома, и с грустью от дома к железнодорожной станции.
Пятнадцать километров для молодого человека – расстояний пустяшное. За два с небольшим часа отмахал его, и вот увидел вдалеке, в мутной осенней дымке родное село Акинтьево. Вспомнил, как обычно, когда он приезжал, уже здесь, на горе, встречал его Анатолий, самый младший из братьев, особенно к нему привязавшийся.
Теперь никто не встречал, потому что никто и не ожидал приезда. Раньше-то всегда было известно, когда начинался отпуск.
Деревня показалось вымершей. На улице ни одного человека. Михаил остановился перед домом, осторожно стал открывать калитку, но всё же она скрипнула.
– Кто там? – послышался голос матери.
– Это я, мама!..
– Миша?!
Мать бросилась к нему, обняла, прижала к себе, потом отступила на шаг, любуясь строгой выправкой и красивой командирской формой сына.
– А где ребятишки? – спросил Михаил, смущаясь.
– В школе. А ты надолго?
– Утром уезжаю.
В глазах матери мелькнула тревога.
– На фронт?
– Нет, сначала в Москву, затем в Куйбышев.
– В Куйбышев? – переспросила мама и с надеждой предположила: – Значит, в госпитале будешь работать?
Михаил подумал, говорить или не говорить, куда действительно он направлен, и решил повременить с этим.
– Пока не знаю, назначен в распоряжение… Там решат. Ты лучше расскажи, что отец пишет? Как дела у Алексея? – попросил он, стремясь перевести разговор на другую тему.
Но тема была одна – война…
– Отец воюет, – сказала мать, вытирая глаза краешком фартука, – Алексей оканчивает радиотехническое училище.
– Алёшка? Радиотехник? Значит, сменил свою мирную специальность зоотехника на связиста?
– Ну что ж мы стоим? – спохватилась мать. – Проходи в дом. Ты, наверное, голодный.
– Что ты, мама. Я даже вам кое-какие продукты прихватил. Нас хорошо кормят.
Они прошли в дом, Михаил сел на своё любимое место. Переодеваться не стал. Пусть братья увидят его в военной форме. Пока они не вернулись, решил поговорить о деле.
Начал осторожно:
– Фронт приближается, мама. Если врага наши в ближайшее время не остановят, надо эвакуироваться.
– Куда ещё? Зачем это?
– Нельзя оставаться здесь семье коммуниста, да к тому же первого председателя колхоза. Семье, в которой вон уже и сам отец и два сына в армии. Да и Александр в училище собирается.
– Да, Саша скоро уедет. Был в военкомате. Там сказали, что повестку пришлют на днях, – подтвердила мать. – Останемся мы с Аней и с Толиком.
– Нельзя вам оставаться, никак нельзя.
– Но куда же ехать?
Михаил задумался, потом решительно заявил:
– Вот на место службы прибуду, осмотрюсь, устроюсь, ну и вызову вас туда.
Договорить не дали братья. Они влетели в комнату и повисли на Михаиле.
– Ух, ты какой стал! – восхищённо говорил Александр. – Ну ничего. Я тебя скоро догоню! А вот было бы здорово всем нам братьям на фронте встретиться, а? Ты представляешь, попасть бы всем нам в одну часть и вместе бить фашистов.
Легли в тот день поздно. Александр, Анатолий и Аня заснули быстро, но до самой зари слышал Михаил тяжёлые вздохи матери. Она и не знала, что он в ту ночь тоже не сомкнул глаз.
Завтракали молча. Многое, очень многое ещё нужно было сказать другу-другу, но не очень говорилось перед разлукой, которая не обещала быть короткой. Лишь Анатолий нарушал тревожную тишину за столом и приставал с вопросами. Его интересовало, как дела на фронте, как воюют фашисты, какое у них оружие, какая форма. Михаил, конечно, кое что знал, ведь сколько раненых-то прошло уже через его руки в институтской клинике, но отвечал неохотно. Был занят своими мыслями.
До станции его обещал подвезти почтальон. Вышли на улицу. Подкатила обычная деревенская повозка. Прыгнув в неё, Михаил помахал рукой своим родным, а потом долго ещё видел возле дома маму, братьев и сестру, которые всё смотрели и смотрели вслед, пока не скрылись из глаз.
Лишь к вечеру Михаил добрался до Москвы. А утром военврач 1 ранга Борисов собрал в одной из аудиторий выпускников, назначенных для отправки в Приволжский военный округ.
Старший группы Михаил Гулякин смотрел на суровые, сосредоточенные лица своих товарищей – молодых военврачей – и видел, как повзрослели они за несколько месяцев, что прошли с памятной июньской ночи в лагере.
Обычно лето для слушателей, студентов, для всех учащихся проносится незаметно, но минувшие месяцы этого грозового лета и месяц грозовой осени запомнились непрерывными, напряжёнными занятиями, хлопотными дежурствами. Казалось, они тянулись целую вечность.
Военврач 1 ранга Борисов вошёл в аудиторию и жестом попросил не вставать и не докладывать ему. Он был взволнован. Голос слегка дрожал.
– Дорогие товарищи, – начал он, – все вы знаете, что представляют собой войска, в которые направляетесь. Хочу сообщить, что недавно над воздушно-десантными войсками взял шефство комсомол, направив в эти войска лучших своих питомцев. И наш военный факультет направляет на службу туда лучших своих выпускников.
Борисов сделал паузу и оглядел молодых военврачей. Продолжил проникновенно, доверительно:
– В ваших руках будет жизнь воинов-десантников, тех, кто получит ранение в бою. А каждый бой десантника – это не просто бой. Каждый бой десантника – это подвиг. Вам придётся спасать раненых – перевязывать, оперировать, словом оказывать врачебную помощь – в тяжелейших условиях, вдали от медицинских баз и, порою, под огнём врага. Может случиться так, что передний край будет со всех сторон, а подчас пройдёт через ваш медицинский пункт или медсанбат. Вот что такое служба в воздушно-десантных войсках. Вам будет очень и очень трудно. Ваша работа по медицинскому обеспечению так же как и боевая работа десантников, несомненно, будет постоянным подвигом. Я верю, что вы не уроните чести института и военного факультета.
Военврач 1 ранга Борисов попрощался с каждым за руку, каждому сказал доброе напутственное слово. Он хорошо знал своих воспитанников, всех называл в минуту расставания по именам.
– Тебе, Миша, – тепло сказал он Гулякину, – желаю стать настоящим хирургом. Все данные у тебя есть. А сейчас иди, получай документы на всю группу. Выезд после обеда. По прибытии в Ульяновск представишь группу начальнику медицинской службы округа, а он уже распределит вас по частям и соединениям.
На вокзале было людно. В те осенние дни 1941 года дорога на фронт пролегала не только в западном направлении. Военные спешили на восток, туда, где в глубоком тылу формировались новые соединения, где вступали в строй промышленные предприятия, эвакуированные из западных областей СССР, где создавались мощные резервы, предназначенные для решительного отпора и разгрома врага.
Из репродукторов летели могучие, торжественные слова песни, родившейся в первые дни войны и сразу ставшей одной из самых популярных: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!»
В день отъезда с утра шёл мелкий осенний дождь. Молодые военврачи изрядно вымокли, ожидая, когда подадут состав.
– А ведь дождь к удаче, – сказал Михаил. – Значит, все вернёмся в Москву и вернёмся с победой!
– Обязательно вернёмся, – поддержал его Виктор Гусев и воскликнул: – А вот и поезд!
И снова дорога, снова перестук колёс, неумолимо отсчитывающих километры. За окошком вагона проплыли окраины Москвы, потянулись дачные посёлки, затем открылись поля, леса и перелески в осеннем убранстве, мелькали небольшие деревушки.
Состав шёл медленно, пропуская вперёд эшелоны с ранеными. Со скоростью курьерских поездов мчались на восток составы с оборудованием фабрик и заводов. Навстречу шли почти непрерывным потоком эшелоны с танками, артиллерией, войсками.
А дождь всё лил и лил как из ведра. Он безжалостно хлестал по стеклу, он заливал поля, где работали женщины, подростки, пожилые крестьяне, заканчивая уборку картофеля, капусты, других овощей, особенно теперь ценных и для фронта, и для огромного города, который уже начал готовиться к обороне.
– Гляди-ка, Миша, мужчин-то в поле совсем нет – сказал Виктор Гусев. – Трудно, ой как трудно сейчас в тылу. В колхозах-то, небось, одни женщины и остались.
Ночь прошла в дороге. Поезд часто стоял на полустанках, подолгу задерживался на крупных станциях.
В Ульяновск прибыли погожим осенним днём.
Гулякин зашёл к коменданту вокзала, спросил, как добраться до штаба округа. Тот тщательно проверил документы, выяснил, в какой управление следует группа и пояснил, что идти надо в одну из ближайших школ. Там принимают прибывающих на укомплектование офицеров-медиков.
Транспорта не было, но и пешком можно было добраться – комендант сказал, что нужное им здание школы недалеко находится.
Из бюро пропусков Гулякин позвонил начальнику санитарного отдела округа. Приёма ждали недолго. Военврач 1 ранга Хмелёв попросил всех зайти в классную комнату на втором этаже. Поздоровался, поздравил с окончанием военного факультета и начал без предисловий:
– В городе развёрнуто много госпиталей. Все заполнены ранеными, но прибывают всё новые и новые партии. Приказано развернуть ещё несколько лечебно-эвакуационных учреждений, а медперсонала у нас для этого не хватает. Если в вашей группе есть желающие, могу направить в любой госпиталь. Завтра же приступить к самостоятельной и ответственной работе. Завтра же будете оперировать! Ну, слушаю ваши соображения по этому поводу.
– Разрешите мне сказать, – попросил Гулякин.
– Да, да, пожалуйста. Слушаю вас.
– Товарищ военврач первого ранга. Думаю, не ошибусь, если скажу от имени всех. Нас готовили для Военно-Воздушных Сил. Но в Москве принято решение направить в Воздушно-десантные войска. Врачей для этого отбирали специально. Почти все в нашей группе занимались в аэроклубе, почти у всех по нескольку прыжков с парашютом. Так что наше место в воздушно-десантных войсках и просим вас отправить в части и соединения корпуса.
Хмелёв повертел в руках предписание, несколько раздражённо спросил:
– Другие мнения есть? – и, не услышав других мнений, продолжил: – Вы, вероятно, считаете, что главное место военного врача сейчас у самой линии фронта, а здесь, в тылу, всё легко и просто. Почти что курорт? Это далеко не так. Здесь у врачей колоссальная нагрузка. Хирурги падают с ног, не отходят часами от операционных столов. А где приходится работать? Вы привыкли к институтской клинике. А здесь мы создаём лечебные учреждения в самых неприспособленных для этого зданиях: в школах, институтах, общежитиях… Вы даже представить себе не можете, насколько сложно в кратчайшие сроки приспособить эти здания под госпитали, оборудовать в них операционные, перевязочные, физиотерапевтические и рентгеновские кабинеты, санпропускники, пищеблоки – словом, всё самое необходимое для лечения раненых.
Все молчали. Да, собственно каждый понимал, что в тылу не сладко, что здесь у медиков тяжелейшая, изнурительная работа. Правда, не рвутся снаряды и не падают бомбы. Нет постоянного риска для жизни, как на передовой. Молодым военврачам уже было известно, что фашисты бомбят и обстреливают из орудий медсанбаты, что для вражеских бомбардировщиков излюбленными целями являются санитарные поезда. Быть может, именно поэтому никто из группы Гулякина не хотел оставаться здесь. Ведь на фронте в жестоких боях погибали их сверстники, а теперь уже, наверное, находились под бомбами и те выпускники военного факультета, которые были направлены в стрелковые, танковые, артиллерийские части и соединения.
Военврач 1 ранга Хмелёв всё же сказал ещё несколько слов, вряд ли уже рассчитывая кого-либо убедить остаться в Куйбышеве:
– Создание госпиталей – дело огромной государственной важности. Советские и партийные органы делают всё, чтобы выполнить эту задачу в кратчайшие сроки. Я вам не предлагаю лёгкой работы…
Гулякин сообразил, что, видимо, не в компетенции Хмелёва было оставить кого-либо в тыловом госпитале силой приказа. Видимо, ему было почему-то необходимо, чтобы кто-то из военврачей попросил об этом сам. А сообразив, стал настаивать на своём:
– Мы направлены в Воздушно-десантные войска и хотим немедленно отправиться к месту службы.
Хмелёв махнул рукой и уже, сменив тон, сказал:
– Не смею вас задерживать. Желание ваше не только законно, но и похвально. Сам в действующую прошусь, – признался он. – Но ведь кому-то и здесь работать надо. Что ж, удачи вам. Документы оформим сегодня же и распределим вас по частям и соединениям корпуса.
Глава седьмая
Первый воздушно-десантный
Старый пароход, глухо шлёпая по воде огромными колёсами, медленно подошёл к пристани. Всей группе были предоставлены места в каютах. Но погода выдалась солнечная, и молодые военные врачи не уходили с палубы, любуясь живописными волжскими утёсами, косогорами и широкими песчаными косами, врезающимися в русло, бархатными берегами, вдоль которых стлался по воде разноцветный лиственный ковёр.
В прозрачной воде, отражались редкие облака и косяки перелётных птиц. Природа жила своей, независимой от войны жизнью. Здесь, на просторах великой русской реки, с трудом верилось, что где-то идут жестокие бои, гибнут люди, что над Отечеством нависла смертельная опасность.
В штабе 1-го воздушно-десантного корпуса военврачей распределили по соединениям и частям. Группа распалась. Распрощавшись с товарищами, Гулякин отправился в 1-ю воздушно-десантную бригаду, в которую получил назначение.
1-й воздушно-десантный корпус был сформирован 2 июля 1941 года, уже принял участие в жесточайших боях и был выведен на доукомплектование. Нужно было довести численность его до полного штата, а это 10 000 человек. Причём, направлялись в корпус в основном добровольцы по комсомольским путёвкам ЦК ВЛКСМ. В составе корпуса были три воздушно-десантные бригады, танковый батальон, артиллерийский дивизион, а также подразделения и части обеспечения. Военно-транспортная авиация в состав корпуса не входила, а придавалась ему на время проведения воздушно-десантной операции. На вооружении соединения было обычное стрелковое вооружение – ручные и станковые пулемёты, ну и, конечно, автоматы – с трёхлинейками-то десантироваться трудно. Миномёты были 50-мм и 82-мм. Артиллерия представлена 45-мм противотанковыми и 76-мм горными пушками. Ну и кроме того на вооружении состояли огнемёты.
В отдельном танковом батальоне было 50 танков Т-40 и Т-38.
В начале войны воздушно-десантные части и соединения использовались в основном, как стрелковые, поскольку и опыта у командования в проведении операций оказалось недостаточно, да и нечем было десантировать. Огромное количество самолётов, во многом по причине предательства генерала Павлова, враг уничтожил в первый же день войны на аэродромах.
Вот в такой корпус и прибыли Гулякин и его товарищи.
В 1-й воздушно-десантной бригаде Гулякина принял начальник медицинской службы бригады военврач 2 ранга Кириченко.
– Рад пополнению! – воскликнул он, поднимаясь навстречу из-за небольшого письменного стола, заваленного бумагами. – А то у нас совсем плохо с медициной. Вы назначены начальником медицинской службы второго отдельного воздушно-десантного батальона. Коротко введу в обстановку. Вы уже, вероятно, знаете, что корпус находится на доукомплектовании после тяжёлых потерь, понесённых в первые недели войны.
– Знаю, – ответил Гулякин. – И как долго мы будем в тылу?
– Рвётесь на фронт? Понимаю. Только ведь на подготовку десантников времени нужно побольше, чем на подготовку красноармейца стрелкового подразделения. Да и на обучение медицинских кадров, между прочим, тоже. Ведь вы пока на медицинском пункте батальона – в единственном числе. Сами будете подбирать себе помощников из пополнения.
– Расскажите, пожалуйста, о корпусе, – попросил Гулякин.
Кириченко посмотрел на часы, кивнул:
– Хорошо, несколько минут у меня есть.
Он подошёл к висевшей на стене карте европейской части Советского Союза с обозначенной флажками линией фронта. Взял указку и начал рассказ:
– Корпус участвовал в боях сначала на западном направлении. Выбрасывал небольшие группы десантников в тыл врага, сражался бок о бок со стрелковыми соединениями. С двадцать восьмого августа находился в резерве фронта, но недолго. Обстановка осложнилась, и в начале сентября корпус ввели в бой в составе пятой армии, которая оборонялась на южном берегу Десны. И заметьте, – сделал акцент Кириченко, – все эти месяцы корпус воевал без пополнения, постоянно находясь в самом пекле. Ведь сражаться приходилось с численно превосходящим врагом. В середине сентября в ожесточённых боях корпус понёс серьёзные потери. После этого его было решено вывести на доукомплектование.
– Пополнение уже прибыло? – поинтересовался Гулякин.
– Начинает поступать. Замечательных ребят присылают. Почти все комсомольцы – из Москвы, Горького, Иванова, Владимира… Сроки поставлены жёсткие. Через три месяца мы должны быть готовы вступить в бой. За это время предстоит сформировать части и подразделения, вооружить и подготовить тысячи парашютистов. А учебных баз, как, впрочем, и медицинской базы, нет. Всё нужно начинать с нуля. Правда, командный состав надежный – почти все уже побывали в боях.
– Спасибо за информацию, – сказал Гулякин. – Теперь имею представление о том, куда назначен. Разрешите приступить к выполнению служебных обязанностей?
– Да, конечно. И начните с представления командиру батальона. Он тоже новичок в Воздушно-десантных войсках. Комбат, старший лейтенант Жихарев, назначен к нам из военкомата, где служил до сих пор, и бомбил командование рапортами с просьбой отправить на фронт. Уже успел проявить себя, как хороший организатор, волевой, требовательный командир. Словом, познакомьтесь и с ним, и с теми, кто уже прибыл в батальон, ну и начинайте осваивать нашу десантную науку. Батальон в стадии комплектования.
– Разрешите идти? – спросил Гулякин.
– Да, да, Михаил, идите, – разрешил Кириченко, назвав Гулякина по имени, чтобы несколько снизить накал официоза – всё же медицина есть медицина. Дисциплина необходима, но и большая доверительность, большее взаимное расположение начальников и подчинённых не помеха.
Гулякин уже повернулся и открыл дверь, когда Кириченко остановил его и сказал как бы в напутствие:
– Помните, что старший лейтенант Жихарев хоть и младше вас по воинскому званию, но – командир. Он ваш непосредственный начальник.
– Конечно, конечно, – улыбнулся Михаил и вышел из кабинета.
Вот такие случались метаморфозы. Михаил Гулякин в армии без году неделя, ведь пришёл он на военный факультет совсем недавно, а уже имеет воинское звание военврач 3 ранга, что приравнивается к майорскому званию. В двадцатые – тридцатые годы прошло немало реформ в системе воинских должностей и званий. Завершились они окончательно уже во время войны, в начале 1943 года, когда были возвращены погоны и упорядочены воинские звания офицеров. До этого времени офицеров в Красной Армии не было – были красноармейцы и командиры.
2-й отдельный воздушно-десантный батальон размещался в нескольких домиках. Гулякин нашёл Жихарева в штабе – комнатке, в которой едва приютился стол со стульями, а большая её часть была завалена разным военным имуществом. На стенах висели таблицы и схемы.
Гулякин доложил чётко, по уставу. Жихарев вышел из-за стола, шагнул навстречу, крепко пожал руку. Спросил имя и отчество. Не хотел, очевидно, называть Гулякина по воинскому званию.
– Хорошо, что прибыли, Михаил Филиппович. Дел для медицины много. Личный состав уже поступает. Нужно каждого бойца осмотреть. Определить, годен ли? Мало ли что там могут написать. Люди рвутся в десантники, могут и скрыть недуги. А нам нужны здоровые ребята. Но и это не всё. Попрошу вас помочь с размещением, проверить, соответствуют ли наши, с позволения сказать, казармы, санитарным нормам. Всё хозяйство – несколько домиков, а народу будет много… Штатное расписание знаете?
– Знаю, – кивнул Гулякин.
– А сейчас извините, – сказал Жихарев, мельком взглянув на часы, – тороплюсь на совещание в штаб бригады. Подробнее поговорим позже. Осмотритесь пока.
Михаил обошёл расположение батальона. Домики оказались чистенькими и тёплыми, однако места в них для размещения батальона, численность которого составляла по штатному расписанию около пятисот человек, явно было мало.
«Придётся ставить палатки, – отметил Гулякин. – и придётся в них жить, и поздней осенью, и зимой… Три месяца… Это ж получается, до нового года».
Он прошёл дальше и увидел, что работа по установке палаток идёт полным ходом. Красноармейцы сколачивали нары, расчищали территорию, оборудовали пищеблок. Всё это нужно было теперь тщательно контролировать.
А с утра следующего дня он начал тщательный медицинский осмотр всех прибывших в батальон. К счастью, направляли в Воздушно-десантные войска действительно здоровых и крепких парней.
Постепенно комплектовался и батальонный медицинский пункт. Сначала прибыл фельдшер Василий Мялковский. Его назначили фельдшером медицинского пункта батальона.
Разбирая учётные карточки красноармейцев, Гулякин наткнулся на документы Виктора Тараканова. В карточке значилось, что до призыва он был ветеринарным фельдшером.
«Ну что ж, – решил Михаил, – санитарным инструктором назначить можно. Подучим немного, и дела пойдут».
Труднее было с санитарами. Людей с медицинским образованием не нашли. Выбрали двух красноармейцев – Дурова и Мельникова. Их предстояло учить с азов.
Батальон сформировали быстро, и вскоре начались занятия. Целыми днями подразделения проводили в поле, на стрельбище, прыгали с парашютной вышки.
Не забывало командование и о военных медиках. В один из дней боевой учёбы Кириченко собрал военных медиков батальонного звена на совещание. Когда все разместились в его тесном кабинете, заговорил о главном – о подготовке к предстоящим боям.
– Перед нами, товарищи, задача особой важности: предстоит не только провести занятия с личными составом медицинских пунктов и санинструкторами рот, но и научить каждого десантника оказывать первую помощь на поле боя и себе, и товарищам.
Кириченко напомнил, что судьба раненого во многом зависит от быстроты и качества наложения первой повязки.
– Ротные санитары должны неотлучно находиться на поле боя, быстро оказывать помощь раненым, эвакуировать их в безопасные места, – говорил он. – Но всё это хорошо при действиях в обычных условиях, а как организовать медицинскую помощь в бою, когда подразделения будут делиться на небольшие группы, атаковать противника с разных направлений? Кто наложит первую повязку, назначение которой, как вы знаете, предупредить потерю крови и загрязнение раны, уменьшить боль? Если упустить время, у раненого может начаться болевой шок. Вот потому то и важно, очень важно научить каждого красноармейца приёмам самопомощи и взаимопомощи.
Быть может, впервые именно на этом совещании Гулякин по-настоящему осознал, какая работа ему предстоит, ведь он здесь – один-единственный врач на сотни человек. Именно он, только он один в ответе за всех раненых, к тому же в тылу врага. Их не эвакуируешь в медсанбат, не направишь в госпиталь, ведь вокруг территория, занятая противником, да к тому же прифронтовая полоса, напичканная войсками.
Прежде всего, Гулякин решил наладить учёбу своих непосредственных подчинённых. На следующий день после совещания он провёл первое занятие. Выбрал для него небольшой садик, прилегающий к дому, в котором разместился батальонный медпункт. Начал с разъяснения важности оказания медицинской помощи на поле боя. Повторил многое из того, о чём говорил Кириченко, добавил и от себя кое-что – не зря же окончил военный факультет. Уж чего-чего, а теоретических знаний ему хватало.
Слушали, поначалу скучая. Тогда Гулякин стал задавать вопросы.
– Назовите-ка наиболее опасные осложнения раны на поле боя, – попросил он Мялковского.
– Сильное кровотечение, – твёрдо ответил тот и пояснил: – К нему приводит повреждение кровеносных сосудов. Может образоваться болевой шок. Это в случае обширных ранений мягких тканей, а также перелома длинных трубчатых костей.
– И всё? – переспросил Гулякин.
Мялковский наморщил лоб, но ничего больше добавить не мог.
– Ну а в более поздние сроки? – помог ему Гулякин вопросом.
– Может развиться инфекция. Наиболее опасна анаэробная, – довольно уверенно продолжил фельдшер. – Это газовая гангрена, столбняк…
– По канонам военно-полевой хирургии, товарищи, – дополнил Гулякин. – каждая рана считается первично инфицированной. Об этом надо всегда помнить. А теперь такой вопрос: что нужно сделать при оказании первой помощи?
– Разрешите продолжить ответ? – спросил Мялковский.
– Да, да, конечно, продолжайте.
Мялковский заговорил чётко, даже излишни по-книжному, показывая, что этот материал он знает твёрдо.
– Остановить кровотечение из повреждённых крупных сосудов, защитить рану от дальнейшего попадания инфекции, предупредить возникновение болевого шока. В случае перелома длинных трубчатых костей и обширных ран мягких тканей произвести иммобилизацию…
«Знания есть и неплохие, – отметил Гулякин. – Но сможет ли фельдшер применить их практически на поле боя, под огнём врага?»
Несколько хуже, но в целом верно отвечал Тараканов. Гулякин попросил его рассказать о способах остановки кровотечения. Тараканов правильно назвал все места, где необходимо прижать лучевую, сонную или подключичную артерии, чтобы остановить кровотечение.
Красноармейцев Дурова и Мельникова Гулякин не спрашивал совсем, поскольку их нужно было сначала выучить.
После разбора теоретических вопросов, Гулякин объявил перерыв. Обратил внимание, что его подчинённые живо обсуждают первое занятие.
Пора было переходить к практике…
После перерыва Гулякин начал практические занятия.
Дал первую вводную:
– Вы, красноармеец Дуров, при десантировании получили травму. Чувствуете боль в бедре. Встать на ногу не можете. Ваши действия? Ложитесь, ложитесь на землю, Дуров. Да, да, вот так. Стоять вы не можете. Ну, я жду…
– Зову врача, – сказал Дуров.
Гулякин усмехнулся:
– Врача? Вы забыли, что врач всего один на сотни человек?
– Ну, санитара хотя бы…
– Хорошо. Хорошо, вот прибыл к вам санитар красноармеец Мельников. Подходите, подходите, не стесняйтесь, санитар. Что дальше? Действуйте, Мельников…
Мельников подошёл к Дурову, и в растерянности остановился возле него. Потом сказал неуверенно:
– Отнесу его в медпункт батальона.
– Ну, так несите, – велел Гулякин, но когда Мельников наклонился над Дуровым, остановил его, словами: – Прежде всего, вы на месте должны оказать помощь.
– Но я же не умею…
– Вот именно. Это я и хотел дать вам понять. А то стоите и не слушаете, о чём вам рассказываю.
– Извините, – покраснел Мельников. – Просто не подумал, что это может пригодиться.
– Красноармеец Мялковский, покажите всё, что нужно сделать, – приказал Гулякин.
– У пострадавшего перелом, – уверенно начал Мялковский. – Ввожу под кожу обезболивающее средство. Накладываю шину Дитерихса или стандартную проволочную лестничную шину. Затем… Затем докладываю начальнику батальонного медпункта, что нужно госпитализировать пострадавшего.
Трудно, очень трудно доходило до сознания каждого, что за спиной не будет никаких лечебных учреждений, что раненые, даже крайне тяжёлые, останутся на попечении личного состава батальонного медицинского пункта.
– Я просил вас не рассказать, а показать, что нужно делать, – напомнил Гулякин. – Вот здесь, на столах, – указал он, – разложены необходимые средства для оказания первой помощи. В бою они будут при вас, в ваших санитарных сумках. Действуйте.
Взяв лестничную шину, Мялковский быстро и аккуратно наложил её. Гулякин заметил, с каким вниманием следил за действиями фельдшера красноармеец Мельников.
Когда Мялковский завершил работу, сказал:
– И ещё вот на что хочу обратить внимание. Вы забываете, в каких войсках служите. Никаких медсанбатов, а тем более госпиталей поблизости не будет. В нашем распоряжении только батальонный медицинский пункт, который должен быть подвижен и хорошо замаскирован. От того, как мы организуем его работу, будут зависеть жизни раненых.
– А где же разместить батальонный медицинский пункт, если вокруг противник? – спросил красноармеец Тараканов.
Гулякин ответил не сразу. Он прикинул:
«Действительно, где? Ведь медпункт – это я и мои помощники. Никакого стационарного оборудования за линию фронта мы, конечно взять не сможем. Только самые необходимые медикаменты».
– Медпункт будет размещаться за боевыми порядками батальона в наиболее безопасном месте. Ну а место это мы будем выбирать в соответствии с указаниями начальника штаба батальона.
Второй час занятий Гулякин целиком посвятил действиями по различным вводным. Убедился, что с решением вводных, дело обстоит плохо. Хотя фельдшер и санинструктор получили полное среднее образование, практических навыков работы в полевых условиях не имели.
Пришлось учить подчинённых скрытно подбираться к раненому, переносить его в укрытие, оказывать первую помощь, эвакуировать в батальонный мудпункт, используя подручные средства.
Подобные занятия Гулякин стал проводить каждый день. Немного теории, затем решения вводных в спокойном режиме, а затем – действия, как в бою. Без проволочек, быстро. Нужно было помочь личному составу овладеть навыками оказания первой помощи на поле боя, а затем эти навыки довести до автоматизма. Теория, затем практические действия в медленном темпе, с разбором ошибок и, наконец, тренировка в решении вводных уже на время.
Постепенно дела пошли на лад. Занятия со штатными и нештатными санитарами рот Гулякин поручил Мялковскому. С личным составом медпункта занимался сам, а вот с обучением личного состава батальона дела не клеились. Программой на них отводилось всего два-три часа.
Гулякин отправился к комбату. Попросил дополнительные часы занятий.
– Михаил Филиппович, дорогой, где же я тебе время возьму? – развёл руками старший лейтенант Жихарев. – У нас программа не просто насыщена. Я бы сказал – перенасыщена. Сам знаешь, как трудно за такой короткий срок подготовить воина-десантника. Ведь мы должны обучить не только тактике ведения боя, но и прыжкам с парашютом.
– Всё это верно, – согласился Гулякин. – Но обучив бойцов и командиров приёмам и способам оказания помощи на поле боя, мы сохраним жизни очень многим раненым. Ведь понятно же, что бой без жертв не бывает, понятно, что и раненых может быть немало.
– И я тебя понимаю, и ты меня понимаешь, – усмехнулся Жихарев. – И оба мы правы. Но как же быть?
– Нужно вместе подумать, и как-то найти возможность…
– Хорошо! – Жихарев сел за стол, положил перед собой план боевой подготовки, предложил: – А что если использовать некоторые занятия, ну, скажем, прыжки с вышки? Ведь что получается? Пока один взвод десантников прыгает, другой готовятся к прыжкам, то с третьим вполне можно организовать занятия.
Он помолчал, ещё что-то прикинул и подытожил:
– Предположим, взвод закончил прыжки и отдыхает. Почему бы не поговорить с личным составом во время отдыха. Каждому будет понятен такой разговор.
– Отличная мысль – обрадовался Гулякин. – Вот на таких занятиях – теория. Ну а в часы, отведённые нам по плану, уже практические тренировки.
На следующий день Гулякин собрал освободившихся после прыжков бойцов. Стал рассказывать им, как накладывается повязка, останавливается кровотечение. Десантники молча стояли в строю, слушали с интересом, но когда он задал им несколько контрольных вопросов, выяснилось, что никто ничего не усвоил.
Почему? Да просто не принимали всерьёз медицинскую подготовку. Так уж устроен человек: всегда надеется на лучшее – мол, меня пронесёт, меня не ранит.
Возникла новая проблема: как заинтересовать, заставить их понять, насколько важно усвоить основы военно-медицинской подготовки.
Своими раздумьями Гулякин поделился с комиссаром батальона старшим политруком Николаем Ивановичем Коробочкиным. Попросил его при проведении политических занятий попытаться убедить людей, насколько важны навыки в оказании первой помощи и самопомощи в бою.
– Попробую помочь вам, – пообещал комиссар. – А вы продолжайте занятия. Только постарайтесь проводить их живее. Думайте, чем заинтересовать десантников.
«Так чем же, чем? – размышлял Гулякин. – А приведу-ка я примеры из опыта боёв на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. Нам ведь столько об этом рассказывали на военфаке».
Следующее занятие прошло гораздо лучше. Десантники с интересом слушали рассказы. Их не могли оставить равнодушными приведённые примеры. Особенно заинтересовали приведённые Гулякиным цифры и факты, показывающие, насколько завит успех лечения раненого от быстроты и правильности оказания ему первой помощи на поле боя. Сами стали интересоваться, как правильно наложить повязку, как использовать индивидуальный перевязочный пакет.
И всё-таки, как оказалось, обучение личного состава – не самое сложное в деятельности начальника медицинской службы батальона. Ведь во всех случаях жизни и в любой обстановке врач, прежде всего, остаётся врачом, а следовательно, его обязанность – лечение людей.
Распорядком дня на амбулаторный приём больных было отведено два часа. Медицинский пункт батальона начал работать уже через пару дней после прибытия Гулякина в батальон. Его готовность к работе приезжал проверять начальник медицинской службы бригады военврач 2 ранга Кириченко. Побывали в нём и Жихарев с Коробочкиным.
Жихарев принёс только что отпечатанный распорядок дня и вручил его Гулякину.
– Вот, изучайте. Надо добиться того, чтобы больные, кроме, конечно, экстренных случаев, обращались к вам строго в отведённые часы. Времени-то хватит?
Гулякин взял из рук комбата листок с распорядком дня, внимательно прочитал и твёрдо сказал:
– Двух часов, конечно, вполне достаточно. Народ у нас здоровый. Вряд ли загрузят работой.
– Тем не менее, вы должны быть готовы. Порядок у нас следующий, – пояснил Жихарев, – На утреннем осмотре дежурные по ротам заносят в специальную книгу записей больных всех, кто нуждается в медицинской помощи, а за пятнадцать минут до назначенного времени отправляют их к вам на приём под командой санинструкторов рот.
– Хорошо. Мы готовы начать приём.
Но в первые дни в медпункте никто не появлялся.
И вдруг…
Это случилось сразу после окончания тактических учений, во время которых роты совершили длительный марш, а затем действовали в сложной обстановке.
В тот день Гулякин, устроившись в своём небольшом кабинете, просматривал записи, которые сделал во время учений. Готовился на ближайшем занятии провести краткий разбор действий личного состава батальонного медицинского пункта, санинструкторов рот и санитаров. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился фельдшер Василий Мялковский.
– Товарищ военврач третьего ранга, – возбуждённого заговорил он. – Вы только взгляните, почти весь батальон к вам пожаловал.
– Батальон? Зачем? – спросил Гулякин и с удивлением посмотрел на подчинённого.
Мялковский шагнул к окну и отдёрнул штору. Он, конечно, несколько преувеличил – нет, не батальон пожаловал в медпункт, но, по крайней мере, пятая часть личного состава ожидала приёма врача.
– Откуда же столько? – проговорил Гулякин, и в голосе его прозвучали нотки растерянности.
«Как же я успею осмотреть всех за два часа? – с беспокойством подумал он. – Как сумею поставить диагноз каждому?»
Сразу возник вопрос: с чего начать работу. Вызывать, как это делается обычно на амбулаторных приёмах, каждого поочерёдно и осматривать здесь, в кабинете? Но так и до утра не управиться. А приём надо завершить через два часа. Через два часа все десантники должны возвратиться в свои подразделения. Кому предстоит в наряд заступать, а кто будет назначен на хозяйственные работы. Кто начнёт подготовку к ночным занятиям или стрельбам.
Решение надо было принимать быстро.
Вспомнил, что по этому поводу говорилось на лекциях в институте, как строились практические занятия.
На военном факультете, конечно, многие вопросы отрабатывались тщательно и подробно прежде всего на лекциях и семинарах, ну а затем практически в поле. Во время лагерного сбора подо Ржевом слушатели стажировались в лазарете авиационного соединения, участвовали и в амбулаторных приёмах. Но тогда ведь, летом, больных было совсем мало. Они приходили в лазарет или в медпункт в назначенное время. Сначала ими занимались фельдшер или санинструктор – записывали жалобы, ставили градусники. И только после этого больные по очереди заходили в кабинет врача. Врач вёл приём внимательно, не торопясь осматривал больного. Пятнадцать, а то и двадцать минут уходило на каждого больного. Теперь всё это оказалось непозволительной роскошью.
Пишу эти строки и думаю, мог ли себе представить молодой военврач 3 ранга Михаил Гулякин в ту суровую осень сорок первого, или даже нет – мог ли себе представить полковник медицинской службы Гулякин осенью 1881 года, когда готовилось самое первое издание книги о нём, и мы подолгу беседовали, и о службе его, и о жизни, и о медицине вообще, что в стране настанут такие времена, когда вот эти самые, упомянутые 15-20 минут на приём больного станут непозволительной роскошью, хотя на календаре будет не время военное, и даже не время старательно оболганного социализма, а, как о ней трубят вовсе труды, эпоха справедливейшей демократии. Увы, они наступили, и терапевтам в поликлиниках выделяется на приём больного всего 12 минут. Мало того, за эти двенадцать минут врач должен не только внимательно осмотреть больного, поговорить с ним, выявить жалобы, поставить диагноз, но потом ещё всё это записать в один журнал, затем перенести на специальный листок-бланк, с которого набрать в компьютере. За эти же 12 минут при необходимости нужно оформить ВТЭК, выписать больничный, бюллетень или рецепты. Причём самые необходимые записи – врачи сами засекали время для проверки – занимают гораздо более 12 минут. Даже если совсем не осматривать больного, а только записывать всё необходимое для отчёта, времени не хватит. Где же его взять? Начальству виднее. Можно, к примеру, на пару часов после работы задержаться, а если и этого не хватит, то отчего бы дома не поработать этак до полуночи и более. На войне, как на войне… только война другая. Война медицинских руководителей разных степеней с врачами, война успешная, ибо потери среди врачей, правда, конечно, выраженные просто в увольнении со службы, а не гибели, значительно превышают потери военные. Но в отличие от фронтовых, они не пополняются – никому это не надо. Не бывало такого положения, чтобы, к примеру, в медсанбате оставалось менее половины людей, положенных по штату. Медицинские подразделения постоянно пополнялись, ну а командование с особой заботой, с особым трепетом относилось к военным медикам. Может быть дело в том, что на войне каждый командир мог оказаться в руках военного врача своего соединения, а ныне те, кто командуют, лечатся отнюдь не у тех, кем столь рьяно командуют? Думаю, что дело в ином – в ответственности тех, кто был на руководящих должностях во время войны, от тех, кто прорвался во всякие властно-сластные структуры во времена победившей демократии.
Но вернёмся в суровый сорок первый, вернёмся в тот день и час, когда молодой военврач оказался в весьма затруднительном положении.
– Все наши готовы к работе? – спросил военврач 3 ранга Гулякин у фельдшера Мялковского.
– Так точно, готовы все.
– Хорошо, тогда берите Дурова и за мной.
– Куда? – удивился Мялковский.
– К больным. Наша приёмная и десятую их часть не вместит. Займёмся ими прямо на улице.
Гулякин встал из-за стола и направился к двери, продолжая размышлять над тем, что же всё-таки произошло, и почему возник такой наплыв больных: «Эпидемии нет… Но не могут же тогда вот так все сразу взять да заболеть. Скорее всего, устали за первые дни занятий, а тут ещё тяжелейшие учения. Нелегко привыкнуть к столь напряжённой службе, особенно тем, кто только что призван. Потому и пришли за освобождением? Не филонят – многие искренне считают, что заболели. Слабость, боль в мышцах, переутомление и недосыпание…»
Больные обступили домик, в котором помещался медпункт, со всех сторон.
– Здесь есть старшие? – строго спросил Гулякин.
Отозвались санинструкторы рот.
– Хорошо, – с улыбкой сказал Гулякин, – командование, можно сказать, на месте. Но тогда почему такой беспорядок? Немедленно постройте всех больных поротно в две шеренги.
Быстро образовался строй, вытянувшийся на несколько десятков метров.
– Вот это силища! – воскликнул Гулякин. – Да ведь с вами можно смело идти на захват крупного объекта в тылу врага.
Некоторые десантники потупились, покраснели. Старались не смотреть на Гулякина и Мялковского.
– Ну что же, – продолжил Гулякин уже серьёзно, – вы правильно сделали, что, почувствовав недомогание, пришли в медпункт. Как вам известно, в уставе сказано, что военнослужащий не должен скрывать своей болезни и обязан, доложив непосредственному начальнику, немедленно обратиться за помощью в медпункт. Это уже дело нас, медиков, определить, кто действительно болен, – пояснял он, – а кто чувствует недомогание из-за переутомления. А теперь попрошу тех, у кого жар или озноб, сильная головная боль, кашель сделать три шага вперёд.
Строй заколебался. Вперёд неуверенно вышли человек двадцать.
– Мялковский, отведите эту группу в приёмную. Всем измерить температуру. Ждать меня, – распорядился Гулякин. – Теперь займусь остальными, – сказал он, когда первая группа удалилась в медпункт. – Попрошу выйти из строя тех, кто жалуется на боли в животе, на расстройство желудка.
Ждал с беспокойством, но строй не шевельнулся. Сразу отлегло от сердца – желудочно-кишечных заболеваний не было.
У основной массы болели ноги. Расспросил нескольких человек о характере этих болей, велел показать, где именно болит. Затем пояснил, что ничего удивительного нет. Требуется определённое время для того, чтобы организм привык к большим нагрузкам, адаптировался.
Многие десантники стали проситься в свои подразделения. Уходя, они подшучивали над оставшимися товарищами, рекомендовали им придумать какие-то замысловатые жалобы, иначе врач быстро раскусит их попытки увильнуть от занятий и работ.
Гулякина радовало то, что настроение у его пациентов хорошее.
Всех, кто остался в строю, он внимательно выслушал, дал советы, как вести себя, чтобы избежать простудных заболеваний, посоветовал закалять организм.
Наконец, в строю остались лишь больные с потертостями ног и сильным растяжением связок.
– Подождите, – сказал им Гулякин, – Фельдшер примет вас и каждому окажет помощь.
В приёмной встретил Мялковский.
– Как тут у вас дела? – спросил Гулякин.
– Высокая температура только у троих, – доложил фельдшер. – У большинства тридцать семь ноль – тридцать семь две. Пятеро ушли. У них нормальная температура.
– Зря отпустили, – покачал головой Гуляки, – надо было их тоже осмотреть. Верните. Если есть головная боль, можно ждать простудных заболевания. Ну а температура поднимется, коли мер не принять.
Он прошёл в кабинет и сказал Мялковскому:
– Начнём с тех, у кого высокая температура. Прошу ко мне по очереди.
В течение двух часов Гулякин осмотрел всех до единого. Нескольких десантников уложил в лазарет, тем, кто нуждался в освобождении от нагрузок, записал в книгу рекомендации на частичное или полное освобождение от занятий. В армии такой порядок. Врач не освобождает, врач пишет рекомендацию, а освобождает только командир.
– Ну и денёк выдался, – сказал Мялковский, когда медпункт опустел, – думал в срок не управимся. Быстренько вы их разогнали.
– Вы не правы, – возразил Гулякин. – Я не разгонял больных. Почти каждому успел задать вопросы, понять, что случилось и пояснить, чем вызвано то или иное недомогание. Мы, медики, обязаны верить всем, кто к нам обращается, и внимательно подходить к тому, с чем к нам идут люди. Может показаться иногда, что человек здоров и просто хочет выпросить освобождение, а на самом деле он болен, просто внешне эта болезнь никак не проявляется и обнаружить её не так просто.
– Извините, это я так, – смутился Мялковский. – Видел, как вы серьёзно с каждым разбирались. Кстати, одного из тех, кого я отпустил, а потом вернул в медпункт, вы положили в лазарет.
– У него ангина. А температура?! Вероятно, она к вечеру подскочит, да ещё как! Каждый организм имеет свои особенности. Вы должны знать, что болезнь легче переносится, когда температура высокая.
Старый пароход, глухо шлёпая по воде огромными колёсами, медленно подошёл к пристани. Всей группе были предоставлены места в каютах. Но погода выдалась солнечная, и молодые военные врачи не уходили с палубы, любуясь живописными волжскими утёсами и косогорами, широкими песчаными косами, врезающимися в русло, бархатными берегами, вдоль которых стлался по воде разноцветный лиственный ковёр.
В прозрачной воде, отражались редкие облака, косяки перелётных птиц. Природа жила своей, независимой от войны жизнью. Здесь, на просторах великой русской реки, с трудом верилось, что где-то идут жестокие бои, гибнут люди, что над Отечеством нависла смертельная опасность.
В штабе 1-го воздушно-десантного корпуса военврачей распределили по соединениям и частям. Группа распалась. Распрощавшись с товарищами, Гулякин отправился в 1-ю воздушно-десантную бригаду, в которую получил назначение.
1-й воздушно-десантный корпус был сформирован 2 июля 1941 года, уже принял участие в жесточайших боях и был выведен на доукомплектование. Нужно было довести численность его до полного штата, а это 10 000 человек. Причём, направлялись к корпус в основном добровольцы по комсомольским путёвкам ЦК ВЛКСМ. В составе корпуса были три воздушно-десантные бригады, танковый батальон, артиллерийский дивизион, а также подразделения и части обеспечения. Военно-транспортная авиация в состав корпуса не входила, а придавалась ему на время проведения воздушно-десантной операции. На вооружении корпуса было обычное стрелковое вооружение – ручные и станковые пулемёты, ну и, конечно, автоматы – с трёхлинейками-то десантироваться трудно. Миномёты были
50-мм и 82-мм миномёты, артиллерия представлена 45-мм противотанковыми и 76-мм горными пушками. Были и огнемёты.
На вооружении отдельного танкового батальона состояло 50 танков Т-40 и Т-38.
В начале войны воздушно-десантные части и соединения использовались в основном, как стрелковые, поскольку и опыта у командования впроведении операций оказалось недостаточно, да и нечем было десантировать. Огромное количество самолётов, во многом по причине предательства генерала Павлова было потеряно в первый же день войны.
Вот в такой корпус и прибыли Гулякин и его товарищи.
В 1-й воздушно-десантной бригаде Гулякина принял начальник медицинской службы бригады военврач 2 ранга Кириченко.
– Рад пополнению! – воскликнул он, поднимаясь навстречу из-за небольшого письменного стола, заваленного бумагами. – А то у нас совсем плохо с медициной. Вы назначены начальником медицинской службы второго отдельного воздушно-десантного батальона. Коротко введу в обстановку. Вы уже, вероятно, знаете, что корпус находится на доукомплектовании после тяжёлых потерь, понесённых в первые недели войны.
– Знаю, – ответил Гулякин. – И как долго мы будем в тылу?
– Рвётесь на фронт? Понимаю. Только ведь на подготовку десантников времени нужно побольше, чем на подготовку красноармейца стрелкового подразделения. Да и на обучение медицинских кадров, между прочим, тоже. Ведь вы пока на медицинском пункте батальона – в единственном числе. Сами будете подбирать себе помощников из пополнения.
– Расскажите, пожалуйста, о корпусе, – попросил Гулякин.
Кириченко посмотрел на часы, кивнул:
– Хорошо, несколько минут у меня есть.
Он подошёл к висевшей на стене карте европейской части Советского Союза с обозначенной флажками линией фронта. Взял указку и начал рассказ:
– Корпус с первых дней в боях. Сначала на западном направлении выбрасывал небольшие группы десантников в тыл врага, сражался бок о бок со стрелковыми соединениями. С двадцать восьмого августа находился в резерве фронта, но недолго. Обстановка осложнилась, и в начале сентября корпус ввели в бой в составе пятой армии, которая оборонялась на южном берегу Десны. И заметьте, – сделал акцент Кириченко, – все эти месяцы корпус воевал без пополнения, постоянно находясь в самом пекле. Ведь сражаться приходилось с численно превосходящим врагом. В середине сентября в ожесточённых боях корпус понёс серьёзные потери. После этого его было решено вывести на доукомплектование.
– Пополнение уже прибыло? – поинтересовался Гулякин.
– Начинает поступать. Замечательных ребят присылают. Почти все комсомольцы – из Москвы, Горького, Иванова, Владимира… Сроки поставлены жёсткие. Через три месяца мы должны быть готовы вступить в бой. За это время предстоит сформировать части и подразделения, вооружить и подготовить тысячи парашютистов. А учебных баз, как впрочем и медицинской базы, нет. Всё нужно начинать с нуля. Правда, командный состав надежный – почти все уже побывали в боях.
– Спасибо за информацию, – сказал Гулякин. – Теперь имею представление о том, куда назначен. Разрешите приступить к выполнению служебных обязанностей.
– Да, конечно. И начните с представления командиру батальона. Он тоже новичок в Воздушно-десантных войсках. Комбат, старший лейтенант Жихарев, назначен к нам из военкомата, где служил до сих пор, и бомбил командование рапортами с просьбой отправить на фронт. Уже успел проявить себя, как хороший организатор, как волевой, требовательный командир. Словом, познакомьтесь и с ним, и с теми, кто уже прибыл в батальон, ну и начинайте осваивать нашу десантную науку. Батальон в стадии комплектования.
– Разрешите идти? – спросил Гулякин.
– Да, да, Михаил, идите, – разрешил Кириченко, назвав Гулякина по имени, чтобы несколько снизить накал официоза – всё же медицина есть медицина. Дисциплина необходима, но и большая доверительность, большее взаимное расположение начальников и подчинённых не помеха.
Гулякин уже повернулся и открыл дверь, когда Кириченко остановил его и сказал как бы в напутствие:
– Помните, что старший лейтенант Жихарев хоть и младше вас по воинскому званию, но – командир. Он ваш непосредственный начальник.
– Конечно, конечно, – улыбнулся Михаил и вышел из кабинета.
Вот такие случались метаморфозы. Михаил Гулякин в армии без году неделя, ведь пришёл он на военный факультет совсем недавно. И вот уже имеет воинское звание военврач 3 ранга, что приравнивается к майорскому званию. В двадцатые – тридцатые годы прошло немало реформ в системе воинских должностей и званий. Завершились они окончательно уже во время войны, в начале 1943 года, когда были возвращены погоны и упорядочены воинские звания офицеров. До этого времени офицеров в Красной Армии не было – были красноармейцы и командиры.
2-й отдельный воздушно-десантный батальон размещался в нескольких домиках. Гулякин нашёл Жихарева в штабе – комнатке, в которой едва приютился стол со стульями, а большая её часть была завалена разным военным имуществом. На стенах висели таблицы и схемы.
Гулякин доложил чётко, по уставу. Жихарев вышел из-за стола, шагнул навстречу, крепко пожал руку. Спросил имя и отчество. Не хотел, очевидно, называть Гулякина по воинскому званию.
– Хорошо, что прибыли, Михаил Филиппович. Дел для медицины много. Личный состав уже поступает. Нужно каждого бойца осмотреть – годен ли. Мало ли что там могут написать. Люди рвутся в десантники, могут и скрыть недуги. А нам нужны здоровые ребята. Но и это не всё. Попрошу вас помочь с размещением, проверить, соответствуют ли наши, с позволения сказать, казармы, санитарным нормам. Всё хозяйство – несколько домиков, а народу будет много… Штатное расписание знаете?
– Знаю, – кивнул Гулякин.
– А сейчас извините, – сказал Жихарев, мельком взглянув на часы, –тороплюсь на совещание в штаб бригады. Подробнее поговорим позже. Осмотритесь пока.
Михаил обошёл расположение батальона. Домики оказались чистенькими и тёплыми, однако места в них для размещения батальона, численность которого составляла по штатному расписанию около пятисот человек, явно было мало.
«Придётся ставить палатки – отметил Гулякин. – и придётся в них жить, и поздней осенью, и зимой… Три месяца… Это ж получается, до нового года».
Он прошёл дальше и увидел, что работа по установке палаток идёт полным ходом. Красноармейцы сколачивали нары, расчищали территорию, оборудовали пищеблок. Всё это нужно было теперь тщательно контролировать.
А с утра следующего дня он начал тщательный медицинский осмотр всех прибывших в батальон. К счастью, направляли в Воздушно-десантные войска действительно здоровых и крепких парней.
Постепенно комплектовался и батальонный медицинский пункт. Сначала прибыл фельдшер Василий Мялковский. Его назначили фельдшером медицинского пункта батальона.
Разбирая учётные карточки красноармейцев, Гулякин наткнулся на документы Виктора Тараканова. В карточке значилось, что до призыва он был ветеринарным фельдшером.
«Ну что ж, – решил Михаил, – санитарным инструктором назначить можно. Подучим немного, и дела пойдут».
Труднее было с санитарами. Людей с медицинским образованием не нашли. Выбрали двух красноармейцев – Дурова и Мельникова. Их предстояло учить с азов.
Батальон сформировали быстро, и вскоре начались занятия. Целыми днями подразделения проводили в поле, на стрельбище, прыгали с парашютной вышки.
Не забывало командование и о военных медиках. В один из дней боевой учёбы Кириченко собрал начальников медслужбы батальонов на совещание. Когда все разместились в его тесном кабинете, заговорил о главном – о подготовке к предстоящим боям.
– Перед нами, товарищи, задача особой важности: предстоит не только провести занятия с личными составом медицинских пунктов и санинструкторами рот, но и научить каждого десантника оказывать первую помощь на поле боя и себе, и товарищам.
Кириченко напомнил, что судьба раненого во многом зависит от быстроты и качества наложения первой повязки.
– Ротные санитары должны неотлучно находиться на поле боя, быстро оказывать помощь раненым, эвакуировать их в безопасные места, – говорил он. – Но всё это хорошо при действиях в обычных условиях, а как организовать медицинскую помощь в бою, когда подразделения будут делиться на небольшие группы, атаковать противника с разных направлений? Кто наложит первую повязку, назначение которой, как вы знаете, предупредить потерю крови и загрязнение раны, уменьшить боль? Если упустить время, у раненого может начаться болевой шок. Вот потому то и важно, очень важно научить каждого красноармейца приёмам самопомощи и взаимопомощи.
Быть может, впервые именно на этом совещании Гулякин по-настоящему осознал, какая работа ему предстоит, ведь он здесь – один-единственный врач на сотни человек. И он в ответе за всех раненых. Их не эвакуируешь в медсанбат, направишь в госпиталь: действовать придётся в глубоком тылу врага.
Прежде всего Гулякин решил наладить учёбу своих непосредственных подчинённых.
На следующий день после совещания в небольшом садике, прилегающем к дому, в котором разместился батальонный медицинский пункт, провёл первое занятие. Начал с разъяснения важности оказания медицинской помощи на поле боя. Повторил многое из того, о чём говорил Кириченко, добавил и от себя кое что – не зря же окончил военный факультет. Уж чего-чего, а теоретических знаний ему хватало.
Слушали, поначалу скучая. Тогда Гулякин стал задавать вопросы.
– Назовите-ка наиболее опасные осложнения раны на поле боя, – попросил он Мялковского.
– Сильное кровотечение, – твёрдо ответил тот и пояснил: – К нему приводит повреждение кровеносных сосудов. Может образоваться болевой шок. Это в случае обширных ранений мягких тканей, а также перелома длинных трубчатых костей.
– И всё? – переспросил Гулякин.
Мялковский наморщил лоб, но ничего больше добавить не мог.
– Ну а в более поздние сроки? – помог ему Гулякин вопросом.
– Может развиться инфекция. Наиболее опасна анаэробная, – довольно уверенно продолжил фельдшер. – Это газовая гангрена, столбняк…
– По канонам военно-полевой хирургии, товарищи, – дополнил Гулякин. – каждая рана считается первично инфицированной. Об этом надо всегда помнить. А теперь такой вопрос: что нужно сделать при оказании первой помощи?
– Разрешите продолжить ответ? – спросил Мялковский.
– Да, да, конечно, продолжайте.
Мялковский заговорил чётко, даже излишни книжно, показывая, что этот материал он знает твёрдо.
– Остановить кровотечение из повреждённых крупных сосудов, защитить рану от дальнейшего попадания инфекции, предупредить возникновение болевого шока. В случае перелома длинных трубчатых костей и обширных ран мягких тканей произвести иммобилизацию…
«Знания есть и неплохие, – отметил Гулякин. – Но сможет ли фельдшер применить их практически на поле боя, под огнём врага?»
Несколько хуже, но в целом верно отвечал Тараканов. Гулякин попросил его рассказать о способах остановки кровотечения. Тараканов правильно назвал все места, где необходимо прижать лучевую, сонную или подключичную артерии, чтобы остановить кровотечение.
Красноармейцев Дурова и Мельникова Гулякин не спрашивал совсем, поскольку их нужно было сначала выучить.
После разбора теоретических вопросов, Гулякин объявил перерыв. Обратил внимание, что его подчинённые живо обсуждают первое занятие.
Пора было переходить к практике…
После перерыва Гулякин начал практические занятия.
Дал первую вводную:
– Вы, красноармеец Дуров, при десантировании получили травму. Чувствуете боль в бедре. Встать на ногу не можете. Ваши действия? Ложитесь, ложитесь на землю, Дуров. Да, да, вот так. Стоять вы не можете. Ну, я жду…
– Зову врача, – сказал Дуров.
Гулякин усмехнулся:
– Врача? Вы забыли, что врач всего один на сотни человек?
– Ну, санитара хотя бы…
– Хорошо. Хорошо, вот прибыл к вам санитар красноармеец Мельников. Подходите, подходите, не стесняйтесь, санитар. Что дальше? Действуйте, Мельников…
Мельников подошёл к Дурову, и в растерянности остановился возле него. Потом сказал неуверенно:
– Отнесу его в медпункт батальона.
– Ну, так несите, – велел Гулякин, но когда Мельников наклонился над Дуровым, остановил его, словами: – Прежде всего, вы на месте должны оказать помощь.
– Но я же не умею…
– Вот именно. Это я и хотел дать вам понять. А то стоите и не слушаете, о чём вам рассказываю.
– Извините, – покраснел Мельников. – Просто не подумал, что это может пригодиться.
– Красноармеец Мялковский, покажите всё, что нужно сделать, – приказал Гулякин.
– У пострадавшего перелом, – уверенно начал Мялковский. – Ввожу под кожу обезболивающее средство. Накладываю шину Дитерихса или стандартную проволочную лестничную шину. Затем… Затем докладываю начальнику батальонного медпункта, что нужно госпитализировать пострадавшего.
Трудно, очень трудно доходило до сознания каждого, что за спиной не будет никаких лечебных учреждений, что раненые, даже крайне тяжёлые, останутся на попечении личного состава батальонного медицинского пункта.
– Я просил вас не рассказать, а показать, что нужно делать, – напомнил Гулякин. – Вот здесь, на столах, – указал он, – разложены необходимые средства для оказания первой помощи. В бою они будут при вас, в ваших санитарных сумках. Действуйте.
Взяв лестничную шину, Мялковский быстро и аккуратно наложил её. Гулякин заметил, с каким вниманием следил за действиями фельдшера красноармеец Мельников.
Когда Мялковский завершил работу, сказал:
– И ещё вот на что хочу обратить внимание. Вы забываете, в каких войсках служите. Никаких медсанбатов, а тем более госпиталей поблизости не будет. В нашем распоряжении только батальонный медицинский пункт, которые должен быть подвижен и хорошо замаскирован. От того, как мы организуем его работу, будут зависеть жизни раненых.
– А где же разместить батальонный медицинский пункт, если вокруг противника? – спросил красноармеец Тараканов.
Гулякин ответил не сразу. Он прикинул:
«Действительно, где? Ведь медпункт – это я и мои помощники. Никакого стационарного оборудования за линию фронта мы, конечно взять не сможем. Только самые необходимые медикаменты».
– Медпункт будет размещаться за боевыми порядками батальона в наиболее безопасном месте. Ну а место это мы будем выбирать в соответствии с указаниями начальника штаба батальона.
Второй час занятий Гулякин целиком посвятил действиями по различным вводным. Убедился, что с решением вводных, дело обстоит плохо. Хотя фельдшер и санинструктор имели полное среднее образование, практических навыков работы в полевых условиях не имели.
Пришлось учить подчинённых скрытно подбираться к раненому, переносить его в укрытие, оказывать первую помощь, эвакуировать в батальонный мудпункт, используя подручные средства.
Подобные занятия Гулякин стал проводить каждый день. Немного теории, затем решения вводных в спокойном режиме, а затем – действия, как в бою. Без проволочек, быстро. Нужно было помочь личному составу овладеть навыками оказания первой помощи на поле боя, а затем эти навыки довести до автоматизма. Теория – практические действия в медленно темпе, с разбором ошибок – и тренировка в решении вводных уже на время.
Постепенно дела пошли на лад. Занятия со штатными и нештатными санитарами рот Гулякин поручил Мялковскому. С личным составом медпункта занимался сам, а вот с обучением личного состава батальона дела не клеились. Программой на них отводилось всего два-три часа.
Гулякин отправился к комбату. Попросил дополнительные часы занятий.
– Михаил Филиппович, дорогой, где же я тебе время возьму? – развёл руками старший лейтенант Жихарев. – У нас программа не просто насыщена. Я бы сказал – перенасыщена. Сам знаешь, как трудно за такой короткий срок подготовить воина-десантника. Ведь мы должны обучить не только тактике ведения боя, но и прыжкам с парашютом.
– Всё это верно, – согласился Гулякин. – Но обучив бойцов и командиров приёмам и способам оказания помощи на поле боя, мы сохраним жизни очень многим раненым. Ведь понятно же, что бой без жертв не бывает, понятно, что и раненых может быть немало.
– И я тебя понимаю, и ты меня понимаешь, – усмехнулся Жихарев. – И оба мы правы. Но как же быть?
– Нужно вместе подумать, и как-то найти возможность…
– Хорошо! – Жихарев сел за стол, положил перед собой план боевой подготовки, предложил: – А что если использовать некоторые занятия, ну, скажем, прыжки с вышки? Ведь что получается? Пока один взвод десантников прыгает, другой готовятся к прыжкам, то с третьим вполне можно организовать занятия.
– А почему этот третий взвод не занимается чем-то?
– Предположим, взвод закончил прыжки и отдыхает, – сказал Жихарев, как бы размышляя. – Почему бы не поговорить с личным составом во время отдыха. Каждому будет понятен такой разговор.
– Отличная мысль – обрадовался Гулякин. – Вот на таких занятиях – теория. Ну а на отведённых нам по плану – уже практические тренировки.
На следующий день Гулякин собрал освободившихся после прыжков бойцов. Стал рассказывать им, как накладывается повязка, останавливается кровотечение. Десантники молча стояли в строю, слушали с интересом, но когда он задал им несколько контрольных вопросов, выяснилось, что никто ничего не усвоил.
Десантники не принимали всерьёз медицинскую подготовку. Так уж устроен человек: всегда надеется на лучшее – мол, меня пронесёт, меня не ранит.
Возникла новая проблема: как заинтересовать, заставить их понять, насколько важно усвоить основы военно-медицинской подготовки.
Своими раздумьями Гулякин подлился с комиссаром батальона старшим политруком Николаем Ивановичем Коробочкиным. Попросил его при проведении политических занятий попытаться убедить людей, насколько важны навыки в оказании первой помощи и самопомощи в бою.
– Попробую помочь вам, – пообещал комиссар. – А вы продолжайте занятия. Только постарайтесь проводить их живее. Думайте, чем заинтересовать десантников.
«Так чем же, чем? – размышлял Гулякин. – А приведу-ка я примеры из опыта боёв на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. Нам ведь столько об этом рассказывали на военфаке».
Следующее занятие прошло гораздо лучше. Десантники с интересом слушали рассказы, их не могли оставить равнодушными приведённые примеры. Особенно впечатлили приведённые Гулякиным цифры и факты, показывающие, насколько завить успех лечения раненого от быстроты и правильности оказания ему первой помощи на поле боя. Сами стали интересоваться, как правильно наложить повязку, как использовать индивидуальный перевязочный пакет.
И всё-таки, как оказалось, обучение личного состава – не самое сложное в деятельности начальника медицинской службы батальона. Ведь во всех случаях жизни и в любой обстановке врач, прежде всего, остаётся врачом, а следовательно, его обязанность – лечение людей.
Распорядком дня на амбулаторный приём больных было отведено два часа. Медицинский пункт батальона начал работать уже через пару дней после прибытия Гулякина в батальон. Его готовность к работе приезжал проверять начальник медицинской службы бригады военврач 2 ранга Кириченко. Побывали в нём и Жихарев с Коробочкиным.
Жихарев принёс только что отпечатанный распорядок дня и вручил его Гулякину.
– Вот, изучайте. Надо добиться того, чтобы больные, кроме, конечно, экстренных случаев, обращались к вам строго в отведённые часы. Времени-то хватит?
Гулякин взял из рук комбата листок с распорядком дня, внимательно прочитал и твёрдо сказал:
– Двух часов, конечно, вполне достаточно. Народ у нас здоровый. Вряд ли загрузят работой.
– Тем не менее, вы должны быть готовы. Порядок у нас следующий, – пояснил Жихарев, – На утреннем осмотре дежурные по ротам записывают в специальную книгу записей больных всех, кто нуждается в медицинской помощи, а за пятнадцать минут до назначенного времени отправляют их к вам на приём под командой санинструкторов рот.
– Хорошо. Мы готовы начать приём.
Но в первые дни в медпункте никто не появлялся.
И вдруг…
Это случилось сразу после окончания тактических учений, во время которых роты совершили длительный марш, затем действовали в сложной обстановке.
В тот день Гулякин, устроившись в своём небольшом кабинете, просматривал записи, которые сделал во время учений. Готовился на ближайшем занятии провести краткий разбор действий личного состава батальонного медицинского пункта, санинструкторов рот и санитаров. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился фельдшер Василий Мялковский.
– Товарищ военврач третьего ранга, – возбуждённого заговорил он. – Вы только взгляните, почти весь батальон к вам пожаловал.
– Батальон? Зачем? – спросил Гулякин и с удивлением посмотрел на подчинённого.
Мялковский шагнул к окну и отдёрнул штору. Он, конечно, несколько преувеличил – нет, не батальон пожаловал в медпункт, но, по крайней мере, пятая часть личного состава ожидала приема врача.
– Откуда же столько? – проговорил Гулякин, и в голосе его прозвучали нотки растерянности.
«Как же я успею осмотреть всех за два часа? – с беспокойством подумал он. – Как сумею поставить диагноз каждому?
Сразу возник вопрос: с чего начать работу. Вызывать, как это делается обычно на амбулаторных приёмах, каждого поочерёдно и осматривать здесь, в кабинете? Но так и до утра не управиться. А приём надо завершить через два часа. Через два часа все десантники должны возвратиться в свои подразделения. Кому предстоит в наряд заступать, а кто будет назначен на хозяйственные работы. Кто начнёт подготовку к ночным занятиям или стрельбам.
Решение надо было принимать быстро.
Вспомнил, что по этому поводу говорилось на лекциях в институте, как строились практические занятия.
На военном факультете, конечно, многие вопросы отрабатывались тщательно и подробно прежде всего на лекциях и семинарах, ну а затем практически в поле. Во время лагерного сбора подо Ржевом слушатели стажировались в лазарете авиационного соединения, участвовали и в амбулаторных приёмах. Но тогда ведь, летом, больных было совсем мало. Они приходили в лазарет или в медпункт в назначенное время. Сначала ими занимались фельдшер или санинструктор – записывали жалобы, ставили градусники. И только после этого больные по очереди заходили в кабинет врача. Врач вёл приём внимательно, не торопясь осматривал больного. Пятнадцать, а то и двадцать минут уходило на каждого больного. Теперь всё это оказалось непозволительной роскошью.
Надо было принимать решение.
– Все наши готовы к работе? – спросил Гулякин у Мялковского.
– Так точно, готовы все.
– Хорошо, тогда берите Дурова и за мной.
– Куда? – удивился Мялковский.
– К больным.
– К больным. Наша приёмная и десятую их часть не вместит. Займёмся ими прямо на улице.
Гулякин встал из-за стола и направился к двери, продолжая размышлять над тем, что же всё-таки произошло и почему такой наплыв больных: «Эпидемии нет… Но не могут же тогда вот так все сразу взять да заболеть. Скорее всего, устали за первые дни занятий, а тут ещё тяжелейшие учения. Нелегко привыкнуть к столь напряжённой службе, особенно тем, кто только что призван. Потому и пришли за освобождением? Не филонят – многие искренне считают, что заболели. Слабость, боль в мышцах, переутомление и недосыпание…»
Больные обступили домик, в котором помещался медпункт, со всех сторон.
– Здесь есть старшие? – строго спросил Гулякин.
Отозвались санинструкторы рот.
– Хорошо, – с улыбкой сказал Гулякин, – командование, можно сказать, на месте. Но тогда почему такой беспорядок? Немедленно постройте всех больных поротно в две шеренги.
Быстро образовался строй, вытянувшийся на несколько десятков метров.
– Вот это силища! – воскликнул Гулякин. – Да ведь с вами можно смело идти на захват крупного объекта в тылу врага.
Некоторые десантники потупились, покраснели. Старались не смотреть на Гулякина и Мялковского.
– Ну что же, – продолжил Гулякин уже серьёзно, – вы правильно сделали, что, почувствовав недомогание, пришли в медпункт. Как вам известно, в уставе сказано, что военнослужащий не должен скрывать своей болезни и обязан, доложив своему непосредственному начальнику, немедленно обратиться за помощью в медпункт.
– Это уже дело нас, медиков, определить, кто действительно болен, – пояснял Гулякин, – а кто чувствует недомогание из-за переутомления. А теперь попрошу тех, у кого жар или озноб, сильная головная боль, кашель сделать три шага вперёд.
Строй заколебался. Вперёд неуверенно вышли человек двадцать.
– Мялковский, отведите эту группу в приёмную. Всем измерить температуру. Ждать меня, – распорядился Гулякин. – Теперь займусь остальными, – сказал он, когда первая группа удалилась в медпункт. – Попрошу выйти из строя тех, кто жалуется на боли в животе, на расстройство желудка.
Ждал с беспокойством, но строй не шевельнулся. Сразу отлегло от сердца – желудочно-кишечных заболеваний не было.
У основной массы болели ноги. Расспросил нескольких человек о характере этих болей, попросил показать, где именно болит. Затем пояснил, что ничего удивительного нет. Требуется определённое время для того, чтобы организм привык к большим нагрузкам, адаптировался.
Многие десантники стали проситься в свои подразделения. Уходя, они подшучивали над оставшимися товарищами, рекомендовали им придумать какие-то замысловатые жалобы, иначе врач быстро раскусит их попытки увильнуть от занятий и работ.
Гулякина радовало то, что настроение у его пациентов хорошее.
Всех, кто остался в строю, он внимательно выслушал, дал советы, как вести себя, чтобы избежать простудных заболеваний, посоветовал закалять организм.
Наконец, в строю остались лишь больные с потертостями ног и сильным растяжением связок.
– Подождите, – сказал им Гулякин, – Фельдшер примет вас и каждому окажет помощь.
В приёмной встретил Мялковский.
– Как тут у вас дела? – спросил Гулякин.
– Высокая температура только у троих, – доложил фельдшер. – У большинства тридцать семь ноль – тридцать семь две. Пятеро ушли. У них нормальная температура.
– Зря отпустили, – покачал головой Гуляки, – надо было их тоже осмотреть. Верните. Если есть головная боль, можно ждать простудных заболевания. Ну а температура поднимется, коли мер не принять.
Он прошёл в кабинет и сказал Мялковскому:
– Начнём тех, у кого высокая температура. Прошу ко мне по очереди.
В течение двух часов Гулякин осмотрел всех до единого. Нескольких десантников уложил в лазарет, тем, кто нуждался в освобождении от нагрузок, записал в книгу рекомендации на частичное или полное освобождение от занятий. В армии такой порядок. Врач не освобождает, врач пишет рекомендацию, а освобождает только командир.
– Ну и денёк выдался, – сказал Мялковский, когда медпункт опустел. – думал в срок не управимся. Быстренько вы их разогнали.
– Вы не правы, – возразил Гулякин. – Я н разгонял больных. Почти каждому успел задать вопросы, понять, что случилось и пояснить, чем вызвано то или иное недомогание. Мы, медики, обязаны верить всем, кто к нам обращается, и внимательно подходить к тому, с чем к нам идут люди. Может показаться иногда, что человек здоров и просто хочет выпросить освобождение, а на самом деле он болен, просто внешне эта болезнь никак не проявляется и обнаружить её не так просто.
– Извините, это я так, – смутился Мялковский. – Видел, как вы серьёзно с каждым разбирались. Кстати, одного из тех, кого я отпустил, а потом вернул в медпункт, вы положили в лазарет.
– У него ангина. А температура?! Вероятно, она к вечеру подскочит, да ещё как! Каждый организм имеет свои особенности. Вы должны знать, что болезнь легче переносится, когда температура высокая.
Между тем, уже стемнело. Гулякин проинструктировал Дурова, который заступил дежурным по медпункту, и отправился отдыхать.
Дневные дела и заботы остались позади. В такие минуты охватывала тревога за судьбы родных и близких. Сводки Совинформбюро были всё тревожнее. Гитлеровцы вступили в Орловскую область, достигли родных мест Гулякина.
В первые же дни своего пребывания в корпусе он послал матери письмо и телеграмму. Звал приехать сюда, в эвакуацию, чтобы не оказаться в оккупации: «…Мамочка, забирай Толика, Сашу и Аню и немедленно выезжай с ними ко мне. Я вас здесь устрою на квартиру».
Своих младших братьев он до сих пор считал детьми, а между тем Александр уже собирался в артиллерийское училище, рвался на фронт и Анатолий.
Ответа от матери не было.
«Может быть, они уже в пути, – с надеждой думал Михаил. – Нелегко ведь сейчас сюда добраться. Поезда переполнены».
Каждый день город принимал сотни эвакуируемых. До определения на квартиры все они, в основном женщины с детьми, девушки, пожилые люди оседали в городской гостинице. Возвращаясь со службы, Михаил просматривал списки вновь прибывших, в надежде встретить имена своих родных, хотя понимал, что если бы приехали, наверняка отыскали его в части.
Гостиница была переполнена. Казалось, людям ни до чего. Но жизнь брала своё. Даже в тяжёлой обстановке остаются людьми, и ничто им не чуждо человеческое.
Вечером жильцы собирались в вестибюле. Кто-то садился на рояль. Другой музыки не было, но молодежь с удовольствием танцевала и под такую. Главное, что пианисты находились совсем даже неплохие.
Но Гулякин предпочитал посидеть за шахматами.
Вот и в тот вечер он, встретив инструктора политотдела бригады Николая Ляшко, потащил его к столику. Спать ещё не хотелось. Не хотелось и оставаться наедине со своими тревожными мыслями.
– Давай, Николай, хоть одну-две партии? – говорил он.
– Отчего ж не сыграть? Сыграю с удовольствием.
Устроились в сторонке за небольшим столиком, расставили фигуры на доске. Михаил сделал первый ход, и тут же заиграл рояль. Звуки вальса заполнили вестибюль. Появилось несколько танцующих пар. Женщины танцевали друг с другом. Мужчин было мало. В гостинице жили в основном командиры подразделений и штабные работники бригады. А они возвращались со службы очень поздно.
– О твоих близких, по-прежнему, ничего не слышно? – с участием спросил Ляшко.
– Да, молчок, – вздохнув, ответил Михаил. – Не знаю, что и думать? И писем тоже нет.
– Ты ж говорил, что они уже в пути?
– Хотелось бы так думать…
Дальше играли молча, слушая музыку и внимательно обдумывая ходы. И вдруг к столу подошла стройная молодая женщина в скромном тёмном платье, с косой, собранной в тугой комок. Постояла с минуту, наблюдая за игрой, и сказала с укоризной:
– Как же вам не стыдно? Сидите, занимаетесь деревянными фигурками, а рядом стоит живая фигура, да какая! Стоит и глаз от вас не отрывает…
– Вы о ком? – оторопев от неожиданности, спросил Гулякин. – Какая ещё фигура?
– Девушка стоит, милая девушка. Что же, или не видите?
Разрушительница маленькой мужской компании довольно бесцеремонно сбросила с шахматной доски фигурки и потянула Гулякина за собой.
– Ну, ну, иди, посмотри, что там за фея, – подбодрил Николай Ляшко.
Михаил Гулякин, немного смущаясь, пошёл вслед за дерзкой незнакомкой.
– Вот, смотрите, товарищ военврач третьего ранга. Видите красавицу у портьеры?
Гулякин сразу обратил внимание на миловидную девушку лет восемнадцати.
– Знакомьтесь, – сказала женщина. – Это Зоя. Эвакуировалась из Гомеля. Студентка пединститута. Теперь представьтесь и вы.., – потребовала она.
– Михаил, – назвал своё имя Гулякин.
Все трое замолчали, не зная, что делать дальше. Впрочем, не знали этого только Михаил и Зоя, а женщина, их познакомившая, прекрасно знала:
– Теперь идите с Зоей танцевать, а я приглашу вашего друга, – заявила она.
Но танец уже закончился, пары разошлись, и Михаил, воспользовавшись этим, сказал Зое:
– Вы знаете, я танцами не увлекаюсь, да мастерство моё в этом невелико. Вряд ли вам будет со мной интересно.
– Ну и что? – заявила Зоя, пожав плечами. – Я стану играть с вами в шахматы, если вы хотите.
– В шахматы? Вы думаете, я часто играю в них? За всё время, пока живу в гостинице, второй раз в вестибюль спустился.
– Знаю, но видела вас и раньше. Вы к нам приходили, когда маме было плохо. Не помните?
Нет, Гулякин этого не помнил. Вернее, каждую больную, которой он оказывал помощь в этой гостинице, он, конечно, он бы сразу узнал, но родственников просто не запоминал. Уж слишком часто его тревожили. Почти каждую ночь вызывали то в один, то в другой номер. В гостинице, битком набитой эвакуированными, которые были в большинстве людьми преклонных возрастов, к услугам военных медиков прибегали очень часто. Вот об одном таком случае и напомнила Зоя.
– Это вчера, на втором этаже, номер… – начал Гулякин, чтоб не обидеть её.
– Нет, к маме вас вызывали три дня назад. С тех пор я и слежу за вами.
– Зачем? – вырвалось у него.
Зоя потупилась. Но тут снова заиграла музыка, и Михаил почувствовал неловкость. Стоять рядом с девушкой, не приглашая её на танец, тем более, если она очень хочет танцевать, действительно не совсем удобно. Он ухватился за её предложение:
– Так вы играете в шахматы?
– Немного…
– Тогда попробуем…
Они сели за стол, быстро расставили фигурки. Зоя играла значительно слабее, чем Михаил, а ему не хотелось обыгрывать её. Тянул время, старался делать ошибки, незаметные сразу, «зевать» фигуры.
Зоя же была невнимательна к игре. Она рассказывала о себе, о своём городе, о родителях.
– Мы едва успели уехать. Мама не хотела. Тянула до последнего. Едва уговорила её. А вы? Скоро на фронт? А где ваша мама?
– Должна приехать вместе с братьями и сестрой. Так что мне не до развлечений. Надо их устраивать, так что забот прибавится.
– Причём здесь развлечения? Разве я о них думаю? Вы просто мне понравились, просто… – она не договорила и опустила глаза.
Гулякин сосредоточенно уставился на шахматную доску.
Между тем, дежурный администратор попросил закончить танцы. Время позднее – людям надо отдыхать.
Михаил поспешно поднялся, попрощался с Зоей, поблагодарил её за приятный вечер и поспешил в свою комнату.
Николай Ляшко встретил вопросом:
– Что это ты такой взъерошенный?
– Так, не знаю…
– А твоя знакомая мила, очень мила…
– Не время сейчас, совсем не время заводить знакомства, – отмахнулся Гулякин. – Да и зачем? Скоро на фронт, а там неизвестно что будет. Всё-таки в тыл врага забросят.
– Ну-у, – протянул Ляшко. – Так думать негоже. Не умереть, а победить – вот наш девиз. Кстати, а у тебя есть невеста? Наверное, красавица, если тебя такая дивчина не тронул. Где она, невеста-то?
– Нет… Невесты нет. Знакомые девушки, конечно, были в институте, но всё не то.
– Тогда что же тебе мешает? Не понимаю. Война войной, но жизнь продолжается. Придёт и наш черёд с врагом драться. Скоро придёт. А пока отчего же не потанцевать в свободную минутку, не пообщаться с милой девушкой? К тому же совершенно не обязательно заводить отношения слишком далеко.
Михаил внимательно выслушал приятеля и сказал:
– Может, ты и прав. Просто мне сейчас не до того. За своих беспокоюсь. Ну не настроен я даже на простые встречи. Не настроен.
Однако, уже следующим вечером, едва Михаил ступил в вестибюль гостиницы, Зоя встретила его.
Поздоровавшись, он сказал ей:
– Извини. Я только спрошу у администратора…
– О своих? Я уже спрашивала. Нет, не приезжали… Ты выйдешь сегодня в вестибюль? – видимо, надеясь вот этак непроизвольно перейти на «ты».
И таким молящим был её взгляд, что Гулякин не мог отказать.
– Конечно, выйду. Только приведу себя в порядок и спущусь, – пообещал он.
Они снова пытались играть в шахматы, затем всё-таки вышли на медленный танец.
И так повторялось каждый вечер. Гулякин ругал себя, собирался прекратить эти, как ему казалось, никому ненужные отношения, но всё откладывал и откладывал, не желая обижать девушку.
Между тем, доукомплектование и боевое сколачивание корпуса заканчивалось. Все подразделения отработали прыжки с вышли. И вот настал день выезда на аэродром…
Продолжение следует...
"Лирическая"
Новая композиция бас - гитариста группы "Труд" ЮРИЯ БАЛАКИРЕВА, посвящённая запутавшемуся в жизненных обстоятельствах известному писателю, публицисту, русофобу и пособнику либерастов Мухину Ю.И, который в данный момент находится под домашним арестом и обвиняется в экстремизме.
Совершенно роскошнейшая композиция, имеющая все шансы стать хитом, с ярко выраженным оригинальным рифом и запоминающейся мелодией.
Расчитана в первую очередь на тех кто знает кто такой ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ Ю.И МУХИН.
Жмём на красный треугольник в самом верху.
Итак.
Золотой скальпель. Тревоге отбоя не будет!
Золотой скальпель
Главы третья и четвёртая
Тёмно-зелёный автофургон с красными крестами, хорошо различимыми на фоне огромных, чуть ли не во все борта белых кругов, промчался по пыльному большаку, оставляя за собой плотную серую завесу. Свернув на ухабистую лесную дорогу, затенённую пышными кронами деревьев, затормозил в редколесье, которое начиналось спуском в балку, поросшую орешником.
– Кажется, приехали, – сказал, высматривая что-то впереди, бригадный врач Боцманов. – Машину в кустарник и замаскировать, – приказал он шофёру.
Приоткрыв дверцу, он высунулся из кабины и, отыскав глазами едва заметную тропинку, что убегала от дороги, теряясь в гуще кустов, ступил на подножку кабины и спрыгнул на землю.
Водитель заглушил мотор, и в наступившей тишине стало отчётливо слышно звонкое щебетание птиц и весёлое, мелодичное журчание ручья, что струился в малиннике на дне балки.
– Какие будут распоряжения? – спросил водитель.
– Машину поставьте в орешнике и замаскируйте хорошенько. Повторил он уже отданное распоряжение и прибавил: – Ждите меня здесь. Я пойду в медсанбат.
По извилистой тропинке Боцманов спустился в балку, напился из ручья студёной воды, огляделся и прислушался.
«Не ошиблись ли мы с шофером? Не сбились ли с пути? Та ли это балка?» – засомневался он: никаких признаков расположения крупного подразделения не было заметно.
Сдвинув вперёд висевший у бедра планшет и достав из него топографическую карту, испещрённую условными знаками тактической обстановки, определил, что медсанбат должен находиться где-то рядом.
Но лишь тогда, когда прошёл ещё несколько десятков метров, послышались голоса.
– И к чему эта вся работу? – ворчал один. – Существует конвенция, по которой запрещено стрелять по медицинским подразделениям, по госпиталям. Не маскировать медсанбат надо, а как раз наоборот – красные кресты выставить, чтоб издалека видать было, что б знал враг: здесь раненые.
Ворчуну резко ответили:
– Конвенция, говоришь?! А ты уверен, что фашисты будут соблюдать эту твою конвенцию, а не пошлют её подальше?
Голос показался Боцманову очень знакомым.
– А как же?! Как же это могут послать?
– В Испании они ни с правилами ведения войны не считались. Бомбили полковые медпункты, а уж если удавалось захватить их, сразу добивали раненых. Прав Гусев, что заставил нас поработать. Теперь медсанбат с воздуха не увидать.

Боцманов сделал ещё несколько шагов, и перед ним открылась поляна, на которой выстроился длинный ряд четырёхмачтовых палаток, тщательно замаскированных ветвями деревьев. На одной из них висела табличка: «Приёмно-эвакуационное отделение»
«Миша Гулякин, – сразу узнал Боцманов невысокого юношу в белом халате, стоявшего у входа. – Он приёмно-сортировочным взводом командует».
– Верно говорите о маскировке, Гулякин, очень верно, – поздоровавшись, сказал бригадный врач. – Маскировка необходима и нам, медикам. И после паузы прибавил: – Мне нужен командир батальона. Где он?
– Гусев в штабе. Это вон там, за изгибом балки, – указал Гулякин.
Едва оборудовали приёмно-эвакуационное отделение, окрестности заполнились звуками ружейно-пулемётной стрельбы, доносившейся с переднего края обороны, что проходил в нескольких километрах к югу от леса.
Прибежал Гусев. Он быстро, но придирчиво осмотрел палатку, прошёл по приёмно-сортировочной площадке, затем, пытливо глядя в глаза Гулякину, спросил:
– Миша, всё готово?
– Так точно, товарищ командир батальона, – уверенно ответил Михаил Гулякин.
– Смотри, у тебя участок – из самых ответственных. Надеюсь на тебя!
– Постараюсь оправдать! – с юношеским задором ответил Гулякин.
Гусев кивнул и сказал:
– Пойду, проверю остальные подразделения. Скоро начнут поступать раненые.
И точно: через несколько минут с дороги донёсся шум двигателя санитарного автомобиля.
– По местам, товарищи, – негромко, но властно скомандовал Гулякин. – Работать спокойно, не волноваться.
Санитары принесли первые носилки, осторожно поставили на стол.
– Артериальное кровотечение, жгут на бедре, – вслух прочитал фельдшер записку, приколотую к карману гимнастёрки.
– Время наложения жгута? – спросил Гулякин.
Фельдшер сообщил.
– Срочно в операционную, – распорядился Гулякин. – Чья очередь?
Следующий вошёл сам.
– Ранение мягких тканей плеча, – сообщил фельдшер. – Кровотечение остановлено, повязка наложена.
– Кто оказывал помощь? – задал вопрос Гулякин.
– Санинструктор.
Гулякин внимательно осмотрел повязку и покачал головой:
– Повязка наложена плохо. Немедленно в перевязочную.
Отдал распоряжение и, повернувшись к столу, склонился над очередным бойцом.
– Смертельное ранение в живот… Безнадёжен, – в голосе фельдшера слышались нотки растерянности.
– Ввести анестезирующий раствор. Направить в госпитальный взвод, – распорядился Гулякин и бросил строгий взгляд на фельдшера. – Раненый в сознании. Нужно думать, прежде чем говорить.
Сортировка продолжалась. Командир приёмно-сортировочного взвода медсанбата Михаил Гулякин постепенно обретал уверенность в своих действиях.
В палатку несколько раз заглядывал Боцманов. Он поправлял, подсказывал, но чувствовалось, что в целом доволен работой Гулякина и его подчинённых.
– В перевязочную палатку… В эвакуационную… В операционную, – доносились распоряжения Михаила.
Кипела работа и в остальных подразделениях медико-санитарного батальона.
Первый выстрел тактико-специальных учений прозвучал, когда лучи утреннего солнца едва коснулись верхушек деревьев. Отбой объявили уже на закате дня.
Тут же все недавние «раненые», тяжёлые и лёгкие, «прооперированные» и перевязанные, выскочили из палаток, на ходу снимая с себя поднадоевший за день камуфляж ран и бинты, и заняли место в строю рядом с теми, кто ещё несколько минут назад переносил их, сортировал, эвакуировал, то есть с недавними санитарами, фельдшерами, врачами.
Теперь все снова стали слушателями, и Виктор Гусев, исполнявший на учении обязанности командира медсанбата, подал завершающую в этой своей роли команду «смирно», доложил Боцманову о том, что личный состав построен и сдал полномочия.
– Товарищи слушатели, – не спеша начал Боцманов, – считаю, что тактико-специальные учения прошли на высоком уровне. Все поставленные задачи выполнены успешно. Подведу итог.
Боцманов обстоятельно разобрал все этапы оказания помощи в медсанбате, остановился на работе основных подразделений. Особо отметил он примерную работу приёмно-сортировочного и перевязочного-операционного взводов.
– Хочу поставить в пример слушателя Виктора Гусева, который действовал на учениях в роли командира медсанбата. Начнём с того, что он удачно выбрал район расположения, организовал хорошую маскировку.
Боцманов повернулся к закамуфлированным под кустарник палатки, теперь, в сумерках, едва различимым. Сказал, слегка щурясь:
– К сожалению, не все слушатели до конца поняли значение этого важнейшего элемента обеспечения деятельности медсанбата. Например, полковой медицинский пункт оказался вовсе не замаскированным. И что же вы думаете? Когда я сделал замечание слушателю, исполнявшему роль начальник ПэЭмПэ, – Боцманов многозначительно поглядел на рослого широкоплечего слушателя, – он стал убеждать меня, что маскировка ни к чему, напрасная трата времени, поскольку существуют правила ведения войны, конвенция и тому подобное.
Слушатель, о котором говорил бригадный врач, виновато потупил взор, а Боцманов продолжил:
– Да, товарищи, всё это существует. Но прошу не забывать, что наш наиболее вероятный противник фашистская Германия. А фашисты давно растоптали все международные нормы, да и самые элементарные, человеческие.
Боцманов завершил разбор.
Когда был объявлен перерыв и прозвучала команда: «Разойдись», Михаил Гулякин собрал недавних своих подчинённых.
– Я задержу вас не несколько минут, – начал он. – Хочу вот что сказать. Упустили мы кое-что в своей работе. Сегодня к нам попал «тяжелораненый». Вывод был один – он безнадёжен. Но разве можно об этом вслух? Что мы обязаны сделать? Облегчить страдания, обеспечить, по возможности, покой. А тот, кто был в роли фельдшера, открыто сказал о том, что ранение смертельное. Сегодня – учёба. Наш товарищ, который лежал на носилках, просто изображал тяжелораненого. А если б настоящий бой?!
– Да, здесь я дал маху, – согласился слушатель, который был на учениях в роли фельдшера. – Действительно, мы для раненых – всё! Мы – их надежда. И мы должны давать надежду всем, в том числе и безнадёжным.
– Вот о том и говорю, – добавил Гулякин, довольный тем, что товарищ понял его. – Душой своей нужно быть с каждым раненым.
Лагерь Военного факультета 2-го Московского медицинского института находился неподалёку от Ржева, на берегу Волги, в сосновом бору. Слушатели жили в палатках, которые вытянулись ровными рядами вдоль посыпанной песочком и тщательно прибранной передней линейки.
Лес, река, свежий воздух… Курорт, да и только, когда бы не напряжённые тактически занятия, тактико-специальные учения. Впрочем, режим был даже на пользу слушателям. Обычно они возвращались из таких вот лагерей окрепшими и возмужавшими.
Очередные тактико-специальные учения окончились в субботу, и, вернувшись в палаточный городок, слушатели быстро поужинали, а после ужина отправились смотреть кинофильм, который демонстрировался в импровизированном клубе: несколько рядов скамеек да экран, прикреплённый в высокой сосне.
Отбой в субботу на час позже, ну и следовательно позже на час и подъём в воскресенье.
На землю опустилась самая короткая в году летняя ночь. Лагерь утонул во мгле, окутавшей сосновый бор. Тусклый свет фонарей освещал лишь постовой грибок дневального по роте, переднюю линейку да первую шеренгу палаток.
Высоко, в кронах деревьев слегка шумел ветер, изредка на землю шлепались сосновые шишки, а сами сосны поскрипывали, словно кряхтя от усталости.
Из палаток долетал приглушённый говор. Хоть и намаялись за день слушатели, но никак не могли угомониться.
Не спалось и Михаилу Гулякину. Чем ближе выпуск из института, тем чаще занимали его мысли о будущем, о профессии военного медика.
Рядом, опустив голову на руки и задумчиво глядя в угол палатки, лежал Виктор Гусев. Михаил сдружился с этим добрым и отзывчивым пареньком давно, с первых дней учёбы на военном факультете.
– Скажи, Миша, – вдруг спросил Виктор, – не жалеешь, что избрал хирургию?
– Что ты?! Конечно, не жалею. Ты же знаешь: о хирургии с третьего курса мечтаю. Ну и не просто мечтаю. Занимаюсь в хирургическом научном кружке. Стараюсь так дежурства подгадывать, чтобы заступать вместе с ассистентом кафедры. Он мне даже некоторые операции делать доверял. Конечно, самые простые. А всё же…
– С третьего курса.., – задумчиво проговорил Виктор. – Как давно это было! Ведь для нас этот курс решающим стал. Помнишь, как на военфак отбирали? А ведь сколько желающих-то было! Да, хорошо, что армия у нас в таком почёте.
– Ничего удивительного, – ответил Михаил. – Видишь, какая обстановка в Европе. Войной пахнет. Вот и сегодня Боцманов говорил о фашистах, как вероятных противниках. И это несмотря на пакт о ненападении…
– А что им пакт?! Всю Европу проглотили гады. На нас теперь поглядывают. – Виктор приподнялся на локтях, горячо зашептал: – Только не выйдет у них ничего. Подавятся. Да и вряд ли решатся к нам сунуться.
– Как знать? – вздохнул Михаил. – Войны то, кто же хочет?! Но мы, как люди военные, всегда должны быть готовы к ней.
Впрочем, в тёплый летний вечер думать о войне совсем не хотелось, особенно перед выходным днём.
– Чем завтра-то займёмся? – переменил тему разговора Виктор. – Может, к лётчикам в военторг сходим или на Волгу? Там каждый выходной молодежь из города собирается. Танцы и прочее…
– Мне обязательно нужно попасть в военторг, – сказал Михаил. – Отпуск скоро. Подарки родителям и братишкам с сестрёнками посмотреть.
– Подарками в Москве заниматься надо, – резонно заметил Виктор. – Я тоже буду старикам своим подарки покупать.
– Какое там, в Москве, – отмахнулся Михаил. – Перед отпуском так закрутимся, что не до магазинов будет. Да и в военторге снабжение совсем неплохое.
– Ну что ж, согласен с тобой, в военторг, так в военторг. Решено! – заключил Виктор и, помолчав, продолжил: – Давно у тебя хочу спросить, Миша. Твои родители тоже медики?
– Нет. Отец из крестьян. После революции кредитным товариществом руководил, затем был председателем сельсовета, председателем колхоза. Позже в Чернский райземотдел назначили…
– Вот это послужной список! А сейчас он чем занимается?
– Руководит крупным лесничеством под Тулой.
– Ты об этом почему-то не рассказывал раньше, – пробормотал Виктор уже полусонным голосом.
– Да как-то не случалось к слову…
Усталость скоро сморила и Михаила.
Около полуночи бригадный врач Боцманов подошёл к грибку дневального и приказал:
– Объявите тревогу!
…Громкая команда нарушила тишину. Мише Гулякину показалось, что он только закрыл глаза – и вот уже нужно было бежать в строй, на ходу приводя в порядок наскоро надетую военную форму.
Всё было чётко расписано. Одни получали оружие, другие – необходимое имущество и снаряжение. Через несколько минут слушатели замерли в развёрнутом строю в две шеренги.
Командир роты хрипловатым спросонья голосом подал команду и, осторожно, чтоб не споткнуться, ступая на изрезанную корнями деревьев землю, подошёл с докладом к Боцманову. Тот выслушал доклад и только после этого щёлкнул собачкой секундомера. Посветил на него спичкой и сказал с одобрением в голосе:
– Молодцы. Сегодня норматив перекрыли. Вольно. Командирам подразделений проверить оружие, снаряжение и произвести отбой.
– Вольно! Разойдись! – повторил командир роты.
Строй рассыпался. Не обошлось и без курьёзов. Кто-то впопыхах в темноте натянул на ноги два правых сапога, заставив заодно с собой мучиться и товарища в двух левых, кто-то гимнастёрку чужую напялил, едва в неё втиснувшись. Теперь все беззлобно подтрунивали над неудачниками.
Лагерь уснул почти так же быстро, как и пробудился.
И опять лишь дневальный прохаживался между палатками. В полной тишине прошли час, другой, третий… Лагерь спокойно спал, когда миновало четыре часа, когда пробило пять и с соседнего аэродрома стали подниматься в небо самолёты. Он спал бы до семи часов, но к половине шестого добрался и до него прокатившийся в ту ночь по всей стране сигнал уже не учебной, а боевой тревоги.
Второй за ночь подъём, да ещё в канун выходного дня вызвал у всех недоумение.
– Сейчас, братцы, закатят нам марш бросок километров на десять, – предположил кто-то: – Только к завтраку в лагерь и вернёмся.
Михаил быстро получил оружие, снаряжение и стал в строй.
– Этак за минуту натренируемся подниматься по тревогу, – шепнул ему Гусев и вдруг, прислушавшись, добавил: – Странно. Смотри, как гудят…
– Кто гудит? – сразу не понял Гулякин.
– Да на аэродроме. Полёты ночные что ли? Обычно в выходной день не бывает полётов, а тут… Странно, – вполголоса рассуждал Виктор.
Только теперь Михаил обратил внимание на гул авиационных двигателей. За дни, проведённые в лагере, он настолько привык к этому гулу, что почти перестал замечать его, во всяком случае, внимания не обращал.
Подразделения быстро выстроились на дороге. Было уже совсем светло. Проснулись и защебетали птицы.
Строй молча ждал. Этот подъём тревоги никак не походил на дополнительную тренировку. В самодурстве командование лагеря упрекнуть было нельзя, да ведь и не к месту оно было бы после столь успешного подъёма по тревоге в начале ночи.
Появился начальник лагерного сбора военврач 1 ранга Борисов. Выслушав доклад дежурного, и поздоровавшись с личным составом, он отошёл к собравшимся неподалёку от строя командирам и преподавателям.
– Совещаются, – шепнул Гусев Гулякину. – Видно всё же учения. Возможно, совместно с лётчиками.
Дело в том, что военный факультет 2-го Московского медицинского института был создан с целью подготовки медицинских кадров для авиационных частей и соединений. Потому и лагерь находился поблизости от аэродрома, потому и занятия нередко проводились на базе авиационного соединения. Обучали слушателей и действиям в составе сухопутных войск, но основным их предназначением оставалась авиация.
Гул со стороны аэродрома нарастал, приближался, и вскоре над лагерем, почти над самой кромкой леса прошли эскадрильи бомбардировщиков. А на аэродроме гул не смолкал.
И вот на середину строя вышел комиссар лагерного сбора дивизионный комиссар Исаков.
– На сей раз, товарищи, это боевая тревога, – сказал он. – Нас с начальником лагерного сбора срочно вызывают к начальнику Ржевского гарнизона. Можно пока разойтись, но из лагеря не отлучаться. Ждать указаний. Отбоя этой тревоге не будет.
Стой не рассыпался, как в прошлый раз, а сгрудился, загудел. Все, волнуясь, обсуждали только что услышанное.
Перед самым завтраком вернулись начальник лагерного сбора и комиссар. Слушателей снова построили. Исаков заговорил глухо и жёстко:
– Товарищи, сегодня на рассвете войска фашистской Германии атаковали наши западные границы… Это война, товарищи. Война тяжёлая с сильным противником. На нас напал жестокий и коварный враг. – Комиссар оглядел посуровевший строй и продолжил уверенно и твёрдо. – Красная Армия разобьёт врага, вышвырнет его за пределы советской земли, загонит в его собственное логово. Мы должны быть готовы к испытаниям.
После завтрака, который прошёл в полной тишине, на плацу состоялся митинг. Подогнали старенькую институтскую полуторку. Её кузов стал трибуной, на которую поочерёдно по приставной лесенке поднимались командиры, преподаватели, слушатели.
Боцманов, Борисов, Исаков говорили о сложных задачах, которые в скором времени должны встать перед курсом, об огромной ответственности каждого за судьбу Родины.
По-юношески резко, даже с некоторым излишним задором выступали будущие военные врачи.
– Дождутся фашисты. Не на тех напали, – почти кричал коренастый крепыш. – Красная Армия разобьёт фашистскую нечисть на её же территории. Мы все как один готовы немедленно встать на защиту Родины, но вряд ли успеем, ведь война кончится раньше, чем мы окончим военный факультет. Я прошу отправить меня в действующую армию на любую, пусть даже доврачебную должность. Доучусь после победы.
Памятны были рассказы о боях в Испании. Гулякину вспомнилось и то, что говорило о предстоящей войне дивизионный комиссар Исаков.
«Жестокий, сильный и коварный враг, – думал Гулякин. – Окончилось мирное время. На порог родного дома пришли горе, смерть, разрушения…»
Но в тот день никто из слушателей даже предположить не мог, насколько суровы испытания, что выпали на долю страны, на долю каждого из них. Все, конечно, надеялись на скорую победу Красной Армии.
Ближе к полудню с аэродрома поднялись последние звенья самолётов, и сразу стало непривычно тихо.
А вскоре из Москвы пришло распоряжение немедленно вернуть курс на зимние квартиры.
Командование приняло решение выехать в Москву ближайшим поездом.
Свёртывание лагеря, занятие прежде радостное, сулящее скорый отпуск,
теперь проходило в суровой обстановке.
Разобрали палатки, сложили и погрузили их в автомобили, и сразу опустел, осиротел лес на берегу Волги, в тех краях совсем неширокой, но необыкновенно красивой и живописной.
Зияли квадратные глазницы палаточных гнёзд, в никуда вели теперь ровные лагерные дорожки и линейки. Но по-прежнему никто не позволял себе ступить на святыню лагерного сбора – переднюю линейку.
Когда, наконец, был собран, упакован и погружен последний тюк с имуществом, слушателей снова построили в линию взводных колонн.
Прозвучала команда:
– В колонну по три, шагом марш!
Сурово двинулся строй. У всех на душе было тревожно и грустно. Позади колонны заклубилось облако пыли, словно отделяя серой завесой счастливое прошлое от неизвестного будущего.
Но вот начальник курса, который шёл впереди, обернулся, огляделся слушателей и громко скомандовал:
– Запевай!
Строевая песня! Она чудеса творит. Она поднимает выше головы, она наполняет уверенностью, гордостью за свою принадлежность к высшему на земле братству – братству воинскому. Разумеется, если это братство является братством защитников Родины, защитников жизни на земле, справедливости, правды…
Взвилась над строем песня, пронеслась над дорогой, забираясь всё выше и выше и отзываясь эхом в дальних уголках лесного урочища. Идти стало веселее, прочь уходили тревожные мысли.
Миновали городок лётчиков. Он опустел. Семьи тех, кто уже, вероятно, вступил в бой, не прогуливались по улице, несмотря на выходной день. Все с тревогой ждали известий от своих отцов, братьев, мужей.
– Вот и сходили за подарками, – проговорил Гусев, кивнув на военторг, возле которого, не в пример минувшим выходным, не было ни души.
– Зачем они теперь? – отозвался Гулякин. – Отпуск, думаю, будет теперь только после победы.
Колонна направлялась в сторону Ржева. Гулякин знал, что до города предстоит прошагать около десяти километров, затем проехать поездом до Москвы около двухсот километров. Не знал он, да и не мог знать одного: до победы предстоит преодолеть многие тысячи километров, длинных, трудных и горьких. Не мог он знать и того, что война станет для него одним нескончаемым, сплошным и очень тяжёлым днём за операционным столом.
Глава четвёртая
Всё личное – после победы.
Сбивая шаг, – по мосту в ногу идти не полагалось, – миновали Волгу. Сразу бросилось в глаза то, что совсем пусто для столь жаркого дня на городском пляже. Иных заметных изменений в городе пока не было. Разве что многолюднее на вокзале. Отпускники, командированные, военные и все, кого по разным причинам судьба занесла в этот город, спешили к местам работы, службы, по домам…
Пассажирский поезд пришёл точно по расписанию. Война ещё не вмешалась в графики движения здесь, в глубоком тылу. Слушатели быстро заняли места в вагонах, и замелькали за окнами пристанционные постройки, городские окраины. Проплыла за окном деревенька, по улице которой возвращалось с лугов стадо. Коровы и овцы разбегались по дворам, зазываемые и подгоняемые хозяевами.
Глядя на этот до доли знакомый пейзаж, Миша Гулякин вспоминал родную деревушку Акинтьево, свой дом, братьев, сестру.
«Как они там? Ведь и к ним уже ворвалось, всё перевернув и порушив, это страшное слово – война!»
В разных концах полутёмного вагона говорили об одном и том же. Всех волновало, что ждёт в Москве. Кто-то предположил, что могут отправить на фронт, в действующую армию. Позади четвёртый курс, а пятикурсники – это почти готовые врачи. Говорившему возражали другие слушатели – программа ещё не пройдена, а фронту недоучки не нужны.
– А всё-таки, мне кажется, выпустят нас раньше, – с жаром убеждал Саша Якушев. – Ну, подучат немного, конечно, не без этого. Не по мирным же планам и программам учить теперь будут.
– А что, – поддержал его Олег Добржанский, – устроят экзамены, вручат дипломы и – вперёд…
– Экзамены? Главный экзамен у всех нас теперь один – фронт, – задумчиво глядя в окно, сказал Михаил Гулякин. – Нужно быть готовым к этому экзамену.
– Да, там учителей не будет, – согласился Якушев. – С первого дня всё самим делать придётся. Это вам не клиника. На фронте опекать некому. А вот готовы ли мы?
Готовы ли? Этот вопрос волновал каждого. Немногие слушатели имели на своём счету хирургически операции, даже самые простейшие.
Поезд отстукивал километры. Небо на западе окрасилось в багровый цвет, солнце садилось в грозовые тучи.
– Духота, – сказал Якушев. – Быть грозе.
– Это точно, – отозвался Добржанский и тут же поинтересовался: – Интересно, почему это свет не включают?
Виктор Гусев приподнялся, шагнул в вагонный коридорчик. Через несколько минут вернулся и растерянно произнёс:
– Говорят, светомаскировка… Представляете?!
Впрочем, слушатели, привыкшие в лагере к условностям тактической обстановки, поначалу восприняли это сообщение не слишком серьёзно.
– Маскировка, так маскировка, – сказал Олег Добржанский. – Даже лучше. Полумрак больше располагает к разговорам, да и подремать не худо. Прошлую ночь так и не поспали толком.
Поезд шёл быстро. Миновали станцию Старица. Кто-то из слушателей поведал из полумрака, что станция эта находится в двенадцати километрах от города, потому что во время прокладки железнодорожных путей какой-то землевладелец, кому принадлежали земли в районе Старицы, отказался пускать строителей. Так и заявил: «Не нужна мне железная дорога!»
Черту города Калинина пересекли уже в полной темноте. Даже не сразу поняли, что за окошками город. Опять же кто-то из местных, услышав характерный для переезда помосту шум, посмотрел в окно и воскликнул:
– Волга! Значит мы уже в Калинине.
Поезд шёл быстро, скоро промелькнула поблескивающая в темноте гладь Московского моря, прошумели пролёты моста. Миновали Клин, Солнечногорск. По расчётам уже поры было быть окраинам Москвы. Но за окнами по-прежнему ни огонёчка не видно. Казалось, по сторонам тянулся дремучий лес.
«Может, всё-таки запаздываем?» – подумал Миша Гулякин, но тут увидел внизу широкую светлую полосу.
Это была Москва-река. Вагонные пары прогремели по знаменитому мосту, выгнувшему два стальных хребта по сторонам железнодорожного полотна.
Вот и город. Но где же зарево от электрических огней, которые обычно заливают в этот ещё не поздний час столичные улицы, где свет московских окон?
Поезд стал замедлять ход, за окном разбежались паутинки железнодорожных путей, и, наконец, потянулся длинный тёмный перрон.
В вагоне снова заговорили о маскировке. Только теперь это звучало тревожнее: речь шла о Москве. Какие уж тут условности тактической обстановки? Все были удивлены, даже несколько растеряны. Москва затемнена, словно прифронтовой город.
Многолюдный и шумный для столь позднего часа Ленинградский вокзал встретил тревожным полумраком. Лишь в залах ожидания, да в некоторых служебных помещениях, окна которых были плотно завешены тёмными шторами, горело дежурное освещение.
Прозвучали команды, и слушатели вышли на привокзальную площадь. Там построились в походную колонну и зашагали по Москве, печатая шаг. Только вот без песни. И время позднее, да и настроение несколько упало.
Утром слушателей курса собрали в актовом зале института. На трибуну вышел начальник факультета. Стало тихо, так тихо, как ещё никогда не было здесь, если собирался целый курс.
– Второй день по всей границе от Балтийского до Чёрного моря идут жестокие бои, – сказал начальник факультета. – На некоторых направлениях врагу удалось вклиниться на нашу территорию. На нас напал сильный враг, на которого работает вся порабощённая им Европа. Принято решение выпустить слушателей вашего курса досрочно.
В зале произошло заметное оживление, послышались возгласы: «Что я говорил! Скоро на фронт!» или «Скоро будем в Берлине!»
Под строгим взглядом начальника факультета все замолчали.
– Программа обучения практически не изменится, однако будет уплотнено расписание занятий, – продолжал военврач 1 ранга Борисов. – Экзамены предполагается провести в сентябре. Будет тяжело, очень тяжело, но прошу помнить – вашим сверстникам на фронте намного труднее.
Все организационные мероприятия по подготовке к началу занятий, по изменению распорядка завершились в два дня, и скоро слушателям выдали бланки с новым расписанием.
– Ты только взгляни, Миша! – воскликнул Виктор Гусев, бегло просмотрев расписание. – Завтра двенадцать часов, послезавтра – тоже, а в среду и четверг – по четырнадцать.
Гулякин пожал плечами:
– Что же делать, война…
Вскоре был составлен график дежурств в клинике института, который тоже оказался необычайно плотным.
Начались суровые учебные будни, потекли насыщенные до предела недели. Никто из слушателей не роптал. Все понимали, что нужно набираться терпения, выдержки, что отдохнуть удастся только после победы.
Приступили к занятиям и студенты гражданских факультетов. Собирались они на учёбу медленно. Многие проходили врачебную практику в больницах приграничных областей, где уже бушевала война.
Во время коротких перерывов между занятиями, по пути из одной аудитории в другую слушатели военфака забегали в деканаты гражданских факультетов, чтобы узнать, нет ли вестей от недавних однокашников, с которыми вместе начинали учёбу на младших курсах. Особенно беспокоились за своих девушек. Кое-кто даже приуныл, не получая от них вестей, и для того были основания. Известия с фронта не радовали. Они становились день ото дня всё более тревожными. Уже в середине июля стало известно о гибели студентов, встретивших войну в западных областях.
Всех объединяло одно стремление – скорее окончить институт и попасть на фронт, чтобы оказывать помощь раненым. Каждый понимал, что медицинское обслуживания стоит в одном ряду с авиационным и артиллерийским, что медработники так же нужны армии, как бойцы и командиры. На это указывалось во многих приказах и установочных документах
А дни, насыщенные сложными и напряжёнными занятиями, изнурительными дежурствами в клиниках, тянулись очень медленно.
Однажды вечером, вернувшись в общежитие, Михаил нашёл на своей тумбочке конверт, подписанный ровным, аккуратным и очень знакомым почерком.
«От Лиды!» – сразу понял он, и сердце радостно забилось.
Чистые и нежные отношения с этой скромной, милой девушкой завязались у Михаила ещё на первом курсе. Многие пророчили даже скорую свадьбу. Но в минувший год наметился в этих отношениях холодок.
И вдруг письмо…
Михаил вскрыл конверт, стал читать, примостившись у подоконника.
«Я очень переживаю за тебя, – писала Лида. – Что ждёт впереди? Ведь ты военный, а, значит, скоро будешь на фронте. Как же внезапно нахлынула беда! До сих пор не могу осознать, что всё светлое и радостное осталось позади, за чертой этого страшного слова – война. А впереди? Потери, разлуки. Как найти своё место в этом круговороте событий? Как не потеряться в нём?...»
В письмо было много нежных и тёплых слов, в каждой строчке звучала тревога за его судьбу, и Михаил, глубоко взволнованный, долго сидел у окна, задумчиво глядя вдаль и вспоминая радостные свидания с Лидой, беззаботные прогулки по Москве, разговоры о будущем, о профессии, о жизни…
Он взял чистый лист бумаги, ручку и подумал: «Что же написать?»
Не мог пока ещё до конца разобраться в своих чувствах, да и не время теперь было делать это. Считал, что война перечеркнула всё личное. И она действительно подчинила мысли, желания, стремления одной великой цели, ради которой уже гибли его сверстники на поле боя.
И он написал:
«…Время требует от нас беззаветного выполнения долга перед Родиной, куда бы она ни поставила, какой бы участок не поручила. Всё личное должно решаться после победы…»
Острота обстановки, чувство общей опасности – всё это располагало к особой откровенности между людьми.
Однажды во время дежурства в клинике Миша Гулякин встретил свою однокурсницу Женю. Они учились вместе до его перевода на военный факультет. Миша никогда не назначал ей свиданий. Видел её прежде только коридорах института, да в лекционных аудиториях. Но ведь и с другими девушками он тоже сидел, порой, рядом на лекциях, говорил об учёбе. А вот к Жене чувствовал симпатию, и как казалось, она тоже симпатизировала ему. Они с удовольствием помогали друг другу, если была нужна какая-то помощь в учёбе, радовались успехам на сессиях. И только…
И вот Миша снова увидел Женю после небольшого перерыва. Столкнулся с ней лицом к лицу, когда она выходила из операционной. Женя была чем-то огорчена, подавлена. На глазах – слёзы. Только что завершилась операция, во время которой хирург пытался спасти раненого. Раненых, особенно тяжёлых, всё чаще привозили в институтскую клинику.
Этот был особенно тяжёлым, и все старания хирурга оказались напрасными.
– Представляешь Миша, – немного придя в себя, начала Женя. – Он же ещё совсем, совсем мальчишка… Этот раненый. Я была ассистентом. Сердце кровью обливалось. Он совсем как мой братишка, который добровольцем ушёл на фронт. И этому пареньку всего восемнадцать. Ничего ещё в жизни не видел, а уже дрался с врагом, Родину защищал… И вот его уже нет. Ужасно, просто ужасно это осознавать, тяжело видеть всё это.
– Успокойся, что ты, успокойся, – гладя её каштановые волосы, выбивающиеся из-под сползшей набок шапочки, говорил Гулякин. – Сейчас столько горя вокруг! А раненым не слёзы наши нужны, а руки. Ты же хирург. Ещё немного, и будешь оперировать самостоятельно. Может, я ещё к тебе на стол попаду, – попытался он пошутить, но это ещё больше расстроило Женю.
Она подняла на него большие, полные слёз глаза и заговорила:
– Зачем ты так? Разве шутят с этим? Я боюсь за тебя. Я не хочу расставаться с тобой, хочу быть всегда рядом. Я, я.., – она потупилась, – люблю тебя.
Михаил опешил: «Что он мог сказать?» Ответить взаимным признанием он не решался. Не был уверен, что у него есть какие-то особые, а не чисто дружеские чувства. И в то же время боялся обидеть милую девушку неосторожным словом.
Неожиданно подумал: а прав ли был, когда писал Лиде, что всё личное нужно отбросить до конца войны? Ведь в эти суровые дни всеобщего горя дороги даже самые малые проявления добрых чувств, даже мгновения радости.
– Гулякин, на операцию, – послышался голос ассистента.
– Ну, я пошёл, – сказал Михаил, всё так же нежно гладя Женины волосы. – Подожди в ординаторской. Сегодня много раненых.
В те июльские дни Москва, ещё далёкая от переднего края, уже стала прифронтовым городом. В клиники и больницы доставляли тяжелораненых, которым требовалось длительное и серьёзное лечение, нужна была квалифицированная медицинская помощь. Военных госпиталей не хватало, и под них оборудовались не только клиники, больницы и другие медицинские учреждения. Постановлением Советского правительства предписывалось превратить в госпитали сотни домов отдыха и санаториев, предполагалось выделить для лечения раненых лучшие общественные здания, школы.
Остро ощущалась нехватка персонала. Дежурства в клиниках и больницах возложили на студентов-медиков, на слушателей военных факультетов.
Всего несколько месяцев назад казалось, что всё, о чём рассказывали преподаватели, ссылаясь на опыт боёв на Халхин-Голе и Хасане, может и не понадобится никогда. И вот теперь эти знания были востребованы.
Прежде слушателям чаще всего лишь на схемах или анатомических атласах показывали, как иссекать края загрязнённых ран, какие ткани после хирургической обработки необходимо зашивать наглухо, а какие нет, как обезболивать оперируемое место с помощью раствора новокаина… Теперь слушатели видели всё это своими глазами, а иногда и проделывали всё сами.
Вот и теперь Гулякина не случайно позвали в операционную. Персонала не хватало. Слушатели всё чаще были необходимы. На столе лежал молоденький красноармеец. Лицо его было в испарине, щеки бледные, впалые, пульс частил.
– Дать наркоз! – распорядился хирург, и Михаил быстро наладил аппарат.
Раненый заснул. Операция началась. Предстояло ампутировать ногу, посечённую осколками снаряды. Медлить с операцией было нельзя: слишком далеко забралась инфекция.
Михаил точно выполнял указания хирурга, внимательно следил за его работой, стараясь запомнить каждое движение. Знал: всё это пригодится очень и очень скоро.
Как он понимал сейчас Женю, опечаленную исходом операции, в которой она участвовала. И пусть жизнь оперируемого сейчас раненого была вне опасности, но он оставался без ноги. Каково это?! Молодой, полный сил человек – и без ноги… Чувство жалости к пареньку сжимало сердце, однако Михаил взял себя в руки, понимая, что не жалость нужна сейчас раненому, а помощь, квалифицированная срочная помощь.
После операции Михаил вслед за хирургом вошёл в ординаторскую. Жени там уже не было. Её вызвали на перевязки.
Михаил всё ещё оставался под впечатлением операции и с некоторой горячностью спросил у хирурга:
– Ну, неужели ничего нельзя было сделать, неужели невозможно спасти ногу?
– Поздно, слишком поздно привезли к нам раненого, – развёл руками хирург. – Нелегко сейчас на фронте. Прёт враг, ещё как прёт. Собрал силищу. Сводки слушаешь?
– Причём здесь раненый и его нога?
– Очень даже, очень… Попробуй ка организовать чёткую сортировку раненых, попробуй ка своевременно отправить в тыл тяжёлых, выделить из них таковых, которым можно ещё, к примеру вот ногу спасти. Медсанбаты постоянно меняют место расположения, транспорта для отправки раненых в госпиталя часто не хватает. Наслушался я рассказов. Есть у нас тут несколько медиков, уже прооперированных.
– Да я понимаю, что сложно. Просто жалко паренька.
– Думаешь, мне не жалко? Но рисковать жизнью солдата права не имел. Показания к ампутации были самые серьёзные.
– И мастерство хирурга не всегда может помочь? – спросил Гулякин.
– Мастерство необходимо. Очень важно оттачивать своё мастерство, но мы, увы, не всесильны. Тем не менее, от врачей очень многое зависит. Нужно научить санитаров правильно помощь на поле боя оказывать, самих бойцов обучить оказанию первой помощи. Всё это скажется на дальнейшем лечении.
Но главное, конечно, будут делать ваши руки – руки хирургов переднего края. В тыловом госпитале уже трудно что-то изменить. Вот как сегодня. А ведь можно было спасти ногу, но на более ранней стадии. Сразу после ранения, или в медсанбате. Не уверен, но, пожалуй, спасли бы.
С 21 на 22 июля Михаил Гулякин заступил на дежурство. Оно начиналось утром и продолжалось сутки. В обязанности дежурного входили участие в операциях, контроль за прооперированными ранеными и больными, различная лечебная работа.
Весь день прошёл в неотложных делах. Операции, перевязки следовали одна за другой. Несколько раз, да и то мельком, Михаил видел Женю. Она тоже заступила на дежурство. Но поговорить с ней не удавалось. Только успела шепнуть на ходу:
– Хорошо, что завтра после дежурства мы свободны. Ведь двадцать второго твой день рождения.
– До него ли теперь!? – махнул рукой Михаил.
– Послушай! – вдруг воскликнула она. – А это что? – она коснулась рукой петлички, видневшейся из-под халата, на которой появились два кубика. – Я в званиях не разбираюсь. Но вижу, что можно поздравить с повышением. Ты кто теперь?
– Военный фельдшер. Есть такое у нас звание!
– Ну что ж, товарищ военный фельдшер, разрешите послезавтра после сдачи дежурства прибыть к вам для поздравления с днём рождения. До него осталось, – она мельком взглянула на часы, – меньше четверти суток.
Но Михаил прав. Действительно оказалось, что не до дня рождения. Около полуночи объявили воздушную тревогу.
Всю ночь по небу шарили лучи прожекторов, и оно было словно изрезано на разнообразные геометрические фигуры. Стучали зенитки, грохотали разрывы снарядов, вспыхивали жёлто-красными облачками, надрывно и монотонно выли моторы вражеских бомбардировщиков.
Отбой воздушной тревоге дали только под утро.
Сменившись с дежурства, Михаил не ушёл из клиники, а, немного отдохнув в ординаторской, снова включился в работу. В тот день в клинику доставляли москвичей, пострадавших при бомбёжке.
Вечером, возвращаясь в общежитие, Михаил заметил, как сильно изменилась столица. На окнах появились бумажные перекрестья, у стеклянных витрин магазинов – мешки с песком. Во дворах притаились зенитки и прожекторные установки.
– Ну как дежурство? – спросил приятель Виктор, когда Михаил вошёл комнату. – Да-а. С днём рождения тебя. Чуть не забыл в этой суете.
– Спасибо! Только день-то сегодня, пожалуй, самый печальный. Представляешь как обидно – именно в мой день рождения первый налёт на Москву…
– Читай газету! – сказал Виктор, протягивая свежий номер. – Ничего у них не вышло. Наши сбили двадцать два ихних самолёта. Это только по предварительным подсчётам. Ну а если ещё сунутся, ещё получат.
Но фашисты сунулись и не раз. Их не останавливали потери. Враг хотел деморализовать москвичей, сломить волю к сопротивлению, но просчитался. Части зенитной артиллерии и истребительной авиации надёжно защищали небо столицы. К Москве прорывались единицы вражеских бомбардировщиков, да и те редко возвращались на свои аэродромы.
В напряжённой учёбе, прерываемой изнурительными дежурствами, прошло лето. Началась осень, и, наконец, 25 сентября после завершения выпускных экзаменов слушателей собрали в Центральном Доме Красной Армии имени М.В. Фрунзе.
В торжественной обстановке был зачитан приказ о присвоении выпускникам военного факультета звания «Военврач 3 ранга». Затем вручили дипломы.
Банкета, которым сопровождался год назад первый выпуск военфака, конечно, не было. После торжественной части молодые военврачи посидели в буфете, скромно отметили выпуск, а уже 28 сентября их вызвали на распределение.
Гулякин, как круглый отличник, имел право выбора места службы. Но что было выбирать? Если год назад выпускникам был смысл проситься в крупный госпиталь на клиническую работу, то теперь всё переменилось. Все стремились на фронт. А на какой? Разве это имело значение?
И вот Михаил в кабинете начальника курса. За столом комиссия, занимающаяся распределением.
– Товарищ военврач первого ранга, – вытянувшись перед председателем комиссии, начал Михаил, – военврач третьего ранга Гулякин прибыл для получения назначения.
Военврач 1 ранга Акодус спросил:
– Где желаете служить, Михаил Филиппович? Мы предоставляем вам право выбора.
– Там, где сочтёт необходимым командование! – твёрдо ответил Гулякин.
– И всё-таки? Есть хоть какие-то пожелания? – спросил Акодус.
– Если можно, направьте меня вместе с Гусевым. Мы с ним давние друзья. Он ведь на фронт попросился?
– Гусев… Гусев.., – повторил Акодус, просматривая списки. – Вот он, Гусев. Поедет служить в войска Приволжского военного округа.
– Но он же на фронт рвался?! – с удивлением воскликнул Гулякин, вопросительно глядя на Акодуса.
Тот лишь горько усмехнулся, встал, опершись на подлокотники кресла, обошёл вокруг стола и, положив руку на плечо Михаила, тихо сказал:
– Эх, молодость, молодость. Подавай вам фронт, и всё тут. Боитесь не успеть, думаете, что войны на вас не хватит. Увы, на всех, к сожалению, хватит этой войны, каждому достанется с лихвой. Вы уж мне поверьте. И Гусев не на курорт едет. Так я говорю? – обратился он к членам комиссии.
– В Приволжском военном округе, Миша, – пояснил Боцманов, – резервы формируются, причём, части и соединения, близкие к вашей специальности врачей Военно-Воздушных Сил. Там сейчас доукомплектовывается воздушно-десантный корпус. Служба у десантников нелёгкая, поэтому посылаем туда только добровольцев.
– Прошу направить меня в Приволжский военный округ, в воздушно-десантные части, – попросил Михаил и тут же добавил: – Я ведь занимался в аэроклубе и прыгал с парашютом.
– Хорошо – кивнул Акодус, садясь в кресло и подвигая бумаги. – Вас, Михаил Филиппович, мы назначим старшим группы. Завтра получите предписание. Прибыть нужно будет в Ульяновск. Оттуда направят по назначению.
В коридоре Гулякина ждал Гусев.
– Ну что?
– Едем вместе, – ответил Михаил.
Продолжение следует.
Руки хирурга
Глава вторая.
«…У Михаила – руки хирурга!»
У южных ворот здания Арсенала в Кремле, перед мемориальной доской, посвящённой памяти солдат 56-го запасного полка,
расстрелянных здесь в октябре 1917 года, остановились трое: мужчина средних лет, одетый скромно и опрятно, юноша лет восемнадцати и двенадцатилетний мальчик.
Продолжая уже начатый раньше свой рассказ о чём-то особенно дорогом и памятном ему, мужчина говорил:
– Вот у этой стены всё и произошло. Отсюда в нас стреляли юнкера и офицеры. Здесь же, перед аркой построили затем всех, кто уцелел.
– Папа, покажи пушку, за который ты прятался, – попросил мальчуган.
Филипп Кузьмич Гулякин повёл сыновей к трофейным французским пушкам, отыскал ту, лафет которой защитил его от пуль.
– Здесь мы и залегли с товарищами из седьмой роты, – пояснил он.
Много раз сыновья, Алексей и Михаил, слышали рассказ о событиях октября 1917 года, а вот сегодня впервые побывали в Кремле, увидели своими глазами Кремль, «Ивана Великого» и другие священные для каждого русского человека места.
Мишу интересовало всё: через какие ворота ворвались в Кремль юнкера и как им это удалось; где потом, в начале ноября, входил в Кремль в составе одного из революционных отрядов отец; на каких постах он нёс караульную службу зимой 1917-1918 годов…
Отец с удовольствием отвечал на вопросы, радуясь, и любознательности сына, и его стремлению постичь смысл событий тех лет.
А потом они прошли мимо Собора двенадцати апостолов, колокольни «Иван Великий» и у Архангельского собора спустились вниз к Тайницкой башне.
– Вот здесь мы перебирались через стену, – показал Филипп Кузьмич.
– А Покровские казармы ты нам покажешь? – снова спросил Миша.
– Да, конечно, сходим и туда.
Впечатлений было в тот день много. Впервые побывали сыновья Филиппа Кузьмича в Москве. Весело звенели трамваи, гудели автомобили. Майская Москва была шумной и радостной. На широком плацу пред казармами бодро вышагивали под барабанную дробь красноармейцы.
И вспомнил Филипп Кузьмич суровую зиму 1917 года, заснеженный плац, холодные помещения казармы, вспомнил, как уходил отсюда в ноябрьские дни на штурм Кремля.
Здесь начались его суровые испытания в годы революции, и снова он побывал на этих местах перед важным жизненным рубежом.
С гражданской войны он вернулся в родное Акинтьево закалённым в боях и сразу же включился в борьбу за новую жизнь в деревне. Вскоре возглавил кредитное товарищество, так называемую «смычку», а через некоторое время его избрали председателем сельского совета.
А вскоре пришла в деревню коллективизация, и первым председателем колхоза в Акинтьево стал именно он, Филипп Кузьмич Гулякин. По делам своего колхоза он и приехал в Москву, взяв с собой сыновей.
Его ждала работа ответственная, напряжённая, ждали новые испытания.
Старший сын решил остаться в сельской местности. Он окончил сельскохозяйственный техникум в городе Богородицке, и скоро должен был приступить к работе. А вот младший, Михаил, мечтал о профессии строителя.
Филипп Кузьмич сказал Михаилу по этому поводу:
– Каждый труд в нашей стране почётен. Строителем можно быть и на селе. Теперь и на селе будет, что строить.
Надолго запомнилась Михаилу Гулякину поездка в Москву, запомнились огромные городские здания, великолепные архитектурные памятники.
По пути домой заезжали в Орёл. Миша уговорил отца показать ему строительный техникум. Постоял, посмотрел на здание, из дверей которого, как раз в тот момент, гурьбой выкатывались студенты, и сказал отцу и брату:
– Окончу семилетку и поступлю сюда!
Пока же надо было ещё учиться в школе.
Быстро пролетело лето, закончились каникулы. Собственно, в те годы у сельских детей свободные деньки и в каникулы выпадали не часто. Приходилось помогать родителям по хозяйству, работать на огороде, ухаживать за различной живностью.
Отца видели редко. С утра до вечера он был в поле, на ферме, выезжал в другие деревни, где долго не ладилось с коллективизацией.
В Акинтьево всё проходило более или менее мирно. Правда, несколько раз отца всё же поднимали за полночь, словно по боевой тревоге. Однажды кто-то поджог животноводческую ферму, в другой раз вывели из строя трактора.
Старший брат уже работал в одном из колхозов агрономом, и Мише частенько приходилось быть за старшего. Он помогал делать уроки брату Александру и сестре Ане, нянчил младшего братишку Анатолия.
Ну а если выпадали свободные минутки, садился за книги. С детства пристрастился к чтению.
Незаметно шли годы. Позади осталась школа колхозной молодёжи. В 1932 году он поступил в Орловский машиностроительный техникум. Правда, здесь и ожидало первое разочарование – строительный факультет закрыли. Пришлось идти на машиностроительный.
Год отучился успешно. Неожиданно выбранная специальность постепенно стала даже интересовать.
Лето 1933 года провёл в деревне. Снова помогал матери, работал в колхозе, занимался с братьями и сестрой.
Следующий год круто изменил его судьбу. Зима 1933-1934 годов выдалась суровой, морозной. К тому же накатился голод…
Если в деревне ещё какие-то припасы были, то в городе стало особенно трудно. На помощь родителей Михаил рассчитывать не мог: знал, что семье и без того трудно. Трое малых детей подрастали. Надо было самому заботиться и об одежде, и о питании.
Тогда-то и принял решение уйти из техникума. Но учёбу не бросил. Устроившись на работу в совхоз «Спартак» в Чернском районе, стал посещать вечерний рабфак, который закончил экстерном.
Отец в то время работал в Чернском райземотделе, но вскоре получил новое назначение – возглавил крупное лесничество под Тулой.
В те годы в гостях у Гулякиных часто бывал тульский врач-хирург Павел Федосеевич Федосеев. С большим интересом слушал Миша его рассказы о сложных операциях, о спасении, казалось бы, безнадёжных больных.
Медицина для Михаила была областью незнакомой.
И вдруг, однажды, неожиданно для всех, Федосеев сказал Филиппу Кузьмичу:
– Сдаётся мне, что из Миши может получиться очень хороший врач.
– С чего ты взял? – удивился Филипп Кузьмич. – Он у меня строителем мечтает быть. В институт собирается поступать.
– Это, конечно, хорошо, – вроде бы согласился Федосеев, – да только Миша больше подходит для профессии врача. Характер уравновешенный, говорит спокойно, обстоятельно, да и руки. – Он взял руки юноши в свои, внимательно осмотрел их и прибавил: – У Михаила руки хирурга!
Михаил задумался над словами Федосеева, стал ещё внимательнее прислушиваться к рассказам о работе хирурга.
Любовь и расположение к людям всегда были в его характере. Теперь же он стал понимать, как важно для врача, к которому идут несчастные, поражённые недугами пациенты с надеждами на спасение, быть внимательным и способным к сочувствию. Пройдут годы и уже будучи знаменитым хирургом, Михаил Филиппович Гулякин скажет фразу, которая станет крылатой в госпитале: «Душа хирурга должны быть с больным вместе».
Как-то летом 1937 года к Михаилу пришли его друзья по рабфаку Константин Гостеев и Михаил Шерстнёв.
– Мы решили поступать в мединститут! – сказал Костя. – Едем в Москву. Давай с нами!
У Михаила перехватило дыхание. Он подумал: «А что если попробовать? Вдруг действительно стану хирургом?»
Съездили в Москву, подали документы во 2-й Московский медицинский институт и засели за учебники. Всё лето занимались. И вот пришло время экзаменов. Не было у Михаила в жизни до этих пор столь серьёзных испытаний.
Первым был письменный экзамен по математике. В большом, просторном актовом зале стояла мёртвая тишина. Лишь поскрипывали перья ручек.
Просмотрев задание и осмыслив его, Миша Гулякин успокоился. Он знал решения всех примеров и задач. Сказались недели напряжённых занятий летом. Да ведь и в школе колхозной молодёжи он был далеко не последним учеником.
Огляделся. Неподалёку от него склонились над столами Гостеев и Шерстнев.
«Как-то у них дела?» – с беспокойством подумал о товарищах.
Работу Миша завершил одним из первых. Снова посмотрел на товарищей. Гостеев обернулся и подмигнул, мол, всё в порядке. Справился с заданием и Шерстнёв. Сразу стало легче на душе.
После экзамена долго делились впечатлениями, снова и снова проверяя себя, разбирали решения задач. Этот день решили отдохнуть, а уж с утра взяться за подготовку к устному экзамену по математике.
– Погуляем по Москве, – предложил Шерстнёв.

Михаил уже мог кое-что показать друзьям и немного рассказать о Москве, в которой им теперь, в случае поступления, предстояло учиться.
А потом были математика устная, основы ленинизма, физика, химия… Михаил всё сдал успешно. Оставалось сочинение. Он выбрал свободную тему и начертал на чистом листе бумаги: «Иной судьбы не желаю!»
Он писал об отце, о его участии в революции, об организации колхозов в Акинтьево. И главное – о том, почему выбирает профессию врача. Рассказал о мечте помогать людям, научиться избавлять их от болезней, о том, как понимает долг врача.
Писал и удивлялся, как же это мог раньше мечтать о какой-то другой профессии. Писал и проникался всё большим убеждением, что медицина – его призвание. Впрочем, пока ещё в этих его словах было много юношеской восторженности и увлечённости, ведь он ещё не познакомился тогда ни с анатомией и анатомичкой, ни с латынью и фармакологией, ни с гистологией и микробиологией – то есть с самыми сложнейшими предметами, без знания которых не может быть врача.
Первый курс медицинского института не напрасно считается рубежным для каждого студента. На первом курсе самые сложные предметы. Приходится изучать строение человеческого тела, функции органов и тканей, биохимические процессы в организме. Тут уж подлинная проверка на прочность. Не каждый выдерживал её и не каждый мог преодолеть страх и брезгливость, заходя в анатомичку.
Нельзя сказать, что Михаил Гулякин преодолел всё без труда, но ему удалось собрать в кулак свою волю, когда настал час знакомства с этим особым предметом.
Конечно, к этому готовились не только студенты, но и преподаватели. Группе Михаила Гулякина повезло. Студентов, осторожно и робко переступивших порог анатомички, встретил немолодой уже, опытный преподаватель.
– Побыстрее, товарищи, – поторопил он деловым, строгим голосом, – программа насыщенная. Нельзя терять ни минуты. Подходите к столу…
Михаил сделал шаг вперёд, стараясь не смотреть на стол. Его товарищи тоже прятали взгляды, делая вид, что их больше интересуют потолок, стены и окна секционного зала.
Но это всё скоро пришлось отставить, поскольку преподаватель начал объяснение учебного материала почти без паузы. Он предупредил, что первое занятие – ознакомительное, а вот в следующий раз будет спрашивать и выставлять оценки.
Напоминание о том, что придётся отчитываться за свои знания, заставило несколько по-иному взглянуть на предмет, который предстояло освоить.
А потом от занятия к занятию студенты стали привыкать к анатомичке. На одном из занятий у преподавателя спросили, почему все анатомические обозначения даются в латинской транскрипции. Тот посмотрел на часы и сказал:
– Ну, хорошо, несколько минут у нас есть. Поясню…

Первокурсники в тот день услышали много интересного и нового. Оказалось, что медицинскую терминологию разработали ещё римляне в древние времена, а названия болезней ввели древние греки. Прошли столетия. За это время врачи многих стран пытались выработать свою национальную терминологию, но ни у кого ничего из этой затеи не вышло. Так и осталась латинская и греческая терминология международным языком медиков. Потому и приходилось первокурсникам заучивать наизусть множество различных названий и терминов на латинском и греческом языках.
Михаил постепенно втянулся в занятия, появились у него и свободные минутки, которые он использовал на знакомство с Москвой, на походы в музеи, в театры. В институте работало много различных кружков, спортивных секций, а однажды появилось объявление о наборе в аэроклуб.
Михаил долго смотрел на него. Казалось бы, для чего медику нужно прыгать с парашютом? Между операционным столом и небом дистанция огромного размера.
Подошёл Виктор Гостеев. Прочитал и спросил:
– Хочешь записаться?
– Не знаю. А ведь здорово, наверное. Читал я о парашютистах, но сам не видел, как с парашютом прыгают.
– Ну, так пошли. Вот и адрес. Арбат. Это где-то недалеко от Смоленской площади. От нас – рукой подать. Ребята уже там побывали.
– Это что же, аэроклуб в городе. А как же прыжки? – удивился Гулякин.
– Не беспокойся, прыгать будем на аэродроме за городом. Ну что, после занятий пойдём?
– Заманчиво! – задумчиво сказал Гулякин и прибавил решительно: – Идём!
С того дня они с Гостеевым несколько раз в неделю сразу после занятий спешили в аэроклуб, который находился в небольшом здании внутри квартала. Там царила необычная, непохожая на институтскую атмосфера.
Даже манера поведения у тех, кто работал в аэроклубе, была совсем не такая, как у остальных. Держались несколько вольнее, ходили вразвалочку, вели себя чуточку развязно, но без бравады. Были они людьми простыми, весёлыми, любили шутку, умели беззлобно подтрунивать друг над другом.
А до прыжков оказалось очень и очень далеко. Сначала теория. Доскональное изучение устройства парашюта, затем в классе на подвешенной к потолку парашютной системе отрабатывали управление парашютом, приземление, отделение от него.
И у каждого на языке был один вопрос – когда же прыгать? А инструкторы только посмеивались. Не спешите, мол. Прыгать надо тогда, когда всё, что надо выполнить в небе, будет доведено до автоматизма на земле.
После занятий в классе, тренировались во дворе на небольшой вышке. Там просто нужно было прыгнуть и опуститься на тросах, чтобы отработать приземление. Наконец, вывезли на прыжки с вышки, где над головой уже трепетал купол парашюта.
И вот выезд на подмосковный аэродром.
– Ты хоть на самолёте-то летал? – спросил у Михаила Виктор Гостеев, хотя, конечно же, знал ответ.
– Откуда ж? – пожал плечами Гулякин.
– И я не летал. А так хочется. Вот хоть сейчас бы в лётчики ушёл. Я просился, да не взяли.
– А как же медицина? – удивился Михаил.
– Так я ж учусь и неплохо.
– И правильно, что не взяли, – рассудил Михаил. – Умение прыгать с парашютом может пригодиться врачу. А вот летать? Летать не его дело. Разные профессии.
Ровное поле аэродрома, покрытое снегом, искрилось в лучах солнца. Мороз слегка пощипывал нос и уши, в воздухе стоял гул моторов, особый гул, не похожий на тот, что в городе.
– Повезло вам, ребята, зимой прыгать мягче, – подбадривали инструкторы.
Михаил думал, что они шутят и лишь годы спустя узнал, что сугробы иногда даже спасают парашютистов при неудачном приземлении.
Первый раз в жизни поднялся он на борт самолёта, пусть лёгкий, одномоторный, но настоящий. Взревел двигатель, самолёт разбежался по взлётной полосе и оторвался от земли.
Что испытывал он в те мгновения? Радость? Да. Но и робость – тоже немного.
Команда «пошёл» прозвучала неожиданно. Михаил сделал шаг и провалился в сияющую и сверкающую бездну – день выдался солнечным, ясным, слепило глаза от яркого света, от голубизны неба, от белизны снежного покрывала.
С лёгким щелчком раскрылся парашют, и купол его вспыхнул над головой. Тревоги, опасения, робость всё осталось позади. Сердце наполнилось радостью, гордостью. Не столь ещё привычным был парашютный спорт, и далеко не каждый мог похвастать причастностью к этому делу настоящих, сильных и мужественных людей.
Не думал тогда Михаил, что причастность к этому делу через несколько лет сыграет значительную роль в его судьбе.
Как-то отец сказал ему, ещё бывшему тогда школьником:
– Ты родился в восемнадцатом, стало быть, ровесник Красной Армии… Знаешь, что мне заявил фронтовой комиссар, когда узнал о твоём рождении?
– Что буду военным.
– Угадал.
Тогда Миша задумался, но заявил решительно:
– Нет, я мечтаю строить дома, хорошие, большие, светлые, чтобы людям там жилось хорошо и радостно.
Давно это было, а Михаил нет-нет да вспоминал о разговоре, хотя выбрал профессию совершенно, как ему думалось, мирную.
И вдруг в 1939 году, когда он оканчивал второй курс, стало известно, что в их 2-м Московском медицинском институте, самом, казалось бы, мирном учебном заведении, открывается военный факультет.
По-разному восприняли это известие студенты. Время наступало суровое. В Европе набирал силу фашизм, порабощая страны, кое-где осторожно, больше подкупом и обманом, как в Чехословакии, а кое-где и открыто, как в Испании.
Весной 1939 года начался отбор слушателей на военный факультет. Перед студентами, заканчивавшими второй курс, выступали преподаватели. Они не агитировали. Просто разъясняли задачи, которые предстоит решать тем, кто свяжет свою жизнь со службой в Красной Армии.
Студентам рассказали, что военные факультеты образованы не только при 2-м Московском, но и при Харьковском, Саратовском медицинских институтах. Красной Армии нужны были врачи. Те, кто решал перейти на военный факультет, зачислялись в кадры Красной Армии.
– Не такая уж мирная, выходит, у нас профессия, – сказал после одной из бесед Виктор Гостеев. – Ещё Гомер в своей «Илиаде» называл воинов врачей Махаона и Подалирия. Они уже тогда оказывали помощь раненым, – напомнил он.
А рассказал об этом студентам выступавший перед ними военный врач. Поведал он и о зарождении военной медицины в России.
В 1654 году при Аптекарьском приказе* была организована подготовка военных лекарей, а в 1658 году 13 выпускников уже отправились в полки.
Первые сведения о штатных полковых лекарях в русской армии относятся к 1711 году, а в «Уставе воинском 1716 года уже предусматривались в дивизиях должности дивизионных докторов и штаб-лекарей, занимавшихся главным образом хирургией. В полках вводились полковые лекари, в ротах – цирюльники.
Русские военные врачи в XVIII-XIXвеках нередко становились новаторами в делах медицинских. Ведь они по существу шли дорогами, не проторенными.
К примеру, П.З. Кондоиди ** впервые в России разработал план медицинского обеспечения войск, инструкцию для руководящего состава армии, создал первый подвижный походный госпиталь, что позволило резко снизить смертность среди раненых.
В 1793 году штаб-лекарь Е.Т. Белопольский *** составил «Правила медицинским чинам», в которых значительное место было уделено мерам по предупреждению болезней.
По распоряжению Александра Васильевича Суворова эти правила немедленно ввели в действие в подчинённых ему войсках. Ну а затем они стали обязательными для всей русской армии.
Студентам рассказали и о наиболее знаменитых мастерах своего дела, о Николае Ивановиче Пирогов и Николае Ниловиче Бурденко, об участии в совершенствовании военной медицине Сергея Петровича Боткина ****.
В 1855 году Боткин добровольцем поехал в Крым, в действующую армию и в течение трёх месяцев работал ординатором Симферопольского госпиталя под руководством Пирогова. Впоследствии он стал одним из основоположников военно-полевой терапии.
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, будучи врачом штаб-квартиры, занимался совершенствованием организации терапевтической помощи в боевых условиях. Он указывал, что военный врач должен быть не только хирургом, но и терапевтом, умеющим лечить, а главное предупреждать болезни среди личного состава. Он организовал изучение характера заболеваний и заболеваемости во время войны, занимался вопросами противоэпидемической службы, передислокации госпиталей, эвакуации больных и раненых воинов.
Быть военным хирургом, оказывать помощь раненым под огнём врага, как это делал Николай Иванович Пирогов во время знаменитой Севастопольской обороны и в ходе русско-турецкой войны, как Николай Нилович Бурденко, Георгиевский кавалер, участник русско-японской войны 1904-1905 годов и 1-й мировой войны – это ли не ответственно и почётно.
Михаил Гулякин без колебаний решил стать военным медиком и написал впервые уже не заявление, а рапорт с просьбой направить его для дальнейшего обучения на военный факультет 2-го Московского медицинского института.
--__---
* Аптекарьский приказ – высший орган медицинского управления, существовавший в Московском государстве в XVI – XVIIвеках
** Павел Захарович Кондоиди (1710-1760) – русский врач, организатор здравоохранение и военной медицины в России в середине XVIIIвека.
*** Ефим Тимофеевич Белопольский – русский военный врач.
****Сергей Петрович Боткин (1832-1889) – классик русской медицины, выдающийся терапевт, создатель русской школы терапии.
Николай Шахмагонов. Золотой скальпель
Документальная повесть о военном хирурге
Глава первая
Расстрел с Кремлёвской башни

Единственный вариант
Сапёрные лопатки мягко врезались во влажный грунт скатов высоты, привыкших к окопам и траншеям. Не я первый приводил сюда свой мотострелковый взвод на тактические занятия. Окопы осыпались, зарастали. Но вскоре появлялись новые.
Я тоже отрывал себе окоп. Во-первых, соблюдая принцип «делай как я», который давно уже зарекомендовал себя самым надёжным методом воздействия на подчинённых. Во-вторых, вызвал на соревнование весь взвод. В-третьих, за работой легче думается. А подумать мне было над чем. Как говорят, забот – невпроворот. Необходимо было их – заботы эти – выстроить «в колонну по одному» – по ранжиру их важности и неотложности. Предстояло решить: кому из подчинённых и что поручить, кого и когда проверить.
Но это то, что касается службы. Есть и личная забота – найти те самые слова, которые я вот уже год не смею сказать необыкновенной девушке Светлане. Знаю, что слова эти известны и говорены миллионами людей, но вот произнести их самому оказывается так трудно.
Ну почему так просто это выходит у Андрея Звонарёва, моего однокашника по училищу, а теперь и однополчанина, командира второго взвода в одной со мной роте? Его принцип: пришёл, увидел, соблазнил. Ему вообще всё даётся легко… И не только в любви… Переиначивая пословицу относительно карт, он любит повторять: кому в тактике везёт, тому и в любви везёт, ведь любовь нуждается в тактике!
Помню, приехал к нам на тактическую летучку заместитель начальника штаба полка. Дал вводную. Её решили все. Дал вторую – тоже. Тогда – третью, самую заковыристую.
Вот на третьей-то вводной мы все и сели. Тишина и покой вместо леса рук и возбуждённого перешёптывания. И тут тишину эту разорвал задорный голос лейтенанта Звонарёва:
– Разрешите?
Мы стояли в строю на высоте Курганной. Вот на этой самой, где теперь зарывался в землю мой взвод. С высоты пойма реки просматривалась на многие километры. Где-то перед изгибом река мельчала – на карте был обозначен брод. Вот за тем бродом, по вводной, данной заместителем начальника штаба полка, и оборонялся «противник», оборудовав сильный опорный пункт. Он перекрывал наиболее вероятное направление действий наступающих.
Роте, а именно в роли командиров рот действовали тогда мы, недавние выпускники Московского высшего общевойскового командного училища и ещё неоперившиеся взводные, предстояло овладеть опорным пунктом «противника»… Над тем, как это сделать успешнее, мы и ломали головы. А Звонарёв сразу решение нашёл…
– Слушаю вас, товарищ лейтенант, – кивнул заместитель начальника штаба полка.
Звонарёв чётко вышел из строя, раскрыл карту и заговорил уверенно и твёрдо:
– Одним взводом имитирую атаку «в лоб», через брод, а основные силы пускаю в обход справа. Там лес близко подходит к реке… Когда же «противник» догадается, что с фронта лишь имитация действий и начнёт перебрасывать оттуда силы на один из флангов, я ударю по противоположному.
Лицо заместителя начальника штаба полка просветлело.
– Дельно, – сказал он. – Ну, а если «противник» всё же разгадает ваш манёвр?
– Постараюсь сделать так, чтобы не разгадал, – уверенно заявил Звонарёв. – Но есть и ещё один вариант.
Заместитель начальника штаба полка с интересом выслушал лейтенанта Звонарёва и сказал:
– Прекрасно!

А перед посадкой в машину он вдруг подошёл ко мне и спросил:
– Отчего невесел, лейтенант?
– Да вот, гляжу, у иных по нескольку вариантов в запасе всегда имеется, а у меня…
Заместитель начальника штаба полка улыбнулся и заметил:
– Унывать не следует. Вариантов решения задачи у командира может быть много – и это хорошо. Но ведь перед тем, как отдавать боевой приказ, остановиться нужно на одном единственном. Вот в чём секрет успеха. Выбрать из множества один, который ведёт к победе. Зарубите себе на носу, лейтенант, – принял он более официальный тон.
По дороге в город, я снова, причём уже с тревогой, думал о Светлане. Похоже, я совершил непростительную глупость, пригласив её однажды в наш гарнизонный дом офицеров. Там, как нарочно, оказался неотразимый Андрей Звонарёв.
Светлана, разумеется, тут же сразила его своим обаянием. Звонарёв не отходил от нас, сразу позабыв всех своих многочисленных пассий. Несколько раз, несмотря на мои умоляюще-протестующие взгляды, уводил Светочку танцевать. Провожая её домой, я с обидой намекнул, что она слишком много внимания уделяла не мне… А ведь нельзя говорить подобные вещи представительницам прекрасного пола. Светлана заявила, что не считает обязательным сидеть, вцепившись в меня, и что приятель мой – Андрей Звонарёв – довольно забавный парень и к тому же прекрасный танцор.
Я промолчал, но всё душою ощутил холодок.
И вот, сидя в автобусе, я подумал о том, что сегодня на месте нашего со Светланой свидания вполне может, будто бы случайно, оказаться Андрей Звонарёв, который, как мне показалось, очень интересовался, когда и где мы собираемся встретиться. И тогда ведь не отлипнет от нас в течении всего вечера.
Но я ошибся. Звонарёв оказался в скверике даже раньше меня. Когда я прибежал туда, они со Светланой уже сидели на лавочке и о чём-то оживлённо переговаривались.
Заметив меня, Андрей вскочил и, кивнув Светлане, исчез. А наш разговор уже не клеился. Посидели, помолчали… Когда же пошёл её провожать, Светлана с жаром заговорила:
– А всё-таки молодец, твой друг Андрей! Я, конечно, в ваших делах не разбираюсь, но вижу, что из него толк выйдет.
– А я в этом и не сомневаюсь, – признался ей, скрывая досаду.
– А у тебя не получается?! Жаль.., – сказала она сочувственно и тут же спросила: – Может, ты ошибся в выборе профессии?
Ничего нет для мужчины обиднее, чем женская жалость.
«Эх, Андрей, Андрей! Неужели он такое наговорил обо мне… Раззвонил… о том, о чём говорить нечестно», – подумал я, но промолчал.
Мы со Светланой продолжали встречаться, но на какой-то серьёзный разговор о наших отношениях я теперь и подавно отважиться не мог. У меня действительно дела разладились. Когда взвод плохо отстрелялся, сгоряча наказал всех командиров отделений. Потом ещё по мелочам были неприятности. И однажды я признался Светлане:
– Не получается у меня так, как у Звонарёва. Выходит, не всем быть полководцами и военачальниками… Наверное, можно найти в армии и работу попроще…
Светлана в растерянности посмотрела на меня и сказала:
– Но ведь ты так мечтал об этой службе! Впрочем, что я говорю, милый! – воскликнула она обычным смешливым тоном. – Разве я тебя… Разве ты мне понравился своим командирским будущим?
«А чем тогда?» – едва не вырвалось у меня.
Сдержался. Но мысль попроситься на какую-то работу, не связанную с личным составом, с тех пор не покидала меня.
И всё же решил ещё раз проверить себя.
А тут начались ротные тактические учения. По совпадению ли, нет ли, но рота действовала на том самом участке местности, где проводилась летучка. И проверяющим был всё тот же заместитель начальника штаба полка. На одном из этапов учебного боя он дал вводную: «Командир роты ранен». Заменить его приказал лейтенанту Звонарёву.
Тот с необыкновенной гордостью воспринял решение и, не раздумывая, «включил» как говорится, свой вариант.
Боевые машины мчались по просёлку. Вот и развилка. Для имитации атаки с фронта Звонарёв послал только одну машину, приказав её командиру погуще задымить берег, спешить отделение и обозначить действия на широком фронте.
Впереди раскололась тишина на звонкие и раскатистые залпы пушек БМП и разноголосые трели автоматов и пулемётов.
Голос Звонарёва победно звучал в эфире. Он скомандовал:
– К бою!
И тут новая вводная:
– Брод заминирован! – объявил заместитель начальника штаба полка.
И наступила тишина.
– Ваше решение? – задал вопрос проверяющий, торопя Звонарёва.
Тишина.
Андрей Звонарёв лишился возможности провести в жизнь оба заранее продуманных им варианта. Он растерялся. А современный бой не терпит даже минутной растерянности.
«Второй» ранен! – бесстрастно проговорил руководитель занятия – «второй» был позывной Звонарёва.
И вдруг:
– Ротой командовать «третьему»! – отчеканил всё тот же спокойный голос.
«Третий» – это я!
Растерялся ли? Нет. На оценку обстановки – секунды. Мысль работала чётко. Твёрдым голосом приказал:
– Командиры взводом и отделений, ко мне! «Волна», продолжайте имитацию атаки с фронта и наблюдайте за «противником».
Командиры уже собрались, но я молчал, ждал доклада «Волны». И вскоре командир отделения доложил, что «противник» снял часть сил в районе брода и перебрасывает их на фланги.
«Значит, сообразил, что действовать будем с фланга и тыла. – понял я. – Теперь попытается встретить нас в том месте, где Звонарёв собирался переправляться через реку… Вот и отлично, путь встречает…»
– Сержант Вдовин, быстро к «Волне» Вместе отходите вправо от брода, да шумите побольше. Остальные за мной, к броду. Пройдём вплавь чуть левее. Там нас теперь не ждут.
…Мы встретились со Светланой в том же заветном скверике, теперь уже неуютном, с поблекшим кустарником.
– Говорят, тебя можно поздравить! – сказала она, вставая навстречу.
Я даже не стал спрашивать, откуда она всё знает. Заговорил, продолжая старую тему:
– Скажи, Светочка, а если бы Андрей сообщил тебе о том, что я остаюсь неудачником, что снова ошибся и проиграл, ты пришла бы сегодня? Или у тебя, как и у Андрея, есть запасные варианты?
– Нет, милый, успокойся. Ты – мой «единственный вариант». И причём тут Андрей? Он о тебе ничего плохого не говорил, когда мы случайно здесь встретились. Напротив, говорил, что ты отличный парень, хотя и скромный, да мечтательный через чур. Ну а с тех пор я его и вообще не видела.
– Странно, – молвил я и уточнил. – Откуда же ты узнавала о моих неудачах?
От брата. Это он проводил занятия в вашей роте…
--
Николай Константинов
Василь Кузьмичёв. Вольный ветер юности
Василь Кузьмичёв
Вольный ветер юности Рассказ Для начала рассказа всегда необходимо вступление, но то, о чем я хочу рассказать, вряд ли нуждается в каком-то вступлении. Такое происходит так, будто звезды и луна отправили сигналы земным существам, наполнив их энергией и неудержимой страстью.
Уже после этого дурмана, Алексей и на службе и дома, не раз прогонял в из памяти события того вечера, они неуклонно возвращались вновь. ... Слышите ли вы запахи? Чувствуете ли всю полноту и весь спектр переживаний, которые невероятным образом дополняют воспоминания? Какой запах у детства? Как музыка способна дополнить картину и как странно эта картина наполняется скрытыми в памяти деталями? Сейчас, занимаясь достаточно сомнительными хозяйственными делами и наблюдая на лицах своих товарищей среди своих товарищей одинаково задумчивое выражение.
Увольнение прошло и хотя был только понедельник даже суток не прошло с того проишествия, события, вернее даже понять не возможно что это было... И иной раз вспоминать мучительно и больно, а не вспоминать точно умножать свою боль точно добавлять громкости в своём приёмнике... Вот эта улица, вот автобус кряхтя и вздрагивая подкатил к остановке. С криком старости открылись двери, и Алексей вышел на остановку. До дома , где прошло его детство шла широкая дорога, и каждое возвращение домой раньше, маленьким, она казалась нескончаемой. Но теперь от гигантских не объятных тополей по краям обычной деревенской улицы стояли высокие пеньки тополей, покрытые молодой порослью в некотрых местах, словно стыдливо прикрываясь от взглядов прохожих...
Вот он родной двор, вот она скамейка вот тропинка между сараями .... Легкая сырость травы, запах старого дерева будто дымкой окутали всё вокруг, вот то самое дерево и вот... Алексей даже встряхнул головой, но не смог отбросить воспоминания о первом поцелуе... Окна Татьяны соседской девушки выходили прямо на линию старых гаражей, бдительные родители то и дело подходили к окну и всегда что-то спрашивали или говорили ребятам... Конечно молодые люди не обращали внимания ни на что.... Свет из окна освещал только верхнюю часть семейки и страстного, крепкого чрезмерного сплетение рук видно не было. И вот уже всё, пора домой. Минуты полетели стремительно. Вот родители Татьяны ослабили бдительность занялись подготовкой к ужину вот.
Татьяна встала, и её девичий стан, словно берёзка под ветром, прогнулся к нему, легкое платье не смогло скрыть острые бугорки которые рвались точно вершины врываются в небосвод... Вот Алексей чуть наклонился и.... Закурить нет молодой человек?! Голос разорвал картину воспоминания ...Всё рухнуло. Вздрогнув и стыдясь, словно эти воспоминания могли видеть все вокруг, Алексей почти огрызнулся, что не курит, и с удивлением обнаружил что стоит на месте уж несколько минут... От двора детства почти ничего не осталось. Тополя изничтожены, скамейка вросла в землю и накренилась, тропинки заросли травой, гаражи и сараи нагнулись точно нищенки возле церкви. Вместо песочницы стихийная парковка автомобилей. Мельком бросив взгляд на зеленый «Пежо 307», который, как было заметно, аккуратно был припаркован, оставляя возможность для парковки и проезда других автомобилей, Алексей вошёл в подъезд.
Он почувствовал себя Гулливером, и, ему казалось, что ничего не осталось от огромной деревянной лестницы, ведущей на второй этаж. Вместо манящего полумрака, царившего возле двери, татьяниной квартиры горел мертвецким цветом плафон с энергосберегающий лампой.... Алексей спокойно прошёл мимо двери, не опасаясь отца Татьяны, который прежде точно знал, что именно он проходит мимо и распахивая дверь настеж грозил ремнём… – Тронешь дочку! Прибью! Чтоб только после свадьбы и то когда покажешь, что достоин! Поднявшись домой и поздоровавшись с родителями, спешно переоделся, чтобы скорее улизнуть от охов и родительских ласк, и вернуться на улицу. Это был субботний вечер, и безумно хотелось пива...
Хотелось скорее открыть бутылку и затянуться сигаретой... Желание вовсе не вредной привычки, а ощущения свободы... И вот, когда он расположился на скамейке возле дома и сделал первый глоток, хмель ворвался в голову мягкими но цепкими движениями. Снова потянуло к воспоминаниям... – Я и не сразу узнала тебя .... Привет как дела? Шепот знакомого голоса, далёкого родного не реального, словно ото сна пробудили Алесея. Он встал, повернулся внутри защемило грудь... «Как хорошо, что вечер!» – мелькнуло в голове, ведь уши, вечные предатели на всех экзаменах, наверняка вспыхнули огнём и горели даже в темноте... Перед ним стояла он, Танечка. Стояла и улыбалась, стояла прямо перед ним, словно тогда, в тот вечер... – Ты ли это? Звонко спросила она? – Я очень рад, я не ожидал ! Я... – Что, что так изменилась что напугала тебя и лишила дара речи? – Нет!! Ты не поверишь!.. Я вспоминал сейчас... Она не дала договорить, замсыпала вопросами: – Как родители? Как дома? Ты поднимался хоть? А ты не женился часом? – Танюшка!!! – Нет!
Не смей меня так назвать! – ответ и строгий, и мягкий одноврменно опять лишил Алесея речи... Глаза Татьяны сверкали игривыми огоньками. Она смотрела прямо ему в глаза... – Я, нет... Не женился. Причем здесь... Что за допрос ты учинила?! Ты вообще как здесь – я слышал ты уехала! – Уехала. Мы с подругой детей привезли к бабушке! Ау! Новости, одна за другой врезались в сознание Алексея и оставляли в нём уродливые и частые шрамы, которые ранили, хуже алкоголя. Он обернулся. У машины стояла девушка... – Оля сейчас едем! Кстати, ты помнишь это Алексей. Я про него рассказывала! – Да, конечно, помню! Я про него знаю, как мне кажется, больше его самого... Искра надежды вспыхнула и еле теплилась в сознании. – О! Ты немного выпил? Права есть? Мы детей отдали бабушкам и планируем повеселился! Отвезешь нас в клуб? – Ты дашь мне хоть слово сказать? Или спросить хоть ... – Не нуди! Отвезешь или нет? – в звонком голосочке появилась металлическая нотка... Перспектива посещения местного клуба, да ещё с двумя девушками!? –Я?! Не знаю что сказать… – Так, зануда, мы хотим на танцы. Вези, там и поболтаем! – Я за правами! Момент! События развивались быстрее, чем к этому был готов Алексей, но как будущий офицер – он всё время себя так подкалывал – не должен боятся трудностей!
Даже если впереди ситуация с ва-а-ще не понятным раскладом! Влетев в квартиру и сообщив, что едет с Таней на танцы, краем глаза увидел довольное лицо отца и отметил тревожный взгляд матери. Спешно собрался и выскочил на улицу. – Я готов! Хотя, если бы мы прогулялись где... – Нет, танцы только танцы! – Но как же я, да с двумя девушками с замужними... – С одной замужней, – перебила его Ольга. – С одной... Татьяна договорить не дала и резко, на манер команды, сказала по машинам! «Что это? Где я? Что со мной? Почему каждое её действие, слово, её движение, словно врезается в меня... Как я мог тогда расстаться с ней?» – Ты занудничать собрался?! Лицо такое сделал... – Татьяна… Прекратите меня подкалывать! Что там у вас в руках? Шампанское? Так пейте, пейте! Ольга, покажите ей! – Веди ровнее! А то!.. Как поставили машину, как ждали такси… Всё это медленно оттягивало воспоминание о том времени, про которое говорят: гордится есть чем, а рассказать некому нельзя! Возвращались шумно! Компания постепенно распадалась, причём, так же не понятно распадалась, как и собралась в баре!
Ноги гудели от плясок, алкоголь и грохот от музыки в тишине провинциального городка давили на мозг. Незаметно подошли к квартире Ольги. – А у меня есть ананас! – сказала Ольга. – Айда ко мне! Алексей, полуобнимая одной рукой Ольгу, другой крепко сжимая Татьяну, слегка отстранился и объявил, что ещё успеет купить шампанского. – Так и решим! – сказала Ольга. – Мы ждём! И две девушки остановились возле подъеда... Вот и кухня. Вот кусочки ананса плавают в пузырьках шапанского. Голова начинает раскалываться от усталости и выпитого. Ольга стояла спиной к окну и докуривала сигарету. Алексей крепко обнимал Татьяну за плечи .... За окном сгустилась ночь, дом тихонько засыпал... – Я вам постели приготовила, – вдруг, как показалось, виновато сказала Ольга. – Нет, я домой, – возразила Татьяна... – Перестань! – начала Ольга. – Мы ведь собирались ночевать у меня! – Да мне и пастель не нужна. Я на полу могу лечь! – с надеждой сказал Алексей, быстро трезвея. – Разбирайтесь сами. А я в душ... И ольга ушла ... – Как ты? – спросил Алексей. – Норм!
Но только молчи! Не надо сейчас, давай не сейчас, не-на… – но Алексей уже поймал губы Татьяны и поцеловал, крепко обнимая её ... Ответный поцелуй был резок и сладок. Но Татьяна тут же отстранилась, потом запустила руку в шевелюру прижалась и поцелуй словно глоток жаждущего воды путника опьянил их обоих... Шатаясь, Алексей сделал шаг и сел на стул. Татьяна, легко закинув ножку, обняла его и они так крепко сжали друг друга в объятиях, что хрустнули позвонки... –Ты меня сломаешь... – Нет, съем! – спускаясь от губ через шею всё ниже, говорил Алексей... Ответное движение груди будоражило и без того вырывавшуюся плоть ... – Я хочу. Молчи... Ещё поцелуй, и кофточка брошена, ливчик освободил острую девичью грудь,
Алексей сжал девичий стан руками и начал покусывать один за другим соски. Потом, то медленно, то быстрее переключаясь, он пытался орпуститься ниже. Внутри все пылало. Он встал, подняв девушки на руки, и понёс в спальню. – Стой! Нельзя… Оля… – Татьяна высвободилась из объятий. Алексей сценически упал на стул и протянул руки к Татьяне! Ольга вышла из ванны, замотанная в полотенце. – Так... Мебель не громить! Идите в душ! Тем более кое-кто почти готов к водным процедурам, – хихикнула она вскользь, любуясь голым торсом Алексея. – Мне нужно пять минут, – закрываясь, сказала Татьяна, сверкнув глазами на Ольгу и Алексея... Алексей сел на стул и залпом выпил бокал шампанского... – Смотри не вырубись! – Оль, я даже не начинал пить!
Щёлкнул замок в ванной. Алексея встал, оглянулся на Ольгу. Девушка полулежала на диване. Завязанное полотенце, коварно распускалось обнажая острые коленки и поднимаясь все выше и выше. Алексей повернулся к ней, и стал снимать джинсы. Он сложил и посмотрел в глаза Ольге. Ольга не отвела взгляд, лишь села на диван и сложила ноги по турецки. Коварное полотенце поползло вниз. Алексей подхватил его инстинктивно. Ольга вздрогнула, посмотрела на него: – Татьяна ждёт... – Я... Я.... Да что такое.... Вдруг шум воды прекратился... – Есть заколка? – сросила Татьяна. – Ща-ас! – Ольга встала, оказавшись лицом к лицу с Алексеем. Он вдохнул аромат её тела, мягкий и приятный запах геля для душа.
Линия тела от поднятой руки к месту, закрытому полотенцем. Узел ослаб достаточно, удерживаясь на острой девичьей груди, полотенце ниспадало на спину, почти оголяя её, гибкий позвоночник. Две ямочки на спине чуть приоткрылись, и стал виден разрез. – Поправь! – сказала Ольга. Алексей подчинился и отошел уступая дорогу. Душ для него оказался спасением, внизу всё болело, холодные струи освежали. Он никак не мог совладать с окрепшей плотью. Через пару минут вошла татьяна. В глазах её сверкали игривые искры, и в то же время сомнение и неловкость зависли в воздухе. Она смотрела на его плоть, находясь прямо напротив него. Алексей выключил воду и потянулся за полотенцем, которое висело за спиной Татьяны. Она не отстранилась а наоборот прильнула к его плоти... Стон вырвался из его груди... Татьяна не смогла сдержаться и сразу полностью охватила губами, и Алексей увидел как он полностью погрузился в нее, Вздрогнув от такого желанного прикосновения, он вздохнул полной грудью... Внутри словно вспыхнул огонь.
Татьяна не умолимо приближала его к концу, но в то же время хотелось что бы всё это не кончалось... Он с новыми силами начал покрывать Поцелуями, приоткрыл глаза он видел как половые губы будто раскрываются на встречу его языку, он проник внутрь, глубоко как только смог, до боли в мышцах... И тут же почувствовал что там внизу , еще плотнее сжались губы девушки... Он еле сдержался. В этот раз удалось... Слегка приподнявшись, он передвинул Татьяну вперед, а сам остался лежать на спине, что было перед ней он не видел. Татьяна встала на одну ножку, хитро улыбнулась, а потом одним движением, впустила в себя его плоть. Алексей смотрел как происходит движение, и этот момент врезался в память, кружил голову, сжимал грудь, стало тяжко дышать. Татьяна начала движение бёдрами то вперед, то назад, уже не поднимаясь.... Все....терпеть уже не было никаких сил....
В голове мелькнуло множество способов предотвратить конец действия, но спинка, ниспадающие кудри и эти движения.... Все было напрасно... Он резко обнял девушку и опрокинувшись вместе с ней на спину, успев выйти и...тут же теплая струя покрыла пушёк, животик и манящие уголки выступающих косточек... Татьяна издала стон.... А Алексею стало стыдно ....он и минуты не продержался .... И.теперь, что теперь? Ноги ещё сводила сладкая судорога, а плоть лишалась твердости... Татьяна на коленях, будто дикая кошка снова забралась к изголовью дивана проложила голову Алексея себе на колени... , Напротив, у края кровати сидела Ольга, её ноги были раздвинуть широко, Взгляд Алексея застыл между ними...
Внутри Ольги была белая восковая свеча Ольга постепенно освободила её и вставила опять, потом сомкнув колени звонко рассмеялась и опрокинулась на спину, запрокинув ножки вверх. В полумраке не было точно видно но воспалённый разум дорисовал всё, что скрывала темнота, а свеча, словно прожектор направлял его мысли. Он поднял глаза и посмотрел на Татьяну, он пытался прочитать хоть намек, уловить что нибудь... Но тщетно. На её лице была сдержанная улыбка, точно сомнение, или тайна... Она подглаживала его по груди и посматривала на Ольгу... Вдруг, наклонившись и скользнув грудью по лицу Алексея она потрогала смягчавшуюся плоть.... – Ольга иди к нам... Поближе ... Он не опасен сейчас.... Но скоро я его уговорю... Перебравшись на диван, Ольга легла рядом, демонстративно отстранившись от ребят. Легла и повернулась к ним ... Алексей поедал глазами ножки, острые коленки, прокаченный животик с напряженной боковой мышцей... Вот сейчас! Сейчас .... Вдруг Татьяна взяла его руку и положила на диван, ближе к Ольге,
Ольга легла на живот и накрыла руку юноши...потом постепенно начала двигаться вперёд. В этот момент Татьяна перебралась и оседлала Алексея... Пальцы его чувствовали каждую вену и мышцу Оли, и тут она, приподняв ягодицы, двинулась вперед достаточно для того, чтоб накрыть его руку. Алексей вздрогнул. Он осторожно и нежно двигался вверх... Татьяна вновь обхватила его губами, сил смотреть на все это не было, ломило шею голова потяжелела и он запрокинув её назад закрыл глаза... – Вот и готово! – сказала Татьяна. Она снова приподяла одну ножку с тем чтобы был виден сам процесс погружения и, улыбнувшись, впустила в себя лишь верхнюю часть...потом чуть глубже и вновь только верх, потом полностью отпустила его.... Алексей не помнил точно, что он видел, а что его воспалённый разум дорисовывал. Стон сдерживать сил не было он стонал... Ольга двигалась продвигалась, раскрываясь, к его пальцам.
Потом она повернулась встала на колени, подвинулась попочкой ближе к нему... Взяла его руку и впустила в себя два его пальца. Присев от удовольствия, она застонала... Алексей почувствовал как внутри Ольги все сжалось его пальцы были глубоко и хотелось двинутся ещё и ещё глубже, но Ольга всё сильнее и сильнее прижимала его руку к дивану, движения её стали резкими она почти села на руку Алексея, обняв себя за грудь. Алексею казалось он сходит с ума, ему хотелось целовать Ольгу, схватить её посадить над собой.... Хотелось...... В этот момент Татьяна полностью впустила его в себя и перестала двигаться ... Всё словно пошло кругом, словно туман окутал полумрак комнаты... Ольга резко отстранилась бросилась на спину, руки её скользнули вниз, она начала ласкать себя, поджала ножи к груди, замерла.... И заметалась на диване.... Её движения становились медленнее, но были прекрасными и страшно возбуждающими... Внутри у Алексея всё напряглось. Он словно пружина вскочил, и Татьяна оказалась у него на руках... Не отрываясь от девушки он провернул и поставил её на коленки на диван... Ольга повернулась на бок и наблюдала со стороны.... Татьяна застонала, выгнула спину и так широко раздвинула ноги что алексей вошёл ещё глубже....
Она билась головой по подушкам, то и дело двигаясь к Алексею всё резче и резче и вот ещё раз она привстала, схватила одной рукой его ягодицы и прижимала юношу несколько секунд к себе, потом издала стон и рухнула на кровать.... Алексей накрыл её сверху, но долго продержаться ему не удалось. Словно угодав момент, Ольга подсунула ему в руку маленькое полотенце.... Встало солнце... Первые лучи, осветив верхушки деревьев, стыдливо заглянули в комнату... На диване лежали измотанные, но со сладострастным выражением лица Алексей, крепко обнимавший Татьяну со спины, и всё так же отстранившаяся и подтянувшая ножки к груди Ольга...
Так кто же Иван Грозный?
Тиран или Царь Великий?
Наступил день главного экзамена – история была профилирующей при поступлении на избранный Наташей факультет.
Утро выдалось солнечным, ясным. Но было ещё прохладно, когда девушек пригласили в аудиторию. Порядок экзамена был своеобразен. В аудиторию запустили всех, но попросили сесть подальше от экзаменаторов. Места внизу, перед экзаменаторским столом, занимали те, кто уже брал билеты и шёл готовиться к ответу.
Наташа вызвалась в числе первых. Не хотелось сидеть и дрожать от волнения. Взяла билет… Назвала номер.
– Прочтите и скажите, всё ли понятно, – сказал мужчина в рясе, с редкой бородкой и лоснящимся лицом, словно его вымазали салом.

Наташа быстро пробежала глазами по вопросам. Их было три.
Первый: Святой благоверный князь Андрей Боголюбский – первый Православный Государь. Наташе понравилось, как поставлен вопрос. Именно так называл Великого Князя Андрея Юрьевича её отец, профессор кафедры истории технического ВУЗа. Наташа хорошо знала тему. Она читала не только рекомендованную литературу по истории, но и ту, что находила в домашней библиотеке.
Второй вопрос: Иоанн Грозный и Опричнина. В билете слово «опричнина» была написано с маленькой буквы. Вопрос был поставлен так, что не давал понять, каково официальное отношение на кафедре истории, да и вообще в институте к этому Русскому Царю. Наташа знала, что имя Царя и его правление вызывают много споров.
Вопрос был знаком, правда, как отвечать на него, Наташа не знала. Знаком же потому, что на направление изучения истории в техническом ВУЗе, где преподавал отец, такого внимание руководство не обращало. Потому у преподавателей было больше свободы.
Но как отвечать здесь? Наташа понимала, что надо уловить точку зрения экзаменаторов. Это было неприятно, но что делать. Фактор людской. Спросила:
– Что нужно готовить по второму вопросу? Как показывать Ивана Грозного?

Экзаменатор с лоснящимся лицом с раздражением сказал:
– Показывать, как есть… Если перекинете мостик от тирании Ивана Грозного к тирании Сталина, вам будет только плюс.
– Андрей Вячеславович, – неожиданно заговорила сидевшая рядом женщина. – Не стоило бы так настраивать экзаменуемую. Она должна показать не только свои знания, но и умение мыслить нестандартно, стремление выйти за рамки учебников.
– Вы не правы, Татьяна Леонидовна, – возразил мужчина в рясе. – Экзаменуемая должна следовать тому направлению, которое приоритетно в нашем институте.
– То есть вашему мнению? – с иронией переспросила женщина. – Но мнение историка не всегда может совпадать с мнением коллег, а тем паче с Истиной. Но давайте не будем спорить. Что у вас, девушка, в третьем вопросе? – обратилась она к Наташе.
– Русская Православная Церковь в годы правления Екатерины Великой, – прочитала Наташа. – Здесь мне всё ясно.
– Берите листки со штампами и садитесь, готовьтесь, – раздражённо буркнул мужчина.
Наташа прошла на второй ряд, села, отстегнула доску для письма, и положила на неё билет и листки, взятые с экзаменационного стола.
Когда подошла очередь отвечать, Наташа села напротив экзаменатора, которого женщина с приветливым лицом называла Андреем Вячеславовичем.
– Ну-сс! Слушаю вас внимательно, – сказал он.
– Первый вопрос, – начала Наташа, – «Святой благоверный князь Андрей Боголюбский – первый Православный Государь».
Она сделала короткую паузу, собираясь с мыслями, и заговорила, иногда поглядывая в листок, в котором написала тезисы своего ответа на вопрос.
– Русская Православная Церковь почитает Андрея Боголюбского, как основателя самой идеи Православного Самодержавия. Почему же его называют первым Государем и основателем идеи самого справедливого из всех нам известных государственного строя? Ведь официально он именовался Великим Князем. Именно деяния этого князя – внука знаменитого Владимира Мономаха и сына не менее знаменитого Юрия Долгорукова – привели к созданию на Руси Православного Самодержавия. Эта власть явилась взамен великокняжеской власти, которая постепенно утрачивала свою силу и показала себя неспособной искоренить междоусобицы.
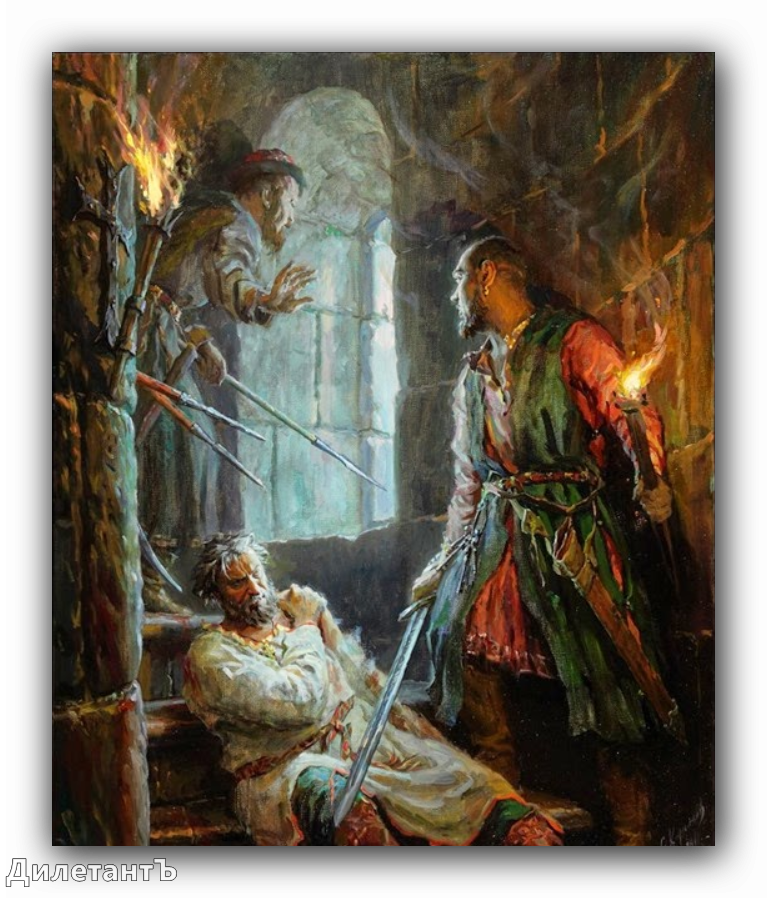
– В чём же отличие великокняжеской власти от самодержавной? – вопросом перебил Наташа экзаменатор.
– Я обо всём скажу, – ответила Наташа, – не перебивайте меня, пожалуйста.
Она ощущала неприязнь к экзаменатору и чувствовала, что неприязнь эта взаимна. Мелькнула мысль: «Ведь специально будет заваливать? Постаралась продолжить как можно спокойнее. Кратко коснулась зарождения и эволюции государственной власти на Руси, затем рассказала о том, как Андрей Боголюбский, посаженный своим отцом княжить в Вышгороде, самовольно уехал в родной для него Суздальский край. Экзаменатор слушал внимательно, не перебивал, но Наташе казалось, что не сходит с его лица усмешка. Она ждала подвоха, но подвоха не было, и она постепенно стала успокаиваться.
Наконец, она добралась до весьма серьёзного момента…
– Князь Андрей Юрьевич направлялся в Ростов Великий, где и собирался княжить. Вёз он с собой икону Божией Матери, которую взял из храма Вышгородского девичьего монастыря. Эта икона была, по преданию, писана евангелистом Лукой на доске стола, за которым трапезовали Божия Матерь со своим Сыном. Лука преподнёс её Божией Матери, и Та пророчески заявила: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать рождшегося от Меня и Моя с этою иконою да будут всегда».
Наташа заметила, что Татьяна Леонидовна, принимая экзамен у какой-то девушки, одновременно прислушивается именно к её – Наташиному – ответу. Это придало силы, поскольку она интуитивно чувствовала поддержку единомышленницы.
– Слова Матери Божией сбылись… После распятия Христа благодать ушла из Иерусалима, и икона тоже покинула город.
– Как это покинула? – спросил экзаменатор. – Сама ушла?
– Разумеется, её перенесли люди. И перенесли в Константинополь. Но и там святая икона не задержалась долго. Благодать покидала Византию, потому что, исповедуя Христа в храмах, византийцы постепенно в делах своих становились безбожниками. Люди исполняют предначертания Сил Небесных. Константинопольский патриарх отправил икону в подарок Юрию Долгорукому, когда тот сел на очень важный и значительный Киевский великокняжеский стол. Юрий Долгорукий поставил икону в храм Вышгородского девичьего монастыря.
И тут экзаменатор снова перебил:
– Скажите мне, пожалуйста, Вышгородский монастырь был мужским или женским?
Наташа растерялась. Татьяна Леонидовна неожиданно вмешалась, сказав:
– Андрей Вячеславович, зачем вы задаёте сбивающие с толку вопросы?
Наташа, подбодренная поддержкой, оправилась и ответила:
– Так девичий же монастырь. Я же говорила… Ясно, что женский, а не мужской.
Потом она уже узнала, что вот такой нелепый вопрос частенько ставил в неловкое положение экзаменуемых. Игра слов – монастырь девичий, а спрашивают женский ли…

– Сама Пресвятая Богородица через иконописный образ свой – кстати, первый иконописный образ – подсказала князю Андрею Юрьевичу решение отправиться в родной ему Суздальский край. Князю докладывали, что с иконой происходят чудеса, что она сама меняет положение в киоте и оказывает ликом своим на север. Князь понял, что должен ехать. И вот на развилке Владимирской и Суздальской дорог лошади, которые везли икону, встали. Князь приказал заменить лошадей, но не пошли и вновь впряжённые. Тогда он понял, что дело не в лошадях, а в самой иконе, и, чтобы услышать волю Царицы Небесной, он приказал перенести икону в шатёр и начал молебен. После полуночи он отпустил всех спать, а сам продолжил молитву в уединении. И вдруг, как он рассказывал потом, шатёр озарился ярчайшим неземным светом и перед ним предстала Сама Царица Небесная во всём своём блеске. В руке она держала свиток рукописи. Всё это навечно отпечаталось в памяти князя. Он замер и услышал: «Не хочу, чтобы ты нёс Мой образ в Ростов. Поставь Его во Владимире, а на месте сём построй церковь каменную Рождества Моего и устрой обитель инокам». Произнеся эти слова, Царица Небесная воздела руки, как бы принимая благословения Сына своего Христа, и в следующую минуту видения исчезло.
– Ну а причём здесь Православное Самодержавие? – спросил экзаменатор. – И вообще, где вы начитались всех этих глупостей? Какие явления и откровения?
Наташа не решилась вступить в спор и продолжила, надеясь как бы заговорить эти замечания другими рассказами:
– Князь Андрей Боголюбский создал центр русских земель именно во Владимире. Там он построил великолепный Успенский собор, в который и поставил икону, богато украсив её драгоценностями. На месте Явления и Откровения Пресвятой Богородицы, которое состоялось 17 июля 1157 года, были построены церковь Рождества Пресвятой Богородицы и монастырь, а возникшее вокруг селение получило название Боголюбово. Князь заказал Боголюбскую икону Божьей Матери, которая была написана с его слов и отразила то замечательное явление… Нашёл своё отражение на иконе и свиток рукописи. Он не материализовался при Откровении, но буквально с первых дней своего княжения во Владимире Боголюбский стал вести себя так, словно им управляли какие-то Силы Небесные. Он ломал и крушил старые порядки, устанавливая новые, поистине самодержавные. Он показывал, что власть в нём самом, что он подотчётен только Богу и перед Богом отвечает за свои деяния. Вот вам и пример, когда Царица Небесная вложила в сознание князя всё то, что он должен делать во имя родной земли и своего народа.
Далее Наташа коснулась теории Самодержавия, рассказала о том, как благодаря новой структуре власти, на Руси прекратились междоусобицы, как сначала Киев, а затем и Новгород встали под Великокняжеский скипетр князя Андрея Юрьевича. И плавно перешла к следующему вопросу, который уже касался Иоанна Грозного.
Экзаменатор хотел что-то сказать по первому вопросу. Наташа заметила это, а потому ещё более ускорила переход к следующей теме. Она предполагала, что могла услышать. Ведь даже среди людей в рясах не так много осталось тех, кто верил в Жития Святых. И именно из этой книги она почерпнула знания. Для экзаменатора, как ей казалось, ответ звучал, как какая-то сказка.
– Итак, вы перешли ко второму вопросу? Что ж, что по первому вопросу особых замечаний нет. Посмотрим, что вы скажете о Царе-тиране…
Татьяна Леонидовна повернулась к экзаменатору Наташи, хотела что-то сказать, но сдержалась. Наташа поняла, чем недовольна та женщина – в реплике экзаменатора чувствовалась подсказка, как отвечать. Видимо, очень ему хотелось, чтобы Наташин ответ соответствовал его взглядам на Царя. Но у неё было своё сложившееся мнение, которое она собиралась отстаивать, чего бы это ни стоило. Она вдруг почувствовала необыкновенное спокойствие и уверенность в своей правоте, словно сам Великий Государь пришёл к ней на помощь. Начала ответ твердо и хладнокровно:
– Если святой благоверный князь Андрей Боголюбский является основателем идеи Православного Русского Самодержавия, то Царь Иоанн Васильевич Четвёртый Грозный по праву считается не только продолжателем его дела, но и Государем, который творчески развил теорию этого самого справедливого в истории государственного устройства и практически осуществил в идеале его внедрение в русскую жизнь.
Экзаменатор откинулся на спинку кресла и даже поднял вверх руку, словно загораживаясь от какой-то невидимой силы, обрушившейся на него вместе со словами этой обнаглевшей, на его взгляд, абитуриентки. Прежде всё бывало по-иному. Экзаменуемые быстро улавливали то, что нужно экзаменатору и старались угодить своим ответом. Ведь цена вопроса – поступление в институт. Многие, даже зная правду об истории, стремились придерживаться официальной трактовки, поскольку она обеспечивала хорошую оценку. А получить хорошую оценку по истории, когда многие основные постулаты были пересмотрены, стало не так просто.

Сила Державная
Наташа вполне могла ответить по учебникам, в которых до сей поры, несмотря на сделанные открытия и доказательства, содержались сведения, давно устаревшие.
В первые минуты ответа экзаменатор не смог даже возразить, хотя по всему его виду было понятно, что он не только не разделяет мнение абитуриентки, но возмущён её ответом.
А она, между тем, рассказывала о тех оценках, которые были даны царствованию Иоанна Грозного многими выдающимися деятелями, в том числе и Русской Православной церкви. Она цитировала по памяти святителя Иоанна Ладожского, погибшего при странных обстоятельствах. Немало публикаций в печати было посвящено доказательствам его отравления. Впрочем, Наташа знала, что далеко не все иерархи церкви разделяют мнение отца Иоанна. Многие подстраиваются к хору клеветников.
Наконец, экзаменатор перебил абитуриентку:
– Вы не отвечаете на вопрос по билету, вы даёте характеристику Царю, причём характеристику совершенно ошибочную.
– Почему же ошибочную? – спросила Наташа, постепенно теряя выдержку, – Иоанн Грозный один из величайших Государей. Муж чудного разумения, как именовали его современники.
– Он тиран и кровопийца! – вскричал экзаменатор.
Наташа не раз слышала от отца, что враги Русской Православной церкви и России с особой яростью набрасываются на тех, кто пытается реабилитировать в истории имена лучших Государей Руси. И набрасываются с такой одержимостью, словно в них вселяются бесы… И тогда она ответила, хотя понимала, что за это может получить двойку.
– Во-первых, я хочу напомнить: Святитель Дмитрий Ростовский прямо указывал, что хула на Царя – Помазанника Божьего есть хула на Господа. Он писал: «Как человек по душе своей есть образ и подобие Божие, так и Христос Господень помазанник Божий, по своему Царскому сану есть образ и подобие Христа Господа. Христос Господь первенствует на Небесах, в церкви торжествующей, Христос же Господень по благости и милости Христа Небесного предводительствует на земле в Церкви Воинствующей». Святитель пояснил, что Православный Царь есть живой образ Господа и предводитель Воинствующей Церкви. Это положение касается только Православного Царя, законодательно закрепляя его священную миссию. Недаром только Православный Государь именуется Помазанником Божиим. Тем более, что греческое «Христос» в переводе на еврейский – Мессия, а на Русский – Помазанник Божий.
Наташа заметила, что Татьяна Леонидовна, отпустив очередную экзаменуемую, не спешит приглашать следующую. Делая вид, что перебирает какие-то бумаги, она внимательно прислушивается к ответу.
– Вы не ответили на вопрос, поставленный в билете. Вам минус. Переходите к третьему вопросу…
– Отчего же, – возразила Наташа. – Я отвечу… Государев свет Опричнина была создана Иоанном Грозным для очищения Святой Руси от скверны, от ереси, от предательства веры. Иоанн Грозный твёрдо стоял в вере Православной, но он одним из первых поднял значение других вероисповеданий на Русской Земле. К примеру, завоевав Казанское царство, он построил там четыреста мечетей. А когда уходил в Опричнину, оставил за себя не кого-то из русских, а татарского царевича Бекбулатовича. Этим он доказал не только веротерпимость, но и уважение к другим религиям. И только католицизму не было места на Русской земле, поскольку это не вера, это формальное христианство, ничего общего не имеющее с учением Христа. Добро на Опричнину дал Иоанну Грозному Земский Собор. Введение Земских Соборов, между прочим, было прогрессивным шагом. Оно позволяло призвать к управлению государством широкие народные массы. Да, Царь считал себя Самодержавным правителем, ответственным за деяния свои перед Всевышним. Но бывали моменты, когда он считал необходимым посоветовать с представителями народа. И вот представители народа одобрили Опричнину, а отбирали в опричники самых лучших из лучших людей государства, ибо опричникам давалась большая власть, и доверить распоряжение этой властью можно было не всякому.
– Вы несёте чушь, отсебятину, – сурово заявил экзаменатор. – Тиран создал организацию кровожадных исполнителей его воли…
– Вы меня извините, пожалуйста, но все, кто клеветал на Иоанна Грозного были наказаны мистически… Остереглись бы, господин преподаватель.
– Что?
– Вот примеры… Историк из города Ханты-Мансийска Сергей Козлов указывает, что среди актёров бытует легенда: всякий, кто сыграл в отрицательном понимании Грозного, сыграл его как истеричного садиста, заболевает или скоропостижно умирает. Роль считается роковой. Легенда легендой, но факт остаётся фактом. Сергей Эйзенштейн умер от инфаркта во время съёмок третьей серии; Николай Черкасов попал в автокатастрофу, но остался жить (возможно, для того, чтобы сыграть впоследствии Александра Невского); на сцене МХАТа умер во время спектакля прямо в царском облачении Николай Хмелёв; скончался на съёмках фильма «Ермак» игравший Иоанна IV Евгений Евстигнеев; Александра Михайлова увезли со сцены Малого театра… Именно он написал о своих «впечатлениях» после такой встречи с Царём и стал верующим человеком. Примечательно, что русский певец Игорь Тальков отказался сниматься в фильме «Князь Серебряный», когда понял, что из Грозного опять лепят садиста. Фильм доводили без него. И ещё историк написал, что прошедший недавно по телеканалу «Россия» фильм «Иоанн Грозный» (о нём, кстати, очень резко отозвался в газете историк из Иркутска Артём Ермаков) поразил меня в первую очередь усилением привычных штампов. Люди, которые мнят себя элитой нынешнего государства, попытались сделать «невинными ягнятами» боярскую верхушку – элиту того времени. Хотя каждый историк знает о подлой роли основной части боярской верхушки. Заговоры и покушения на великих князей ради своих корыстных и узколобых интересов – вот основная деятельность вотчинников. Иван Грозный знал об этом не только из истории со времён убитого Андрея Боголюбского, но и из собственного детства, когда родовитые феодалы не только на его глазах резали друг друга, но всячески унижали достоинство Великого Князя. Среди них встречались отмеченные Богом военачальники и государственные деятели. К примеру, воевода Дмитрия Донского – Дмитрий Иванович Волынский-Боброк или Михаил Иванович Воротынский, который разбил орды Девлет-Гирея у села Молодь. Но основная масса была похожа на нынешнюю элиту – хапнуть, дать хапнуть родственникам, отложить внукам, а общенародные, общегосударственные интересы в третью или в четвёртую очередь, если до них вообще очередь доходила. И уже совсем недавно ушёл из жизни во время хулительного фильма «Царь» Олег Янковский, который играл, якобы, убиенного Иоанном Грозным Митрополита Филиппа. Между тем, как мы увидим далее, документы свидетельствуют об обратном – митрополит Филипп жестоко умерщвлён именно врагами Государя. Мы ещё остановимся на том воздаянии, которое получили первейшие из клеветников – такие как Карамзин, Репин. И на наших глазах свершается, и будет свершаться справедливое возмездие, ибо Бог поругаем не бывает. Твёрдо, сурово, предостерегающе звучат Его предупреждения: «И ненавидящим воздам!
Лицо экзаменатора побагровело. Он стукнул кулаком по столу и выкрикнул истерично:
– Вон, вон из аудитории. Слушать далее не желаю. Где вы начитались такой ереси?
Наташа встала и смело взглянула в лицо экзаменатора. И тут же услышала голос женщины, принимавшей экзамены рядом. Место перед её столом оставалось до сих пор свободным.
– Девочка, садитесь ко мне… Слышите, садитесь ко мне. Я приму у вас экзамен…
– Вы что? Вы что, Татьяна Леонидовна… Вы… Я пойду к ректору. Вы подрываете авторитет преподавателя перед студентами…
Он с шумом встал и покинул аудиторию.
Наташа понимала, что произошло что-то из ряда вон выходящее, понимала, что шансы её поступить в институт висели на волоске, но она не могла кривить душой, ведь речь шла о благоверном Царе, память о котором постоянно стремились очернить тёмные силы.
Но всё обернулось неожиданно удачно для неё. Женщина, которая взялась принять у неё экзамен, была доброжелательна и в отличие от экзаменатора с сальным лицом, реденькой сальной бородкой и маленькими заплывшими глазками не только не сбивала с толку, а напротив, старалась как-то расположить к хорошему ответу.
Наташа рассказала всё, что знала об Опричнине…
– Истоки Опричнины надо искать в начале второй половины шестнадцатого века, – начала она. – В середине сентября 1563 Митрополит Московский Макарий совершал крестный ход, во время которого сильно простудился и серьёзно заболел. А ведь именно Митрополит Макарий являлся духовным наставником Царя. Твердость его в отстаивании интересов Державы была общеизвестна. Никто как святитель Макарий не мог остановить своевольства бояр, покушавшихся на единство и благоденствия Руси и живших в угоду своим личным «многомятежным человеческим хотениям». И никто другой как он понимал, что бояре не смирятся с потерей своей власти, отбираемой у них Грозным Царём, что обезумевшие от страсти к богатствам они пойдут на любые ухищрения, на измену и предательство. И вот, когда 31 декабря 1563 года Митрополит Макарий отошёл в мир иной, Царь Иоанн Васильевич Грозный остался один против своры бояр-мироедов, сплошь ориентированной на Запад. Немного было у Царя соратников среди знати. Но зато соратником Царя был весь трудовой Русский Народ, искренне полюбивший своего Государя за честность и справедливость и чувствовавший в нём своего единственного заступника.
Наташа сделала паузу и посмотрела на Татьяну Леонидовну. Та слушала внимательно. Кивком головы она как бы подбодрила экзаменуемую. Наташа продолжила:
– После смерти митрополита Макария, крамольному боярству удалось протащить на митрополичий престол «своего» человека – митрополита Афанасия. Тот с первых дней своего избрания сделался лёгкой игрушкой в руках врагов Царя и всего Московского Государства. Вертикаль власти надломилась, и даже воеводы стали перечить Царю, осмеливаясь, порой, выходить из повиновения. Возобновились междоусобными раздоры. Оценив сложившуюся обстановку и осознав, что одному ему не справиться с нарастающей смутой, Царь Иоанн Васильевич принял решение оставить правление. Царь понимал, что один на один с крамольным боярством, без помощи народа, он не сможет защитить Русскую Землю от расхищения. В начале декабря 1564 года Царская семья стала готовиться к отъезду из Москвы. Царь много времени проводил в молитвах, ежедневно выезжая в один из монастырей. Он выстаивал часами, прося Всемогущего Бога помиловать Землю Русскую. Воскресенье 3 декабря после молебна в Успенском соборе, Царь простился с митрополитом и боярской думой. Затем санный поезд с царской семьей и с наиболее приближёнными к Царю людьми покинул землю. Бояре, не ожидавшие такого поворота дел, поначалу даже порадовались, что наступило время вольницы – грабь не хочу. Но они забыли о народе, забыли о Православном и Самодержавном духе людей, о том, что, кроме шайки богатеев, утратившей веру, долг и честь, в России есть ещё и те, кто созидал Державу свои руками. Бояре забыли о тех, кто, если было нужно, умели сменить соху, лопату, кирку или строительный мастерок на пику, лук или пищаль. В народе началось брожение. Народ недоумевал, почему Царь покинул Кремль. Наконец, пришло первое сообщение из Александровской Слободы, в котором Царь извещал митрополита и бояр о том, что он решил поселиться там, где Бог его наставит. В Москве наступило гнетущее затишье, словно перед грозной бурей. У многих бояр мороз пробегал по коже, когда они видели насупленные взгляды из-под бровей, из- под низко надвинутых шапок. Народ смотрел на своих притеснителей угрюмо и зло, и что более всего пугало бояр – без страха. Чего уж страшнее теперь, если Царь – Помазанник Божий – оставил Трон?! И действительно, 3 января 1565 года Царь Иоанн Грозный официально отрёкся от престола. В грамоте, присланной в Москву, он объяснил, что не может править в сложившейся обстановке и уходит с престола из-за постоянных измен бояр и воевод, радеющих лишь о своих «многомятежных человеческих хотениях». Догадки народных масс подтвердились – повинны в том, что Царь оставил престол бояре. А ведь некоторые из них на первых порах готовы были принять отречение Государя, и уже думали, как распорядиться своей свободой. Но поспешили они радоваться. Народ валом повалил в Кремль, огромная толпа собралась на площади в Московском Кремле. Вот когда боярам стало по-настоящему страшно, вот когда охватил их животный ужас. Вот когда вспомнился «беспощадный бунт» 1547 года. Сколько тогда было перебито бояр-мироедов! Члены боярской думы покинули дворцовые палаты и попытались укрыться митрополичьем покое. Там они открыли заседание, на котором предстояло решить, что же делать? Но не успели и слова вымолвить, как донёсся до их слуха гневный рокот толпы, окружившей их пристанище, ставшее вертепом измены и предательства. Народ требовал, чтобы были выслушаны его представители. Пришлось боярам впустить в покои депутацию представителей купечества и ремесленников и дать слово, которое прозвучало, как ультиматум. В заявлении говорилось, что Русский Народ остаётся верным присяге Государю и будет просить его, что бы он Царство не оставлял и подданных своих на расхищенье шакальей стае врагов не давал. В заявлении прозвучало предупреждение, что посадские люди не встанут за тех, кто предал Царя, что готовы сами расправиться с изменниками. Бояре поняли, что живым им из митрополичьего покоя не выйти. Депутатам объявили, что к Царю немедленно направится делегации духовенства и боярской думы. Пообещали взять с собой и представителей народа. Действительно, на исходе 3 января 1565 года, когда уже совсем стемнело, из Кремля вышел митрополит, за которым следовали, воровски озираясь, бояре. Все они направились к Царю, причём следом, словно не веря шакалам-изменникам, следовали представители народа – купцы, ремесленники, словом, депутация от посадских людей. Пока делегация шла к Царю, в Москве соблюдался порядок, но все бояре понимали, что он зыбок, что народ просто не решается гневить Царя, но если Царь на престол не вернётся, вспыхнет настоящий бунт, бунт, который в своё время метко охарактеризовал А.С. Пушкин «беспощадным». Заносчивые, самолюбивые бояре вынуждены были смирить свою гордыню и обратиться к Царю с просьбой «вернуться на престол и править страной так, как он считает нужным». 2 февраля 1565 года Иоанн Грозный торжественно возвратился в стольный град Москву. Сразу же по возвращении в Москву Царь издал Указ об Опричнине.
– А почему всё-таки Опричнина? – задала вопрос Татьяна Леонидовна, чувствуя, что экзаменуемая настолько увлеклась рассказом, что стала забывать необходимые атрибуты ответа.
Наташа ответила уверенно:
– Опричниной именовалась в то время, какая либо земля, изъятая из обычного обихода. Этот участок как бы выводился из закона мира сего и на нём учреждался особый, неотмирный указ, именуемый иначе Опричным, то есть опричь, вне мира. Закон же, властвующий на этом участке был исключительно Божьим. Исполнителем этого закона являлся сам Помазанник Божий. Народ же именовал Опричнину, как Государева Светлость. Создано немало сказаний и былин, с которыми не могут равняться сказания ни об одном князе, ни об одном Царе. Опричный указ при Иоанне Грозном действовал следующим образом. Царём вместе с Опричной думой избирались какая-то волость или уезд, которые изымались из обычного земельного оборота и земского управления. На территории этого участка выбирался монастырь, который также переходил в состав Опричнины, как перешёл Симонов монастырь в Москве. И там поселялся Царь со своей Опричной дружиной. Устав у Опричников был очень суровым, почти монашеским. Никто из Опричников во время похода не брал с собой жены, тем более не прикасался к чужим жёнам. Ежедневно в четыре часа утра начиналась заутреня. Царь вставал первым. Вместе с сыновьями взбирался на колокольню и созывал звоном Опричников к Богослужению. Вместе с Царевичами Царь пел на клиросе. Опричники выполняли различные церковные послушания. Малюта Скуратов, к примеру, был пономарём. Служба продолжалась до десятого часа. Царь считал, что, прежде всего, нужно укрепить дух в избранной им волости. Духовенство было недовольно тем, что Царь вмешивается в область его деяний. Монашеский подвиг Опричников заставлял духовенство подтянуться, критичнее взглянуть на свои поступки, что очень не нравилось. Но самым страшным для духовенства было то, что простые люди ставили в укор отклонения от Божьей жизни и ставили в пример Царя с Опричной дружиной. Митрополит Афанасий в знак протеста сложил самовольно с себя сан. 19 мая, во время очередного выезда Царя, он, сославшись на болезни, удалился в Чудов монастырь, тем самым, желая поставить Державу на грань смуты. И тогда Царь обратился к игумену Соловецкого монастыря Филиппу. Ему был необходим соратник и сподвижник, подобный митрополиту Макарию, который бы помогал в борьбе за укрепление Московской Руси. Игумен Филипп дал своё согласие. Житие Святителя Филиппа отмечает, что тот во всем старался подражать митрополиту Макарию. 29 июля 1556 года состоялось посвящение святителя Филиппа митрополитом Московским и всея Руси. При своём посвящении митрополит обещал, что духовенство более не будет вмешиваться в дела Опричнины и мешать Царю. Напротив митрополит благословил Царя на продолжение Опричнины. И дал ему право именоваться Игуменом Опричных Земель. Этим своим указом только что поставленный митрополит подписал себе смертный приговор. Духовенство ополчилось на такого митрополита. Он пробыл на кафедре около двух лет. Заговорщики, злоумышлявшие против него всё это время, сумели всё-таки добиться своей цели. Итак Иоанн Грозный разделил Русскую Землю на два указа – один принадлежал Земщине и жил по обычным мирским законам, другой – Опричнине и жил по законам духовным. Все города и волости за немногим исключением поочерёдно изымались из Земского указа и на время передавались Опричнине. После духовной чистки они возвращались в Земский указ. Царь перебирал всю Землю Российскую, учреждая на ней дух Православия, Соборности и Истины. Сам он называл это «перебором людей». Сама непрестанная молитва Опричников открывала им врагов Божьих, которые либо возвращались к вере, либо судились по Законам Божьим. Сохранились документы, демонстрирующие масштабы грандиозной духовной работы, проведённой Царём. В 1565 году в Опричнину были взяты Ростовский и Ярославский уезды. Бояре же и дворяне областей были отправлены на службу в Казань сроком на один год. 1мая 1566 года все они были возвращены. Никто из них не пострадал, все они получили обратно земли и вернулись в Земский указ. В Казани же они не имели никаких ограничений, а напротив, получили звания, должности и право править по Государеву указу. Грозный Царь передал управление Казанским краем в руки опальных, которые сами должны были заниматься распределением казанских поместий. Где бы Царь не водворялся с Опричниной, везде он жил по монастырскому указу. Если в Опричном городе или волости не было монастыря, Царь со своими дружинниками строил монастырь. Простые служилые люди мечтали и просили, чтобы их края оказались в ведении Опричнины. Даже иностранные купцы просили о том же. Так представители английской торговой компании официально обращались к Великому Государю Царю Иоанну чтобы земли, где находились их предприятия, были взяты в Опричный указ. Недовольство вылилось в заговор, который на сей раз составило духовенство. Дворяне же и бояре за немногим исключением смирились. Ведь если они что-то и теряли, то получали возможность продвигаться по Государевой службе. Сложился класс служилых дворян. Духовенство тоже передавало свои волости в Опричный указ, но жить там духовенству было тягостно, ибо Царь требовал, если не монашеского, то евангельского жительства, что священнослужителям не нравилось. Они лишались своих богатых доходов. Взамен имели всё необходимое и славу Отца Небесного, а этого нечестивым архиереям было мало. Если боярин, лишившись полновластия в своей волости, мог заменить это честью и славой служения Царю Земному, то священник должен был довольствоваться служением и славой Отца Небесного. Иерархам это было не по дуще. Во главе заговора встал епископ Новгородский Пимен. К нему примкнули Пафнутий, епископ Суздальский, Филофей Рязанский и Благовещенский протопоп Евстафий, опасавшийся своего места при дворе. Ненависть к Опричнине среди бояр-изменников, передалась через поколение историкам, относящимся к так называемой пятой колонне, к историкам, очерняющим великое прошлое России и люто ненавидящим Россию и Русский Народ, историкам, ратующим за то, чтобы Отечество наше превратилось в сырьевой придаток Запада. Среди них есть более агрессивные или менее агрессивные, есть те, кто умом своим не способен был оценить величие свершений Иоанна Грозно, но есть и такие, кто намеренно лгал и клеветал, встав на путь жестокой информационной войны против Дома Пресвятой Богородицы.
Ответ явно затягивался, но Татьяна Леонидовна не перебивала и не останавливала экзаменуемую.
А та по-настоящему увлеклась:
– Опричников же избирали особо… Выбирали лучших из лучших и провожали на служением всем миром. Удивительная клятва опричника. Попробую воспроизвести своими словами, которые западают в душу: «Я клянусь быть верным Государю Великому Князю и его Государству, молодым князьям, Великой Княгине, и не молчать обо всём дурном, что я знаю, слыхал, или услышу, что замышляется против Царя и Великого Князя, его Государства, молодых князей и Царицы. Я клянусь также не есть и не пить вместе с земщиной и не иметь с ними общего. На этом я целую Святой Крест». Учреждая Опричнину, Царь Иоанн Васильевич действиями своими показывал, что воспринимает Государево служение как долг перед Всемогущим Богом, а сам Царский титул отождествляет с образом Архангела Михаила – грозного и сурового покровителя Воинствующей Церкви Христовой, архистратига воинских сил небесных. Ну и как Первый Помазанник Божий, то есть Царь, первым принявший обряд миропомазания, с Архангелом Михаилом он отождествлял себя, а точнее свои обязанности с тем, что входило в круг деяния Архистратига. И само имя «Грозный» отражало подобие Царя Небесному воителю – Ангелу Грозному. Недаром Царь является автором Канона и молитвы архангелу Михаилу, в коих называет именно Архистратига Грозным Ангелом – Ангелом Смерти.
– Достаточно, достаточно, – наконец прервала Татьяна Леонидовна. – Вижу, что материал вы знаете превосходно. Переходите к третьему вопросу.
Третий вопрос не вызвал никаких разногласий, и Наташа получила твёрдую пятёрку.
Только много позже она узнала, что конфликт с экзаменующим едва не закрыл для неё дорогу в институт, но неожиданный поворот во время экзамена, эту дорогу сделал более чем открытой. Узнала она и о том, что противостояние преподавателей далее продолжалось с переменным успехом. Не знала она тогда, что отчасти, это противостояния скажется и на последующем её важном решении относительно своей судьбы.
А в тот день она, по существу, уже, можно сказать, стала студенткой, поскольку изложение для неё трудностей не представляло, прошла она успешно и собеседование.
Продолжение следует
Александра Шахмагонова. От автора .
Кто прав?
Прежде чем выставлять очередную главу повести «Абитуриентка», я решила разобраться с предыдущей третьей главой «Так кто же Иван Грозный», вызвавшей споры. На это ушло какое-то время.
Заранее скажу, что по-прежнему благодарна за все замечания в комментариях. Они заставили меня ещё раз внимательно перечитать ряд книг. Ну и привести цитату, которая идёт вразрез с тем, что написал Игорь Назаров. Уточню. Приведу не в упрёк Назарову, а с благодарностью за попытку помочь и с просьбой помочь разобраться, кто прав?
Приведу сначала комментарий:
(((Назаров вт, 15/09/2015 - 05:21
…и Та (Пресвятая Богородица) пророчески заявила: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать рождшегося от Меня и Моя с этою иконою да будут всегда». (это цитата из книги, взятая в главу)
Далее замечание Назарова:
«После такого ответа священник-экзаменатор должен был подпрыгнуть на месте и прогнать абитуриентку – еретичку))
Какая ещё "моя благодать"? У Богоматери нет никакой своей благодати.
Так, что ответ идёт настолько вразрез христианской догматике, что экзамен должен был бы тут же и кончится. )))
А теперь обратимся к книге, которой я пользовалась, когда писала главу. Она называется «Книга о Пресвятой Богородице».
Издана Православным издательством «Ковчег». Это издательство «Сретенского монастыря» в 2002 году. Находится в Москве на улице Красина.
На обороте титульного листа значится:
«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II»
Ну а теперь открываем главу «Икона Божией Матери, именуемая «Владимирская». В самом начале главы на странице 233 читаем:
«Написана евангелистом Лукой на доске стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла:
«Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».
И эта благодать, по слову Владычицы, постоянно пребывает с Её иконой, проявляясь в бесчисленных чудотворениях…»
Вот тут и загвоздка. Экзаменатор должен был прогнать абитуриентку? Но тогда нужно прогнать и Патриарха, который благословил данную трактовку, ну и издательство монастырское разогнать?
Во многих других книгах рассказывается об иконе точно также.
Тут не место иронии. Я понимаю, что вопросы богословия сложны. И чины церкви не всегда тождественны самой церкви. А потому, наверное, эта вот проблема нуждается в обсуждении?
Тем более, были уже на форуме предложения поднять подобные темы. Вот и повод появился. Кто же прав в данном случае?
Тяжело в учении..
Шло тактическое занятие.
После решения очередной вводной проверяющий остановил головную походную заставу для разбора действий. Сержант Левушкин внимательней пригляделся. Сомнений не было. Он где-то уже встречался с полковником, проводившим сегодня проверку. Но не мог вспомнить где?
Тут Лёвушкин едва дар речи не потерял: «Это ж Ларискин отец».
– Вы, товарищ лейтенант, вышли из строя, – продолжал полковник, обращаясь к командиру взвода.
Посмотрел на Левушкина и сказал:
– Вам, сержант, действовать. Покажите, как умеете командовать взводом в современном быстротечном бою.
«Вот так влип!» – мелькнуло в голове у сержанта.
Он сосредоточился, подал команду:
– К машине! – и спустя минуту: – По местам!
А всё началось с увольнения в город. Накануне того увольнения Левушкин был приглашён приятелем-студентом на вечер в институт и там познакомился с девушкой по имени Лариса. В воскресенье они с Ларисой встретились и долго гуляли по парку, неподалёку от военного городка. Лёвушкин рассказывал о службе. Он старался. Она студентка, а он сержант-срочник. Как же себя показать? Немного преувеличивал свои успехи. Хотел хоть чем-то удивить Ларису. Она неожиданно взяла его за руку и сказала:
– Смотри, мои родители!
Навстречу шли мужчина средних лет в светлом костюме и женщина с таким же, как у Ларисы, смуглым лицом. Лёвушкин хоть и обратил внимание на выправку мужчины, на седину в висках, но не придал значения. Мало ли?!
После представления, разговорились. Лёвушкин, стараясь понравиться родителям, продолжал преумножать свои успехи в службе.
– Недавно назначили заместителем командира взвода. Теперь отвечаю за весь взвод, – говорил он. – Ответственная должность запросто.
– И справляетесь, – с улыбкой спросил отец Ларисы.
– Ну а как же иначе. Не раз приходилось оставаться за офицера, командовать подразделением в сложной обстановке, в современном быстротечном бою.
Ну и далее об этом современном бое. Живописал всё, не стесняясь.
Отец Ларисы слушал, чему-то про себя улыбаясь, мать всплёскивала руками.
Родители вскоре ушли домой, а они с Ларисой долго гуляли.
Сергей заявил, что непременно подаст рапорт в Омское общевойсковое командное училище и обязательно станет офицером. Ему по-прежнему немножечко неловко было, что вот она уже студентка, а ему пока ещё далековато до института.
Перед армией поступить не удалось. Срезался на экзаменах.
Услышав о желании поступить в училище, Лариса сказала:
– Кстати, мой папа начальник кафедры тактики Омского училища.
Лёвушкин замолчал, посмотрел на неё чуть ли не с ужасом.
– Не веришь? – переспросила она. – Да, да. Нашего Омского высшего общевойскового.
Лёвушкин чуть не присел. Это кому же хвастался своими успехами?! Это кому же рассказывал о действиях в сложном и быстротечном современном бою? Да… Некрасивая история!
С тех пор Лёвушкин отказывался приглашений Ларисы к ней домой. Так и не побывал в гостях, а потому больше не видел её отца вплоть до нынешнего дня. И не сразу узнал в форме.
Наступила осень, затем – зима. Сержант Лёвушкин осваивался в новой должности. Понял, что она действительно не проста. Командира взвода вон четыре года учат. А он всего-то на два года призван, учебку прошёл, да немного покомандовал. А если в бою заменить придётся?
Как-то Лариса спросила:
– Вот я читала, что готовность к бою доля военных – естественное состояние. Скажи, а ты готов к бою?
Тут появилась возможность блеснуть своей эрудицией. Лёвушкин слегка поправил:
– Константин Симонов писал, что война для военных – естественное состояние.
Ну а сам вопрос его озадачил. К чему бы это? С какой стати она на эту тему заговорила? Девушка же. Между тем, Лариса продолжала, не дожидаясь ответа:
– Наверное, сложно на войне. Скажи, а ты не растеряешься в бою, если вдруг придётся…
Лёвушкин-то, конечно, само собой был уверен, что не растеряется. А тут вдруг подумал всерьёз об этом. Не отвлечённо, а всерьёз.
И вдруг такая встреча!
Справиться с поставленной задачей, не подвести взвод – было для Лёвушкина делом чести. Но делом чести было и не ударить в грязь лицом перед отцом Ларисы, который, как он понял сразу, безусловно, узнал его.
Пора было действовать. Украдкой взглянул на часы. По его расчётам головная походная застава упреждала «противника» в выходе на выгодный рубеж. Это – в полутора километрах от леса. Там высота. Она господствовал над окружающей местностью.
Колонна продвигалась вперёд. Лес стал редеть светлеть, и Лёвушкин весь собрался, стал внимательнее.
Вот командир дозорной машины доложил, что достиг опушки леса и далее путь свободен. Дальше местность открытая. И высота была как на ладони. До неё, казалось, рукой подать. Слева от маршрута движения лес упирался в болото. Впереди путь перерезала лощина, которая затем уходила за высоту.
Двинулись вперёд. И тут же, словно из-под снега, возникли кинжалы огня. Одновременно справа, слева, впереди колонны снежный покров вспороли бурые фонтаны.
– К бою! – скомандовал Лёвушкин, прижав ларингофоны.
Лицо его вытянулось и побледнело.
Мысли мелькали в голове: «Назад, в лес? Нельзя. Атаковать? Всех «уложат». Вот выход: укрыться в лощине…»
– Вперёд, в лощину! – подал он команду взводу.
Боевые машины пехоты на большой скорости достигли спасительного укрытия.
«Что ж не так прост полковник – отец Ларисы, – понял Лёвушкин. – Создал обстановочку. – «Противник» раньше нас захватил выгодный рубеж и теперь предстоит выбить его оттуда, иначе подойдут его главные силы и тогда успех боя будет предрешён – боевая задача ГПЗ не выполнена.
Оценил обстановку. Решил два отделения на БМП пустить в обход справа и атаковать одновременно с фронта и с фланга…
Он настороженно взглянул на полковника и поднёс к глазам бинокль. Впереди у «противника» происходили какие-то перемещения. Несколько фигурок перебегало к рощице, что на краю лощины. Лёвушкин пригляделся. На огневые позиции выходили расчеты противотанковых управляемых реактивных снарядов, ПТУРСов. Для их прикрытия выдвигались ротные пулемёты. Он снова поглядел на полковника. Тот едва заметно улыбался. Лёвушкин понял, что было бы, если бы отдал распоряжение раньше, чем обнаружил расчёты ПТУРСов. Боевые машины были бы «уничтожены» огнём в упор, стрелковые отделения, едва спешившись, оказались бы под плотным пулемётным огнём.
«Что же делать, что делать? Вот-вот, совсем «запросто» покомандовал! – с иронией подумал он о себе и своём недавнем бахвальстве. – А теперь под угрозой срыва задача не только взвода, но и роты… Ну и так далее»
Неумолимо бежали минуты. Казалось, нет выхода из создавшегося положения.
«Эх, сейчас бы сюда командира взвода, – подумал Лёвушкин. – Ну, хоть ненадолго! Хотя бы что-то подсказал».
Он продолжал рассуждать: «Слева – болото. Боевые машины не пройдут, а если без них, если спешить отделения и поставить солдат на лыжи? Не зря же лыжи возим с собой. Какие сибиряки без лыж?!»
И он принял решение: два отделения пустить в обход слева, одним же, прикрывшись дымовой завесой, чтобы «противник» не мог определить силы, атаковать при поддержке огня всех трёх боевых машин пехоты и приданных средств, с фронта.
Лёвушкин прыгнул в люк, включил радиостанцию, но тут же остановил себя. Ведь первое решение ему тоже казалось надёжным и безупречным. Он снова с опаской поглядел на полковника: какие ещё вводные у него на уме. Вот он тоже включил радиостанцию. Ждёт…
«А я обману, – решил Лёвушкин. – Пока отделения выдвигаются лощиной, их боевые машины совершат манёвр. Пусть «противник» решит, что хочу атаковать рубеж, где находятся ПТУРСы. А потом, потом, дымовую завесу поставлю. И под прикрытием машину переброшу на соединение с силами, готовящимися атаковать во фронт».
Лёвушкин быстро разъяснил задачи, отдал распоряжения, и всё пришло в движение. «Противник», видимо клюнул с его правого фланга фигурки стали перемещаться на левый.
Оставалось ждать. Наконец, впереди, там, где болото упиралось в высоту, с шипением взмыла в зенит ракета… Отделения вышли на рубеж перехода в атаку.
Левушкин включил радиостанцию…
Когда бой закончился, полковник подошёл к нему, подал руку и тихо, чтобы никто не слышал. Сказал:
– Знаете пословицу, товарищ сержант. «Не хвались, идучи на рать!». А в общем, вы молодец. Командовать можете. Жду в училище…
Устранение лишних
Одиннадцатая глава детективного романа «Плата за игру»
Неуловимый сосед Юра всё ещё оставался предметом слежки сотрудников Анны Ивановны. Они действовали, сменяя друг друга, но никак не могли добиться реального успеха. Юра долго не появлялся вовсе, а когда появился, стал, как показалось, ещё более осторожным.
На дороге ни знаков, ни ограничителей скорости, ни гаишников поблизости. Машины проносились на огромной скорости. Некоторые лихачи специально, видно, выбирали дорогу, чтобы погонять по ней на своих богатых скоростных тачках. И какой же русский!.. Нет и псевдо русский тоже. Ведь новорусскими назвали себя именно псевдорусские. Не все. Обезумевшие от богатств, конечно.
Лора сама любила ездить быстро. Но не так, как здесь. Не когда гололёд.
В тот день она приехала к ресторану с сотрудниками детективного агентства Анны Ивановна. Это были уже знакомый ей Михаил и Глеб, долговязый юноша, стеснительный, но смекалистый и рассудительный. Анна говорила, что за то и взяла его на работу. За смекалку.
Сама Анна отличалась сильным, волевым характером. В простонародье бы сказали, что мужицкой хваткой.
Лора припарковала машину поодаль от ресторана. Ей не хотелось, чтобы Юра увидел. Машину он не знал – дочь недавно купила её. Но её не мог не узнать. Михаил и Глеб перешли к Лоре в машину. Михаил устроился на переднем сиденье, Глеб – на заднем.
– Ну что, машины этого неуловимого, кажется, нет, – сказал Михаил, который несколько дней подряд уже гонялся за Юрой, причём безрезультатно.
И вдруг Лора насторожилась и сказала:
– Да вот же он идёт. Глядите, точно он.
Юра торопливо шёл к входу в ресторан от припаркованного у дороги автомобиля.
– Надо же, опять машину сменил! – воскликнула Лора. – И снова тачка супер. И когда только успевает.
– Тогда вот что, – сказал Михаил. – Я остаюсь дежурить, а вы к Анне Ивановне. Она уже, наверное, в офисе. Что здесь всем троим делать? А я уж прослежу.
– Думаю, и мне надо остаться, – возразил Глеб. – А то упустишь как в прошлый раз.
– Может, ты и прав. Но вам, – обратился он к Лоре, – думаю, нечего здесь время терять.
Ребята, попрощавшись и пообещав звонить, если что будет что важное, вышли из машины. Лора ловко выбралась из парковочного места и поехала в сторону парка, чтобы выскочить на проспект.
Уже перевалило за полдень, и она вспомнила, что надо сообщить дочери, что сегодня задержится. В институте уж, наверное, последняя пара лекций началась. Не желая отвлекать от лекции, отправила сообщение.
Анна была уже в офисе. Встретила приветливо. Предложила чай. Лора присела к столу, где Анна уже расставила чашки и положила пирожки.
– Ну что же, подруга дорогая, пока всё безрезультатно, – развела руками Анна. – Такое впечатление, что он чувствует слежку. Уже дважды срывался на светофоре. Понимаешь… Мои ребята не могут нарушать правила, вот и упустили. Мы же не ведём официального преследования. А если что-то случится? У нас в таких ситуациях прав гораздо меньше, чем у ментов органов.
– Я всё это понимаю, – сказала Лора. – Но и ты меня пойми… Поначалу я хотела просто понять, что случилось с мужем. Потом захотела мстить. В разумных пределах. Но теперь я, к тому же боюсь за своих дочерей.
– А что такое случилось? Почему вдруг появился такой страх? – Анна поставила чашку на блюдечко и обратилась в слух.
– Этак вот со светофора только вчера пришлось срываться старшей моей дочери. Она почувствовала слежку. Скажи, что может быть? Зачем могут следить и что им от нас надо?
– А дочь не могла ошибиться?
– Нет, не могла, – уверенно заявила Лора. – Она несколько раз совершала манёвры, чтобы посмотреть, за ней или не за ней гонятся две машины. А когда поняла, ушла от погони довольно дерзко. Так же вот как Юра.
– А младшая?
– Младшая менее внимательна. Да и потом я уж не знаю, как правильно поступить – говорить ли ей о слежке или не говорить. Боюсь, что только запугаю напрасно.
Разговор прервал зуммер мобильного.
– Да, Миша, да, слушаю, слушаю тебя внимательно, – сказала Анна, и сделала громкую связь, чтобы Лора тоже могла услышать, что говорил сотрудник.
– Веду его. И пока веду успешно. Он сегодня уже на другой машине. Номер.., – и Миша продиктовал буквы и цифры.
– Записала. Проверим. Повнимательней. Держи в курсе.
– В центр едет. Уже на Садовом… На связи…
Через некоторое время снова зазвонил мобильный. Михаил сообщил, что Юра свернул на Новослободскую улицу.
– Веди, веди и постарайся не упустить, – напутствовала Анна, и, обращаясь к Лоре, заметила: – Неблагодарное это дело. Вот сейчас покрутится и где-нибудь осядет. И снова ждать. Пока ещё домой соберётся.
Однако Миша позвонил снова, сообщил:
– После станции метро свернул… Так, по переулочку едет. Стоп… Встал у института… У МИИТа…
Мобильный Анны был поставлен на громкий звук, и Лора слушала разговоры.
– Так это институт дочери… Она там учится. Что он затеял? – и в телефон – Михаил, там моя дочь, смотри внимательней. Выручай, если что. Неужели за ней следит.
– У дочери красный Хиндай? – спросил Михаил.
– Да, – упавшим голосом сказала Лора.
– Вижу её, садится в машину… Поехала. Он тоже. За ней. Сейчас Глебу сообщу… Будем одновременно вести обе машины.
– Решение верное, – согласилась Анна.
Вечерело. Опускались ранние декабрьские сумерки. Пробки на основных магистралях заметно увеличивались. Дочь Лоры прекрасно знала ходы и выходы через дворы и переулки. Глебу пришлось едва ли не сложнее, чем Михаилу. В конце концов, он огорчённо доложил:
– Я её потерял… Вильнула куда-то…
– Может и Юра потеряет, – с надеждой сказала Лора.
– Хорошо бы, – согласилась Анна, – Только он не отвяжется. Завтра продолжит. Пусть уж сегодня всё выяснится, а ребята, если что, в обиду не дадут. Но, думаю, он просто хочет узнать адрес. Вы же сейчас не дома живёте.
– Мы у матери, в Тушино.
– Где там? Я Тушино хорошо знаю, – поинтересовалась Анна.
– На Туристской…
– Понятно.
Миша сообщил, что тоже потерял Юру.
– Там где выход на Ленинградку оторвался. Там, где потоки сходятся. Не вижу.
– Тогда вот что. Дуй в Северное Тушино, к метро Сходненской, там на бульвар Райниса выходи… Знаешь как?
– Бывал в кафе Лунный свет.
– Кафе теперь закрыли, – сказала Лора. – Магазинчик теперь. Проезжай мимо до упора, затем направо и снова первый поворот направо и вставай у длинного дома. Десятый дом. Постарайся ближе к центру, чтоб наш подъезд был виден. Дочь там обычно ёлочкой паркуется. В это время всегда места есть. Ну и наблюдай…
Затем и Глебу сообщили, что делать.
– Будем ждать, – сказала Анна. – Как там сейчас, пробки не уменьшились?
– Как Куркино заселили жуть что творится…
– Будем ждать…
Разговор прервал Михаил. Сообщил:
– Встал удачно. Хороший обзор.
– Будь осторожен.
– Вижу, вижу… красный Хиндай. Да, да, точно он. И Юра следом. Как прилип к хвосту.
– Что ему нужно? – сказала Лора. – Это ж дом моей матери. Что ему нужно?
Михаил сообщил, что Юра нырнул в подъезд вслед за дочкой Лоры.
– Поедем туда? – спросила Лора.
– Подожди. Надо понять, что он там делает. Он же в любую минуту может уехать. Подожди…
И тут снова послышался голос Михаила:
– Выскочил и смотрит на окна. Вот, свет в окне на третьем этаже включился. Опять к подъезду… Домофон набирает. Дождался ответа, но сам ничего не сказал… Это он номер квартиры устанавливал?
Лора тут же позвонила дочери… Та ответила:
– Ты уже дома? У бабушки? Слава Богу… Что беспокоюсь? Да нет, ничего, ничего. Просто дороги сейчас такие что… сама знаешь. Как не беспокоиться.
Тут сообщил Михаил:
– Сел в машину, поехал. Преследую. Глеб подключился. Постараемся не потерять.
Наступили томительные минуты ожидания.
Прошло не менее часа.
Наконец, позвонил Михаил:
– Надо же – он вроде как к казино едет… ух ты… Ухарь какой-то подрезал. Ну ничего, зато встал между нами… И надо же, за ним едет – ну это и к лучшему. Меня не так видно.
Прошло ещё несколько минут, и Михаил сообщил:
– Угадал, он к ресторану подъехал. Поставил машину на дороге. Выходит, не спеша так…
– Странно, – сказала Анна. – Что ему было нужно?
– Значит, адрес матери узнали, ну и решили проследить, живёт или не живёт там кто из нас, – упавшим голосом сказала Лора. – Что им от нас надо?
Анна позвонила Михаилу:
– Ну что там? Зашёл в здание? Хорошо. Жди, – и, обращаясь к Лоре, прибавила: – Ну а нам с тобой, подруга, действительно пора в дорогу.
Через несколько минут они уже мчались по ночному городу в сторону Тушина. К счастью, пробки уже несколько рассосались, и можно было надеяться, что приедут быстро. Анна колебалась, обращаться или не обращаться в полицию. С одной стороны, что из того, что кто-то проследил за девушкой и тут же уехал, но с другой, ведь слежку устроил человек, весьма подозрительный. Но как это сразу объяснишь?
Она вызвала Михаила:
– Что у тебя?
– Тишина… нет, стой, подожди… Кажется, вышел… Идёт к машине. Преследовать?
– Да, да, конечно.
– О Боже! – Миша так прокричал в трубку, что Лора вздрогнула… Вот дела! Вышел на дорогу, чтобы в машину сесть и надо же. Откуда только этот джип взялся?
– Что такое?
– Сбили его, сбили. Аж вверх подлетел. Пойду, посмотрю.
– Сиди, не выходи. Не светись. Номер джипа запомнил?
– Грязью замазан. Только две буквы… Ну и регион. Московский регион, а буквы ЖО…
– А далеко стоишь? Машин за пять…
– Посиди уж лучше. Притворись, что задремал… нам не нужно, чтоб ты в свидетелях светился. Понаблюдай. Это важно. Присмотрись, кто крутится там. Под видом зевак кто-то может подойти…
Анна повернулась к Лоре:
– Вот так. всё оборвалось… Только мы за ниточку уцепились… На-да.
– Если бы просто оборвалось. Но зачем-то ему нужен был адрес? И он его получил. А кому передал? – спросила Лора. – Ведь передал же кому-то, не зря в казино ездил. Если бы играть поехал, наверное, подольше бы задержался.
– Постой, постой. У нас остаётся машина… Я завтра позвоню ребятам. Может уже нашли её, – предположила Анна.
– Хорошо бы.
Было уже поздно, и Анна сказала:
– Утро вечера мудренее. Сегодня уже ничего больше не придумаем. Пора по домам. Ты к своим, в Тушино?
– Да, хотя теперь какая разница, где жить, если и там нас нашли. Вот только зачем нашли, не понятно…
Утром Анна позвонила своим друзьям в следственный отдел. Ей сообщили, что машину кто-то бросил у парка. В угоне была. Вот и бросили. Оборвались все нити. Теперь у преступников было колоссальное преимущество – Анна и Лора не знали их замыслов. Не знали, кто они и не знали, когда хотят свои замыслы осуществить. Лора же с дочерью оказались под их прицелом.
Михаил в тот вечер долго сидел на месте происшествия и следил за происходящим. Народ, конечно, собрался. Всегда находятся любопытные поглазеть на такие вот дела. Он видел, как подошла скорая, как врачи обследовали сбитого и тут же уехали. Значит, полиция теперь должна вызвать труповозку.
Он тут же сообщил об этом.
– А вот что важно. Видел ли кто, что скорая пустой уехала? Тут есть одна мысль. Видно там передрались как пауки в банке. Поглядим. Но завтра. Завтра!
Первый экзамен
Абитуриентка (глава вторая)
Утром Наташа с точностью вспомнила весь сон.
Было такое впечатление, что она, словно, прочитала эти наставления и выучила наизусть.
«Совсем, совсем другой мир, – с удовольствием думала Наташа. – Мир незнакомый и добрый».
Ей ещё больше захотелось войти в этом мир на равных со всеми правах. Но тут же подумала с сожалением, что далеко не все эти непохожие на других юноши и девушки станут студентами.
Поняла, что не совсем точно сравнила экзамены здесь с отделением зёрен от плевел. Ведь уже абитуриенты были не такие как все. Они уже сами себя отделили от плевел. Хотя и не понимали того.
Ждать пришлось недолго. Минут через пятнадцать пришли экзаменаторы. Вскоре пригласили абитуриентов в аудиторию. Это был зал, на стене которого висели портреты патриарха Тихона и ещё каких-то иерархов церкви, пока неизвестных Наташе.
В тот день перед абитуриентами выступил ректор института, но Наташа слушала его невнимательно, потому что продолжала разглядывать портреты. Потом перевела взгляд на присутствовавших в аудитории юношей и девушек. Большинство пришли в нарядах, более светлых, чем накануне.

Наташа почему-то вспомнила телесериал «Следствие ведут знатоки» и подумала, что даже там люди одевались помоднее и наряднее, чем здесь.
Сама Наташа надела в тот день белую блузку, более светлую юбку и нарядный платочек.
Было любопытно посмотреть, как одеты абитуриенты. В школу привыкли ходить, кто в чём. Она помнила, что директор школы не раз делал замечания, одевавшимся слишком вызывающе. В их школе мальчишкам запретили даже в джинсах ходить, а от девушек требовали, чтобы ходили в платьях или юбках.
Ну а здесь и без всяких запретов юноши пришли в тщательно отутюженных брюках.
Наконец, раздали экзаменационные листы.
Наташа растерялась. Она не знала, как оформлять этот документ.
– Что здесь писать? – спросила она у девушки, сидевшей рядом.
– Прослушала?! – добродушно проговорила та.
– Да, задумалась немного.
– Ну вот, смотри?
– Спасибо…
Каждый, кто мог, старался помочь другим.
Экзамен начался. Наташа подошла к столу и с волнением взяла билет. И надо же, сразу повезло. В билете была притча о талантах. Да и остальные вопросы не представлялись сложными.
Она села на своё место, и стала быстро записывать тезисы своего ответа. Когда подошла очередь отвечать, и она снова подошла к столу экзаменаторов, её попросили назвать номер билета…
– Номер двенадцать…
– Что там у вас?
– Притча, – сказала Наташа. – Притча о пяти талантах.
– Прекрасно, – сказал экзаменатор. – Хороший вопрос. Ну, рассказывайте…
– Эта притча из поучений Христа, – начала Наташа. – Христос перед Своими учениками и перед людьми рассказывал о том, как нужно вести себя в жизни, – продолжала она уверенным голосом пересказывать притчу о талантах.
Выслушав Наташу, экзаменатор спросил:
– Как вы сами понимаете эту притчу?
– Эта притча и по сей день актуальна, – сказала Наташа. – Каждый человек при рождении получает какой-то дар – петь, писать картины, рисовать, слагать стихи. Тот, кто будет работать над собой, развивать данные Богом способности, преуспеет в жизни, добьётся самосовершенствования, и жизнь такого человека не пройдёт напрасно. Ну а тот, кто станет лениться, тот, образно говоря, зароет свой талант. Ну и средства на жизнь станет добывать любым другим способом, но не тем, что дан ему Богом.
– Каким же способом, по-вашему?
– У нас в стране сейчас иные ценности… Не все, конечно, привержены им, но многие. У них лозунг: «Бери от жизни всё!», «Живём один раз!»
– Уточню, – сказал экзаменатор. – Вы трактуете не так. Ваша трактовка примитивна. Талантом можно считать талант музыканта. А можно и футболиста. Или даже обычного карманника. Ведь так? Много житейских талантов есть таких, что далеки от веры, далеки от Бога. В притче говорится об ином. О том, что талант человека в искании истины, смысла жизни, в искания Бога! Вот, что необходимо уяснить. Но я не порицаю вас. Нет. Ведь вы пришли к нам зачем? В поиске истины?
– Да. У меня есть причины искать истину. Я пришла не случайно.
– Переходите ко второму вопросу, – сказал экзаменатор, прерывая Наташу.
Наверное, он почувствовал, что она сейчас готова выложить что-то наболевшее. Но ведь не на экзамене же.
И был он не далёк от истины. Наташа не могла найти правды в своей ещё совсем недолгой жизни. Не могла найти правды у мамы, у её родственников после одного происшествия, едва не сломавшего ей жизнь. Она пыталась взывать к вере, говорить о Боге. Но встретила моду на обряды, вместо истиной веры. Её мама ходила в храм, чтобы ставить свечки за здравие, за упокой, но когда речь шла об исполнении заветов, отмахивалась.
Но об этом потом. Сейчас было не до таких воспоминаний. Предстояло отвечать на второй вопрос.
Второй вопрос был из Ветхого Завета. Он касался иконы «Неополимая Купина». Наташа рассказала о том, как Моисею привиделся горящий куст терновника, огонь которого не обжигал. Где-то она немножечко сбилась, но тем не менее, в целом ответила хорошо, и ей поставили твёрдую четвёрку.
Начало было положено и начало хорошее.
– Ну как сдала? – спросила невысокая девушка, приветливо улыбнувшись.
– Четвёрка, – вздохнув, ответила Наташа.
– А что вздыхаешь? Молодец… У меня вот трояк… А вот у неё, – она указала на свою подругу, – Пятёрка! Так что у вас обеих все шансы есть. А мне теперь нужно все остальные пятёрки получить.
– Ты на какой факультет? – поинтересовалась Наташа.
– На исторический, вместе с подружкой. А ты?
– Тоже…
– Здорово! – сказала девушка и предложила: – Пойдёмте, посидим где-нибудь, в кафешке какой-нибудь?
– Поехали в «Шоколадницу». Здесь рядом, на метро «Октябрьской»
Предложение понравилось всем. Девушки перезнакомились. Подружек звали Таня и Оля.
Они уже собирались идти, когда из Храма вышла женщина и спросила:
– Кто мне скажет, который сейчас час?
– Около одиннадцати, – за всех ответила Наташа.
– Спасибо… Вы, я смотрю, экзамены сдаёте?
– Сдаём, – почти хором ответили девушки.
– И какой же сегодня?
– Закон Божий, – сказала Наташа. – Уже сдали.
– Молодцы. А дальше история? – спросила женщина и прибавила: – Это посложнее. Особенно если на исторический факультет. Предмет – профильный. Желательно сдать на отлично.
– Многие заваливаются? – спросила Татьяна.
– Там, чтобы потерять все шансы на поступление, достаточно тройку получить.
– Только отлично? – спросила Наташа.
– В крайнем случае – хорошо, – ответила женщина. – Я только со второго захода сумела поступить, а брат мой младший так и не поступил.
– А сколько ему лет? – поинтересовалась Оля.
– Двадцать один год. В армии уже отслужил.
Наташа успокоила:
– Ну, если в армии отслужил, спешить некуда. Может и в следующем году попробовать. А почему выбрал исторический?
– Хочет преподавать историю. Ну и Закон Божий ему нравится. Собирается работать в какой-нибудь церковной школе. Ну а вы тоже хотите стать преподавателями?
Наташа ответила за всех:
– Главное поступить, а уж там решим.
– Желаю вам удачи. Главное – спокойствие, – посоветовала собеседница. – Помните, что, если не удастся с первого раза пройти, то можно записаться на курсы и через год повторить попытку. Если, конечно, поступать сюда – решение серьёзное.
– Вполне, – снова за всех ответила Наташа. – Очень нам здесь нравится. Особенно люди. Даже абитуриенты уже какие-то особенные. Очень культурный народ. Это сейчас редкость.
– Да, это немаловажно. Ещё раз удачи! Мне пора. В храм заходила, а теперь работу. Вот визитка. Если что, звоните, подскажу. Я уж на третий курс перешла.
Девушки ещё с минуту постояли возле храма. Татьяна сказала:
– Надо же… Перед работой на службу заехала. Никто ведь не заставлял.
– Вот уж действительно по зову сердца, – вставила Наташа, вспомнив, как ей самой не очень хотелось ехать через всю Москву в храм на послушание.
– Ну что, вперёд, в кафе! – напомнила Оля.
Они вышли на улицу, ведущую к метро. До «Шоколадницы» добрались быстро. По дороге почти не разговаривали. В метро не поговоришь. Шумно.
Выбрались в город на станции метро «Октябрьская» радиальная, и, спустившись в подземные переход, вышли из него перед самой «Шоколадницей».

Наташа часто бывала здесь с мамой. Мама рассказывала ей, что именно в это кафе они когда-то впервые ходили с папой, ещё за год до свадьбы.
Девочки вошли в зал, и Татьяна предложила:
– Давайте у окна сядем. Смотрите, какой удобный столик.
В окно была видна Октябрьская площадь с огромным памятником посредине. Посмотрев на него, Наташа вдруг вспомнила:
– Мама мне рассказывала, что раньше близ таких памятников вождю обязательны были плакаты, к примеру: «Верной дорогой идёте товарищи». Ну и, конечно, изображение вождя с рукой. Он как бы указывал это направление «верной дороги». И вот однажды мамина сестрёнка – моя тётя – когда научилась читать, прочитала всё это по складам, и спросила: «А откуда он знает, что мы идём верной дорогой? Он же памятник».
Все засмеялись, а Татьяна заметила:
– Удивительно… Советского строя давно уже нет, а памятники до сих пор стоят. Нигде ведь не тронули.
– Да ведь в начале девяностых сносили памятники лишь тем деятелям Советской власти, которые принесли пользу России, а тем, кто вред приносил – всем оставили, – сказала Наташа. – Увлеклись сверх меры. Ждановскую в Выхино переименовали, а Жданов, между прочим, в блокаду Ленинградом руководил. Лучше б Войковскую станцию в Цареубийскую переименовали, коль так дорог им убийца царской семьи.
– А ещё, – вставила Оля. – Под шумок улицу Чкалова в Коровий вал переименовали… А Чкалов-то причём?
– Его не любят демократы за то, что он любил и уважал Сталина.
– А ты? – поинтересовалась Оля.
– Что «я»? – не поняла Наташа.
– Как ты к Сталину относишься?
– Девочки, давайте не будем на политические темы, – предложила Таня. – А то сейчас до выяснения причин репрессий дойдём и так далее.
– Давайте не будем, – согласилась Наташа. – Да и трудно нам сейчас об этом спорить – средства массовой информации, какую чушь и отсебятину несут. Сплошная клевета. Особенно этот, как его Свян… Свяин… Свин…
– Наверное, Сванидзе имеешь в виду? – уточнила Оля. – Да, этот полон ненависти. Так ядом брызжет, что обратного эффекта добивается. Но скажу я вам одно – не дано нам право судить о деятелях прошлого. Можем ли мы судить ушедших? Ну, то есть мёртвых, – уточнила она и продолжила: – Они уже предстали пред Богом, и каждый получил то воздаяние, которое заслужил. Тот, кто судит усопших, пытается, теша гордыню свою, поставить себя выше Бога. Так не только я думаю. Так священник, который рекомендацию давал, говорил.
– А ведь верно, – подхватила Наташа. – Если верить в Бога, то надо и вести себя соответствующим образом. И помнить, что клеветник приравнивается к человекоубийце, не наследующему жизни вечной. Обо всём это в Священных Писаниях чёрным по белому написано.
В этот момент подошёл официант, разговор был на некоторое время прерван. Девушки заказали себе любимые лакомства, а Наташа добавила к ним цыплёнка табака, причём заказала с таким видом, что Оля не удержалась и добродушно пошутила:
– Ты часом, живьём птичек домашних не глотаешь… Не обижайся…
– Что обижаться? Ну, люблю цыплят табака. Кстати, мама надо мной почти так же вот подшучивает, – сказала Наташа. – Говорит, представляю, как ты, словно рысь, бросаешься на корову и вцепляешься в неё…
– Почему именно рысь? – переспросила Оля, аккуратно наливая всем в бокалы клюквенный напиток.
– Потому что рысь из семейства кошачьих, даже мордашка похожа. – пояснила Наташа. – А я кошек люблю. И у меня есть кошечка Шаня.
– Что за кличка? Назвали бы привычнее, – заметила Оля.
– Породистым кошкам и собакам клички даются при рождении. У них же там родословные целые.
Так, переговариваясь о всякой всячине, девушки просидели в кафе часа два-три. Вышли на улицу, как старые знакомые. Обменялись телефонами и решили на экзаменах держаться вместе.
И вот наступил день самого сложного экзамена – ведь история была профилирующей на избранный Наташей факультет.
Утро выдалось солнечным, ясным. Жара ещё не наступила, когда девушек пригласили в аудиторию. Порядок экзамена был весьма своеобразен. В аудиторию запустили всех, но попросили сесть подальше от экзаменаторов. Места внизу, перед экзаменаторским столом занимали те, кто уже брал билеты и шёл готовиться к ответу.
Наташа вызвалась едва ли не первой. Не хотелось сидеть и дрожать от волнения.
Этот экзамен, как она слышала не раз, решал всё…
Продолжение следует.
Ссылки на предыдущие главы
Абитуриентка
Первая глава
– Где ваши фотографии?
– Забыли, наверное, – ответила Светлана Васильевна.
– Наверное, – протянула женщина.
Она смерила Наташину маму взглядом и несколько грубовато спросила:
– А вы, женщина, почему в брюках?
– Что значит, почему? – удивилась Светлана Васильевна. – Что же, по-вашему, я их снять должна?
Лицо сотрудницы пошло пятнами. Она повысила голос:
– Не надо здесь умничать. Не в цирке… Вы – женщина, и одеваться надо по-женски. В платье или юбку. Не на танцульки пришли, а в Духовное заведение. Делаю вам замечание.
Светлана Васильевна хотела что-то возразить, но Наташа дёрнула её за рукав, и она сдержанно произнесла:
– Замечание принимается.
– Идите, фотографируйтесь, – сердито бросила сотрудница деканата. – На Ордынке есть ателье.
– Вот, – заметила, выйдя из деканата, Светлана Васильевна, – в сорок лет я сподобилась получить замечание. – Я стоматолог с высшим образованием… По твоей милости, между прочим, краснею.
– Мама, – укоризненно сказала Наташа, – в брюках, между прочим, ты, а не я.
– Да, но я здесь из-за тебя…
Полдня ушло на добавление документов. В конце концов, Наташа заполнила анкету и подала её сердитой сотруднице деканата. Когда направилась к выходу, та бросила вслед:
– Сегодня обязательно быть на послушании.
– Что ещё за послушание? – обернувшись, спросила Светлана Васильевна.
– С момента подачи документов абитуриенты обязаны посещать вечернюю и утреннюю службы.
– Мы живём в Строгино, – сказала Наташа. – Может, я пойду там в церковь. У нас совсем рядом, в Троице-Лыкове.
– Нет, нельзя. Только здесь, в институте. И не забудьте отметиться, когда придёте.
– Это что же, ей в Строгино ехать, а потом обратно? – спросила Светлана Васильевна.
– Не забудьте отметиться, – повторила сотрудница вместо ответа на вопрос.

Пришлось ехать домой, поскольку времени оставалось ещё слишком много, чтобы коротать его в Замоскворечье. К пяти часам Наташа с мамой приехали на службу и снова попали в непривычную обстановку пятидесятых. Они вошли в храм, встали, где указано. Вскоре священник начал читать молитву, а потом запели все присутствующие, повторяя за ним один абзац, прочитанный им из молитвы.
Наташа была в некоторой растерянности, и во время службы подошла к маме, чтобы что-то спросить. Светлана Васильевна резко ответила:
– Ну что тебе надо? Слушай службу… Для чего мы сюда приехали?
– И не нужно было со мной ехать, если это всё тебя раздражает.
– Я бы столько дел дома переделать успела!
– Мам, идёт служба, между прочим.
– Я молчу.
Много новых впечатлений было в тот день. Когда после службы подошли отмечаться, сотрудница деканата, но уже совсем другая, сказала:
– В августе приезжайте на экзамены.
– Спасибо, – ответила Наташа. – Обязательно…
Они вышли на улицу. Наташа спросила у девочки в чёрной блузке:
– Ты мне не подскажешь, что нужно готовить к экзамену по Закону Божьему?
– Притчи… Новый Завет, Ветхий Завет.
Наташа вспомнила, что какую-то притчу она читала сравнительно недавно. Да, да… Она читала притчу о талантах и даже поспорила с одноклассником, который посмеялся над тем, что раб зарыл свой талант. Он заявил, что притча малопонятна. Она и неактуальна теперь.
– Одну притчу я помню, – сказала она девушке в тёмной блузке и поделилась спором с одноклассником.
– Что за притча? – поинтересовалась та.
– О пяти талантах.
– Расскажешь?
– Конечно, – согласилась Наташа. – Смысл в том, что господин дал одному своему рабу пять талантов, другому – два таланта и третьему – один талант. Получивший пять талантов пошёл и приобрёл ещё пять. Точно также поступил и второй раб, который прибавил к своим двум талантам ещё два. А вот получивший один талант пошёл и зарыл его в землю. Впрочем, знаешь, я сейчас тебе лучше её прочту…
И Наташа достала из пакета томик с притчами.
– Вот, слушай… Она так и называется: «Притча о талантах».
Наташа стала читать:

«И ещё одну притчу сказал Иисус Христос против лености и небрежности нашей.
– Сын Человеческий поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им своё имение. Одному он дал пять талантов, другому два таланта, а третьему один талант, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрел на них ещё пять талантов. Точно так же и получивший два таланта приобрёл на них другие два. Получивший же один талант не захотел трудиться, пошёл, и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. После долгого времени, возвратился господин рабов тех и потребовал у них отчета. Получивший пять талантов принёс другие пять талантов и подошедши к нему, говорит: «Господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрёл на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Подошёл также и получивший два таланта, и сказал: «Господин! два таланта ты дал мне; вот другие два таланта я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Подошёл и получивший один талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; вот, я, испугавшись этого, пошёл и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твоё».
– Как интересно, – вставила девушка в тёмной блузке.
– И поучительно, – сказала Наташа. – Слушай дальше… «Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый и ленивый раб! Твоими устами буду судить тебя; ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; поэтому и должен был ты отдать серебро моё торгующим; и я, возвратившись, получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится; а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму кромешную (внешнюю); там будет плач и скрежет зубов». Сказав эту притчу, Иисус Христос возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Эта притча означает: все люди получают от Господа различные дары, как то: жизнь, здоровье, силы, душевные способности, ученье, дары Святого Духа, житейские блага и проч., чтобы этими дарованиями служить Богу и ближним. Все эти дары Божии и разумеются в притче под именем талантов. Бог же знает, сколько нужно дать каждому, по его способностям, поэтому и получают – иной больше, иной меньше. Кто как воспользовался дарами Божиими, в том каждый человек должен будет дать отчёт Господу, при втором Его пришествии. Кто употребил их на пользу себе и другим, тот получит похвалу от Господа и вечные небесные радости; а ленивые и небрежные люди будут осуждены Господом на вечные страдания».
– Твой одноклассник сказал, что это неактуально? – переспросила Наташина собеседница. – А я думаю, что притча актуальна во все времена, в том числе и нынешние.
– Я того же мнения, – сказала Наташа. – Часто задумываюсь… Вот, послушай. Одному человеку Господь дал, к примеру, талант художника, другому – музыканта, третьему – поэтический дар, ну и так далее… И он рассчитывал, что каждый трудом своим преумножит свой талант и принесёт тем самым пользу людям. Художник будет радовать портретами или великолепными пейзажами, музыкант – хорошими песнями или классической музыкой, поэт – берущими за душу стихами. Но все они вместо того, чтобы развивать в себе таланты, ушли, к примеру, зарабатывать деньги в какую-то торговую фирму. Что скажут они Господу при втором Пришествии?
– А ты веришь во второе Пришествие? – спросила собеседница.
– Сейчас не о том речь. Хотя постой – сразу замечу: если не веришь в основные каноны и постулаты, то зачем же поступать в этот институт? Можно выбрать любой другой. А относительно талантов и вообще дарованных Богом способностей, известный философ сказал: гений – это один процент таланта и девяносто девять процентов напряжённого труда.
– Так ты не ответила на вопрос, – напомнила собеседница.
– На этот вопрос ответят экзамены… Тот, кто верит, тот и пройдёт в институт. Вот увидишь. Ты вот почему решила сюда поступать?
– Очень хочу заниматься историей. Но поступить на исторический факультет МГУ или же в Историко-архивный институт, как мне кажется, шансов мало. Когда узнала, что здесь есть истфак, решила попробовать. А там видно…
– Ты знаешь, – начала Наташа, но, прервавшись, задала вопрос: – Кстати, как тебя зовут?
– Катя. А тебя?
– Наташа. Так вот знаешь, Катенька… Есть ещё одна притча, которая как раз, наверное, будет к месту. Притча о плевелах. Хочешь послушать?
– Читай, – попросила Катя.
Наташа поняла, что её собеседнице действительно совершенно безразличны вопросы веры. Она даже о самых известных притчах ничего не слышала. Открыв нужную страницу, Наташа продолжила:
– «Притча о плевелах». Кстати, её можно прочитать в Благовествовании – я предпочитаю называть по-русски, не по-гречески – от Мафея – пункт тринадцать: стихи с двадцать четвёртого по тридцатый. «Царство Небесное» – это земная церковь, основанная Небесным Учредителем и приводящая людей к Небу. Она «подобна человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». «Когда все люди спали», – то есть ночью, когда дела могут совершаться тайно от всех, – здесь указано на коварность врага, – «пришёл враг его [человека] и посеял между пшеницею плевелы и ушёл». Плевелами называют сорные травы, которые, пока малы, похожи всходами своими на пшеницу, а когда уже вырастут и начинают отличаться от пшеницы, то выдергивание их сопряжено с опасностью для корней пшеницы. Учение Христа сеется по всему миру, но и дьявол своими соблазнами сеет зло среди людей. На обширной ниве мира живут все вместе: и достойные сыны Отца Небесного (пшеница), и сыны лукавого (плевелы). Господь терпит последних, оставляя до «жатвы», то есть до Страшного суда, когда жители – Ангелы Божьи – соберут «плевелы» и ввергнут их в печь огненную на вечные адские муки. «Пшеницу» же Господь повелит собрать в житницу Свою, то есть в Своё Царствие Небесное, где праведники воссияют, как солнце.
– Ну и в чём актуальность? – спросила Катя.
– Экзамены отделят зёрна от плевелов. Так что ты подумай хорошенько. В этот институт надо идти с твёрдою верой… Это особый институт. Он не терпит затаённых нечестных мыслей…
И вдруг её снова кольнуло… «А ведь мне не позволили пройти послушание в храме, который поблизости от дома. Почему? Да потому что не поверили…».
Эта мысль оставила нехороший осадок, который, впрочем, пока ещё долго не удержался.
– Ну хорошо… А вот твой одноклассник как отнёсся вообще к институту? – спросила Катя, которой, вероятно, не очень понравилось сравнение с плевелами.
Наташа и сама понимала, что несколько переборщила, а потому с удовольствием вернулась к разговору об однокласснике.
– Он признался, что никакую власть не признаёт. Он за анархию.
Катя усмехнулась:
– Анархист? Мне казалось, что теперь люди поумнели и понимают: анархия – это путь в революцию. А нам хватит уже революций, хватит крови. Революции, как бы их не называли, делаются в пользу богатых, по умолчанию, а уже по оглашения – якобы, ради бедных. Революция – это зло. Не думай… Если в богословии я мало что понимаю, то в истории подкована достаточно.
– Кстати, хочешь, прочту притчу о добре и зле? – спросила Наташа.
– Читай. Глядишь, и ты освежишь в памяти всё, что читаешь, да и у меня что-то отложится…
– Так вот. «Юноша пришёл к мудрецу с просьбой принять его в ученики.
«Умеешь ли ты лгать?» – спросил мудрец. «Конечно, нет!». «А воровать»? «Нет». А убивать»? «Нет...». «Так иди и познай все это, – воскликнул мудрец, – а познав, не делай»!
Наташа сказала:
– Всё это очень интересно, хотя меня более интересует история. Кстати, а ты на какой факультет собралась поступать?
– Тоже на исторический.
Разговор прервала мама.
Сказала:
– Пора домой.
Наташа попрощалась с новой знакомой, и только уже в метро с сожалением вспомнила, что забыла взять у неё номер телефона.
В тот вечер она, намаявшись за день, легла спать. И снился ей сон… Удивительный сон, похожий на притчу, Ей снилось, что она брала интервью у Бога....
– Ты хочешь взять у меня интервью? – спрашивал Бог.
– Если у Тебя есть время, – отвечала вопросом на вопрос Наташа.
Бог улыбнулся.
– Моё время – это вечность! Какие вопросы ты хотела бы задать мне?
– Что больше всего удивляет тебя в человеке?
Бог ответил:
– Людям наскучивает детство, они спешат повзрослеть, а потом мечтают стать детьми опять... Они теряют здоровье, зарабатывая деньги, а потом теряют деньги, восстанавливая здоровье... Они живут так, будто никогда не умрут, а умирают, словно никогда и не жили... Они так много думают о будущем, что забывают настоящее настолько, что не живут ни в настоящем, ни в будущем...
Он взял Наташину руку, и они помолчали некоторое время. Тогда Наташа спросила:
– Как наш Создатель, а, следовательно, как родитель, какие бы Твои уроки жизни хотел бы Ты, что бы усвоили Твои дети?
– Пусть знают, что невозможно заставить кого-то любить их, всё, что они могут сделать – это позволить себе быть любимыми... Пусть знают, что нехорошо, сравнивать себя с другими... Пусть учатся прощать, практикуя прощение... Пусть помнят, что ранить дорогого человека занимает одну минуту, но на лечение этих ран потребуется много времени... Пусть поймут, что богат не тот, у кого больше денег, а тот, кто нуждается в меньшем... Пусть помнят, что есть люди, которые их любят, просто они ещё не научились выражать свои чувства... Пусть помнят, что два человека могут смотреть на одни и те же вещи и видеть их по-разному... Пусть знают, что не достаточно простить друг друга, нужно ещё простить себя...
– Благодарю Тебя за то, что уделил мне время... Есть ещё что-то, что бы Ты хотел передать своим детям?
Бог сказал:
– Я здесь для них.... всегда…
Плата за игру. Исчезнувший сосед. Гл. 10
Полина Трофимова. Мария Шестакова Глава десятая Исчезнувший сосед Воспоминания приятны. Порой не хочется отрываться. Но жизнь идёт. Жизнь требует действий. Уже утром Лору разбудили звонки из разных учреждений. А потом снова посыпались какие-то намёки. Полуугрозы. Лора не могла понять. Действительно есть опасность. Или просто её хотят запугать. Цель ясна. Недвижимость мужа. Ради неё всё затеяно.
Вспомнила о соседе Юре. О его странном поведении. О его интересе к событиям того трагического вечера. Вспоминала и думала, почему не кончаются её беды, а только начинаются. Хорошо в воспоминаниях. Но мы часто так вот с нежеланием возвращаемся с вами из плавания в них в жизнь нынешнюю. Лоре довелось уже кое-что испытать былые времена, времена переломные, когда ломался старый советский порядок и зарождался порядок новый. Называли его демократическим, но каким был? Сами знаете. А времена такие для любой страны кровавыми становятся. Но вот началось возрождение с начала нулевых, да где ж это видано, чтоб время треклятое отступило без боя. Негодяям отступать некуда. Трудно было тем, кто жил в девяностые. Да ведь инерция девяностых преодолевается трудно. Как же распознать, кто теперь люди, а кто нелюди. Вот ведь овечкой прикинулся этот Юра-сосед. А кто на самом деле? Это Лоре не известно. Надо было выяснить. А как это сделать? Посоветовалась с подругой Аней. Сказала ей: – Знаю я то место, куда муж ходил. Раньше казино там было. Потом закрыли. А не осталось ли подпольное? Решила я подежурить у входа в казино. – Цель? – как всегда кратко спросила Анна. – Нужно найти этого самого Юру-соседа. Не зря ж он крутился возле мужа. А теперь совсем исчез. Тебя не удивляет? – Мало ли? Может, отъехал куда. – В квартире он не появлялся, как консьержка сказала. Машины у подъезда не видела ни разу. – Ну и что? Где искать? – Только в казино. Других не знаю мест. Но если там казино, то подпольное. Туда не войдёшь. Значит, надо посмотреть, ходит ли он туда. – Попробуй. И держи в курсе. Лора собралась. Выбрала одежду не яркую. Платок достала шерстяной, старый, ещё бабушкин. Она в платках никогда не ходила. Не узнает. Потом взяла машину у дочери. Юра-сосед вряд ли мог её видеть раньше. Была надежда, что не обращал внимания. И теперь не обратит. Вечером отправилась к зданию, где казино было прежде. Припарковалась так, чтобы видеть вход. Именно с этого входа они с мужем как-то и заходили туда. Шёл снег. Мягкий снег и липкий. Забивал лобовое стекло. Приходилось заводить мотор и включать дворники. Тянулись часы медленно. Лора была в напряжении. Страшновато было. Чувствовала, что голову суёт в пасть. Только вот в чью, не знала. Первый вечер прождала напрасно. Не появился. Второй и третий вечера оказались опять пустыми. Позвонила Ане. Та посоветовала бросить затею. – А что делать? Звонки, звонки. Телефон домашний выключила, а толку. Страшно. Почти как тогда, в плену. – Ну что могу сказать, подруга моя хорошая. Мне в голову ничего не приходит. Лора в ответ: – Решила наблюдать неделю, а потом будет видно. Не вечность же сидеть там. – Может, и напрасно просидишь. Мы ж не знаем, что за планы были у этого твоего соседа. А если спутал эти планы роковой выстрел? Я вот думала-гадала. Какой смысл мошенникам из казино доводить своего должника до самоубийства? Ведь тогда они ничего не получат… впрочем, посиди, коль зацепка одна. Только в нём. Был пятый день. И снова снег. Опять включила дворники. И вдруг. Вздрогнула прямо. Мурашки по коже: «Он! Точно, он!» Лора узнала его сразу, хотя вышел он из машины, которую не видела прежде. Во дворе ставил другую. Присмотрелась. Машина была престижной марки. Но, хоть снег мешал лучше разглядеть, видно, что не новая. Во всяком случае не в салоне приобретена. Да и номера выдавали давнюю регистрацию. Лора заядлая автомобилистка. Поняла всё это, разгадала. К тому же по номерам не московский регион. Вот какой, она, конечно, определить не могла. Нужна таблица. Лора позвонила Ане и сказала: – Он здесь… Только что вошёл в казино. – Сиди, жди, но не засветись. Посылаю к тебе сотрудника своего. Передашь ему, пусть проследит, куда тот поедет. А ты сразу ко мне. Приехал сотрудник, молодой человек. Роста был выше среднего, подтянутый, спортивного типа. – Я от Анны Ивановны, – сказал он в чуть опущенное Лорой окно. Она открыла дверцу и он, представился, садясь в машину: – Михаил. Так, где он? – Должен появиться из этой двери, – указала Лора, – Если, конечно, них там нет запасного выхода. А вот его машина, видите… Нужно записать данные. – Да, да, вижу. Запишу. А вы езжайте. Я припаркуюсь поближе. Давайте на ваше место встану. А вас Анна Ивановна ждёт в офисе. Анна была в офисе одна. Сразу предложила чай. Спросила, выслушав рассказ: – Так машина, говоришь, другая? – В том то и дело. Выходит, ещё кого-то нагрел. Расплатились машиной. Машина не новая, но… – Пробьём по номеру, хотя, не факт, что поможет. Наверняка по доверенности он взял, с правом продажи. Скоро избавится. Нужно спешить. Завтра позвоню… – Ну а сейчас? – Посмотрим, куда приведёт этот Юра нашего Михаила. Задребезжал мобильный. Ирина ответила: – Да, Михаил, да. Что такое? Как потерял? Думаешь, заметил? Нет? Просто манёвр на всякий случай… Выключив мобильник, сказала: – Ну вот… Ты, думаю, поняла? Потерял он этого Юру. Рванул он со светофора и сразу в другой ряд. Словом, все правила нарушил и ушёл. – Заподозрил слежку? Нет, не мог, – сказала Лора. – В мою сторону не посмотрел даже. Аня посмотрела на Лору и спросила: – Не мог видеть, как Михаил к тебе садился? – Говорю ж, он меня не заметил. Эту машину дочери он вряд ли знает. Мою, может, и видел во дворе, да только её продали… – Остаётся искать того, кого он облапошил, – сказала Аня. – Правда, не факт, что тот пойдёт на разговор. В доме так и не появлялся? – Нет. Наверное, у него ещё есть квартира. – Может, даже где-то рядом, – задумчиво сказала Аня. – Выкладывай, что ещё знаешь об отношениях этого Юры с твоим мужем. – Ничего особенного. Виделись в лифте или во дворе, когда с собаками гуляли. Однажды спросил, действительно ли мой муж таунхаусы строит. Заинтересовался, сказал, что есть какие-то идеи. Муж потом рассказывал, что познакомились поближе. Даже признался, что как-то играть ездил с этим Юрой. А через некоторое время я случайно узнала, что играют они как раз там, где сегодня его выследила. – Ну что ж, может он работал кем-то вроде зазывалы клиентов. – предположила Аня. – Меня удивило, что в тот день, когда муж, ну словом… Юра этот постоянно вертелся возле нас. То на нашем этаже случайно вышел, то в тамбур заглянул. И видно, что хотел понять, что произошло. А мы ходили, как ни в чём ни бывало. Мы не хотели, что бы кто-то из соседей что-то узнал. – Что же его интересовало? – Может, конечно, не одна шайка-лейка работала, а потому он и не сразу узнал о выстрел, – сказала Лора. – Или, может выстрел его планы нарушил. Но то, что он причастен, уверена. Вот только насколько причастен. – Да, я разделяю твою версию. Одни могли пытаться с него выбить деньги. Другие хотели довести до ручки, чтобы всё отнять у напуганных наследников. К тому же, если Юра даже что-то узнал о выстреле, мог не знать, каков результат. Может твой муж в больнице, а это, знаешь, не шутка. Вдруг да выложит следователям всё, что знает…. – В таком положении человеку лучше уж всё высказать сполна. Не даёт мне покоя фраза, что он этим выстрелом семью спас. Никак не даёт покоя. – сказала Лора с волнением. Анна хмыкнула: – Так мог бы и раньше обратиться за помощью в полицию. Почему не обратился? – Видно, не очень это ему было выгодно. Он успешно работал в строительной компании, был на хорошем счету. А там ведь, знаешь как, червоточинка появилась, ну и пиши пропало. Насторожатся, ход проектам не дадут. Он очень, очень дорожил своим авторитетом, своими связями. Наверное, и в этом направлении его шантажировали. Он ведь рисковым был – это точно, но и отчасти баловнем судьбы. Долгое время всё получалось. Это убаюкивает. Все неудачи, осечки, оценивал как бы с точки зрения грядущих успехов. Он ведь в конце девяностых заболел и чуть не оказался прикованным к коляске инвалидной. Так в те дни, когда стоял вопрос «или-или» твёрдо заявлял, что так жить не будет. То есть он понимал, что выпадет из обоймы успешных и окажется в другой нише. Этого пережить не мог, даже думать об этом не хотел. – Вот оно что, вот на чём его могли взять, – сказала Аня. – Не только угрозы убить там или что ещё. Пугали, мол, в случае если долги не вернёт, то обнародуем всякие факты! Мол, сделаем так, что от тебя откажутся, что слетишь с олимпа и всё. Это его пугало более всего. – Ну и конечно, опасения за семью, – вставила Лора. – Это точно. В этом я уверена. – Словом, взяли его крепко. Не мог отвертеться, – сделала вывод Аня, – И я всё больше убеждаюсь, что так уж как-то совпало, что взялись за него не одни. Бандиты разные взялись независимо друг от друга. – Да, похоже, что Юра просто воспользовался тем, что мужу позарез нужны были деньги, вот и втянул в компанию… Ну неужели не понимал, что денег там не получит, а последнее вынужден будет отдать. Анна заключила: – На сегодня хватит. Разговорами не продвинем дело. Завтра попробую Михаила отправить к казино. Вдруг повезёт. Продолжение следует.
"Испытание духа" ( Тentare Spiritum )

Бас - гитарист группы "ТРУД" Юрий Балакирев выпустил новую композицию для своего сольного альбома !
Над фото кнопка пуска.
Памяти АПЛ «Курск»
Вам русская доблесть в походе светила
Вам Русская доблесть в походе светила,
На подвиг Отчизна звала,
И Курской дуги, несгибаемой, сила
Священное имя дала.
И стала подлодка владычицей моря –
Царевной полярных глубин,
И гордо ходила в подводном просторе
Под шёпот могучих турбин.
Припев:
И снова уходят в бескрайние дали
Российские лодки в поход,
И подвиг героев, отлитых из стали,
В сердцах наших Русских живёт.
В холодных глубинах полярного моря,
Где скрыта туманами даль,
Застыла от боли, застыла от горя
Подлодки горячая сталь.
Отсеки и рубка затянуты илом,
На «Курске» огни не горят,
Но в войско Архангела Михаила
Зачислены души ребят.
Припев…
По Промыслу Бога с отвагою Россов
Вы приняли праведный бой.
Как дерзкий Казарский, как храбрый Матросов,
Россию закрыли собой.
И каждый, кто гордо зовёт себя Русским,
И кто не согнётся от бед,
Возьмёт пусть и доблесть, и мужество «Курска»
Потомству в пример для побед.
23 августа 2000 г.
АНГЕЛЫ «КУРСКА» ВАС БЕРЕГУТ
(Североморцам)
Грохот прибоя медленно смолк,
Скрылся в тумане Североморск,
Рубки ласкает нежно волна,
Лодки морская ждёт глубина.
Только под солнцем торопятся дни,
Тянутся долго в глубинах они,
Там тишина за кормою звенит,
Там не горят бортовые огни.
Припев:
Вновь провожает Северный флот
Атомоходы в дальний поход.
Плачет и стонет седая волна,
А под волною лишь тишина.
Вы из похода идёте домой,
Виден в тумане берег родной,
И шелестит, не смолкая, прибой,
Связан морскою с вами судьбой.
Североморск с надеждою ждёт,
Может, и "Курск" из похода придёт.
Стихнет печальная песня волны
Лишь на минуту святой тишины.
Припев:
Вновь провожает Северный флот
Атомоходы в дальний поход.
Будут спокойными детские сны
Под колыбельную песню волны.
23 августа 2000 г.
Матерям, сёстрам, жёнам, дочерям
экипажа атомохода "Курск"
И ПОДВИГ ВАШ МАТЕРИ БОЖЬЕЙ ПОДСТАТЬ
Суровая доля, высокая доля,
Священная доля Вам Богом дана,
И Вашею Русскою, твёрдою волей,
И мужеством Вашим гордится страна.
Из грозной пучины, студёной пучины,
Куда нелегко даже Солнцу взглянуть,
На Небо отправились Ваши мужчины,
Прервав свой земной героический путь.
Но знайте, родные, трагедия в море
Для Русских людей не прошла стороной,
И Ваших сердец безутешное горе –
То общее горе Отчизны родной.
Оставьте печаль, всё на свете от Бога,
И Ваши мужчины в Небесном раю
Пойдут по начертанной Богом дороге,
Но образ их с Вами, в родимом краю!
Так пусть же гордятся они сыновьями,
И с ними идут в океанский дозор,
И пусть же гордятся они матерями,
И стойкостью жён, дочерей и сестёр.
Великие женщины Русской Державы!
О, сколько же Вам довелось испытать!
Храните Вы честь, и не ищете славы,
И подвиг Ваш Матери Божьей подстать!
23 августа 2000 года.
Памяти экипажа АПЛ «КУРСК»
РЕКВИЕМ
Мы будем жить! Они за нас погибли,
И Дух Святой на Небо унесли,
Нет, не лежат они теперь в могиле,
А экипажем к Господу ушли.
Поставил в строй их с Русскими Святыми
Небесный Архистратиг Михаил,
И подвиг их стал Русскою Святыней,
И подвиг их врагов Руси сразил.
Мы будем жить под ясным Русским Небом,
Лишь потому, что Там живут они.
И помни, Росс! Когда б и где б ты не был,
По ним сверяй дела свои и дни!
23 августа 2000 г.
--
Николай Шахмагонов
Месть рогоносца
Под названием этого повествования можно вполне поставить «быль», ибо случай такой действительно имел место, и в войсках, в первую очередь Войсках Дяди Васи, ну а потом и во многих других знали.
Такие вот истории часто передаются, как легенды, а если легенда касается людей не только знаменитых, но и уважаемых и горячо любимых, то распространяются повсеместно.
Это было в то время, когда во главе ВДВ стоял Герой Советского Союза генерал армии Василий Филиппович Маргелов. То есть до 1979 года, поскольку, если бы часть продавшейся советской элиты не сумела добиться смещения Маргелова до афганских событий, то продолжались бы они не десять лет, а примерно часа четыре или где-то около этого. Он предлагал внезапно высадить дивизии ВДВ на перевалы и тогда бы никакие душманы никуда бы не ушли, да так бы и остались в кольце.
Но тут совсем другая история и мы ещё как-нибудь вернёмся к ней.
Это было точно до 1976 года, потому что история, о которой хочу вам рассказать, имела бы, возможно, иное завершение, случить она уже после того, как умер Андрей Антонович Гречко, а умер он весной 1976 года.
Загадки? Сейчас постараемся их разгадать.
Писать быль – означало бы рассказывать с точной привязкой к местности и называть героев настоящими их именами. А на форуме сайта люди по себе знают, что не всегда хотелось бы широко афишировать свою фамилию. Ну и понятно, что не стоит называть нам главного героя повествования, который, дай, конечно, Бог, чтоб ныне здравствовал. Пусть лучше узнает себя в герое повествования, а не будет принуждён отвечать на разные вопросы тех, кто прочтёт эту историю. О другом герое – партийном боссе, я меньше всего пекусь, но вот жену его называть было бы не корректно. Тем более, она стала дамой сердца отважного офицера-десантника. А он, как мне кажется, несмотря на случившееся, на десять и более голов превосходил жалкого партайгеноссе.
Итак, рассказ. Но напоминаю, что написан он не просто так. Автору удалось поговорить с теми, кто был в курсе того события.

И ещё раз напоминаю название.
Месть рогоносца
Добавлю, что перед вами, дорогие читатели, рассказ, а рассказ – это краткое повествование, порою, с вымышленными событиями и героями, порою только с лишь частично домысленными событиями и героями, назваными вымышленными именами.
Слишком много слов? Пора к делу? Пора, друзья мои, пора!
-*-
Вдали за лесом догорел закат, однако ночь не принесла прохладу, и накопленная за день духота не выветривалась из комнаты, даже через настежь распахнутую дверь.
Полковник Геннадий Посохов сидел в кресле у журнального столика, уже почти без всякой надежды глядя на безмолвный телефонный аппарат. Она так до сих пор и не позвонила. А ведь обещала не только позвонить, обещала вечером, невзирая на все преграды, прийти к нему домой перед его завтрашней поездкой в Москву, которая должна была решить его дальнейшую службу, а, следовательно, и судьбу.
Ведь для него, полковника Геннадия Посохова, заместителя командира воздушно-десантной дивизии, служба и судьба сливались в единое целое.
Вызывали его именно из-за неё, Ларисы Калюжной, а точнее – из-за них обоих, то есть из-за их отношений, получивших внезапную и весьма скандальную огласку. Утром Геннадию предстояло быть в штабе ВДВ. Вызывал же его в Москву сам командующий и вызывал, надо полагать, не для светской беседы.
Шутка ли. Он, полковник Посохов, завёл роман с женой секретаря обкома партии. Взбешённый партийный помчался в ЦК, поднял шум, и потребовал немедленной расправы над дерзким полковником, причём настаивал на изгнании его из Вооруженных Сил, желательно даже без пенсии.
Из ЦК, надо полагать, позвонили командующему ВДВ, топали ногами или бились о трубку телефонную, порицая полковника и, несомненно, поддерживали мнение рогатого секретаря обкома.
И вот ему, полковнику Посохову, без пяти минут командиру дивизии – он знал, что уже готовят представление о назначении – предстояло лишиться всего, чего он достиг за долгие годы нелёгкой службы.
На его долю выпало немало. Не их ли партийные промахи исправлял он в середине пятидесятых ещё младшим офицером в одной из взбунтовавшихся стран народной демократии, не партийных ли функционеров вызволял с горсткой подчинённых из осады в заводоуправлении одного из южных городов, где их заперли рабочие электровозостроительного завода, взбешённые наглостью обезумевшей от оттепели хрущёвской партийной элиты?
А потом, эти же самые партийные функционеры, спасённые не от гибели, ибо на их жизни никто не претендовал, а от позора, учинили провокацию на городской площади. Войсковые подразделения, участвовавшие в умиротворении разбушевавшегося города, были снабжены только холостыми патронами. Но в тот момент, когда были даны эти холостые залпы, да и то в воздух, с верхних этажей и чердака здания обкома по толпе ударили пулемёты…
Посохов был нормальным советским офицером, он никогда не отождествлял идеи социализма и советской власти с дурным исполнением и дурными исполнителями.
Советская Армия была как бы государством в государстве. В ней существовали свои законы, свои порядки и правила, зачастую гораздо более справедливые, честные и праведные, нежели в стране. Впрочем, понятия об этих законах, порядках и правилах, было своё, особое, принятое в офицерской среде.
Нарушил ли он эти негласные правила, заведя роман с женой секретаря обкома? Наверное, если бы не попалась столь высокопоставленная особа, никто бы и не обратил внимания на всё это. Конечно, политорганы могли взять на заметку, могли при случае и припомнить. Но в Воздушно-десантных войсках политработники были все-таки честнее, нежели в других родах войск, ведь они выполняли боевые задачи вместе со всеми и были в равных со всеми условиях, когда покидали самолет с парашютом, таким же точно, как и у рядовых солдат. Официально, конечно, блуд осуждался, но в обиходе похождения бывали зачастую предметом весёлых шуток и баек.
Геннадий Посохов никогда прежде не был уж таким ярым «ходоком». Бывали лёгкие флирты в санаториях, домах отдыха. Редко бывали, потому что он редко мог себе позволить выехать куда-либо. А дома – семья, дома – воспитание детей в редкие свободные от службы часы.
И надо же было попасть в оборот, как говорится, по полной программе. Скандал дошёл до жены, и она, собрав вещи, уехала к родителям. И вот Геннадий остался один, и не ведал теперь, приедет ли к нему сын в свой последний перед поступлением в высшее командное училище суворовский отпуск.
Начиналось же всё самым безобидным образом. Весной он лёг в гарнизонный госпиталь на обследование. И буквально на следующий день в то же самое отделение положил свою жену секретарь обкома, поскольку госпиталь был самым приличным лечебным учреждения области.
Впервые он увидел её в столовой. Она держалась гордо, независимо, с чувством собственного достоинства. Сосед по столу, весельчак и балагур, заметил:
– Глянь ка на блондинку, что за столиком у окна. Хороша!..
– Хороша-то хороша, но к такой запросто не подъедешь, – вставил другой сосед.
Посохов с усмешкой заметил:
– Можно подумать, что у неё что-то по-другому устроено.
– Вы что, ребята, – шепнули с соседнего стола, – То ж жена секретаря обкома.
– Ну и что с того? Подумаешь! Она что из другого теста что ли сделана? Может, ей даже в охотку. Надоела, небось, пресно-сладкая жизнь за зелёным забором обкомовской дачи, – предположил сосед, первым обративший внимание на блондинку приятной наружности.
Женщина словно почувствовала, что говорят о ней, и несколько раз посмотрела в их сторону, как показалось Посохову, именно на него. Он улыбнулся и получил в ответ обворожительную улыбку. Была она высокой, госпитальный халат плотно облегал её стройную фигуру. Пшеничная коса, переброшенная через плечо, достигала пояса, глаза – голубые. Ну, прямо классическая блондинка. Лицо – чуть продолговатое, с аккуратным и милым носиком и манящими губками.

В тот же вечер Посохов, воспользовавшись тем, что за её столиком освободилось место, перебрался к ней.
– Геннадий, – представился он, когда она пришла и, с некоторым удивлением посмотрев на него, заняла своё место.
– Лариса, – женщина и тут же спросила: – Отчего вы оставили свою весёлую компанию?
– Только ради вас?
– То есть?!
– Очарован вами с первого взгляда.
– Ну, уж, – Лариса покраснела. – Не надо так шутить.
– Истинная правда.
Она промолчала, но было видно, что ей приятно сказанное.
«Бог знает, – подумал тогда Геннадий, – что у неё там за муж и какие отношения в семье?! Может, держит её как птицу в клетке».
Не ведал он, сколь близок к истине.
После ужина он пригласил Ларису прогуляться. Она с удовольствием согласилась. Территория госпиталя, вытянувшегося вдоль реки, была хорошо ухожена. Длинная аллейка вела от приёмного отделения к дальним корпусам. От неё разбегались более узкие дорожки. Стоял май, было всё в цвету, и, казалось, сам воздух был напоён любовью.
Они шли, разговаривая на отвлечённые темы. Шли, не спеша, рядышком и, когда приходилось уступать дорогу встречным прохожим, он не без удовольствия касался её талии, словно для того чтобы поддержать и не дать оступиться на края дорожки. Геннадий знал, что её разместили в палате «люкс». Он сам рассчитывал занять эту палату, но, когда поступил в госпиталь, она оказалась уже забронирована. И вот на следующий день её заняла Лариса. Впрочем, его разместили, хоть и не в люксе, но в хорошей отдельной палате. Все же, как-никак, заместитель командира дивизии и одновременно заместитель начальника гарнизона, ибо командир дивизии по традиции был начальником гарнизона.
Гуляли они долго, а ему всё не хотелось расставаться с ней, да и ей, как будто бы, этого не хотелось. Геннадий теперь уже не мог вспомнить, о чём говорили они тогда. Помнилось лишь, что о чём-то очень приятном.
В корпус вернулись, когда уже совсем стемнело. Он проводил её до двери палаты и, слегка наклонившись, поцеловал гибкую изящную ручку. Сердце его при этом учащённо забилось, и он внезапно ощутил сильное желание обнять её и прижаться губами к её губам. Он выпрямился. Её глаза оказались почти на уровне его глаз, её губы – на уровне её губ. Эти обворожительные губки были близко, совсем близко. Чуть приоткрытые, слегка подведённые ароматной помадой, они притягивали с необыкновенной силой. Её рука оставалась в его руке, и он ощущал лёгкую дрожь. Усилием воли он заставил себя откланяться, а потом ещё долго сидел в своей палате, не зажигая огня и сожалея, что не попытался сделать решительный один шаг к сближению. Ему казалось, что если он сейчас под любым благовидным предлогом, а то и просто без предлога, постучится к ней в палату, она впустит его и вряд ли уже прогонит. Мысли об этом были просто нестерпимы. Он даже встал, подошёл к двери, но затем вернулся и сел у окна. «Нет, спешить не нужно. Можно всё испортить. Всему своё время».
Они встретились утром на завтраке. Её взгляд изменился. Она смотрела на него как-то очень тепло, и немножечко даже пристально, словно пытаясь ответить на какие-то свои вопросы.
Затем были и обход, и лечебные процедуры – словом всё, что положено в госпитале. После обеда к ней приехал муж. Посохов ушёл в свою палату, прилёг на кровать, взял книгу, но что-то совсем не читалось. «Нет, положительно, подобные женщины мне ещё не встречались, – подумал он и тут же задал вопрос: – Да что же в ней такого особенного? И что ей до меня? Жена секретаря обкома. Секретарь обкома и замкомдива – должностные величины несравнимые.
Она сама постучала к нему в дверь.
– Я принесла вам книгу, о которой вчера говорила. Почитайте, вам понравится.
Посохов сразу и не припомнил, о какой это книге она рассказывала, тем не менее, поблагодарил и пригласил войти.
– Нет, нет, спасибо, – чуточку испуганно проговорила она. – Пойдёмте лучше погуляем.
– Гости от вас уже уехали? – спросил Посохов, умышленно не упоминая слова «муж».
– Это муж заезжал. Кое-что привёз. Буквально десять минут был. Ему сейчас не до меня. Свобода. Есть, кем заняться.
«Так, первая информация для размышления уже получена», – подумал Посохов, но сделал вид, что не обратил внимания на последнюю фразу.
Сказал лишь:
– Что ж, гулять, так гулять. Буду готов через пять минут.
Они снова бродили по аллейкам, сопровождаемые любопытными взглядами. Его знали многие, а кто-то уже знал, что рядом с ним жена секретаря обкома. Не каждый день в госпитале появляется высокое начальство, и уж тем более сам секретарь.
– Муж сказал, что уже приготовил мне путёвку в санаторий, чтобы завершить лечение, – сказала она как бы невзначай.
– И в какой же? – поинтересовался Посохов.
– В Сочи. В санаторий четвертого главного управления.
– Знаю такой. Он недалеко от нашего Центрального военного имени Ворошилова, – сказал, и тут же подумал, что недурно бы тоже попросить путёвку в Сочи, в Ворошиловский. Тем более, в конце мая вполне могли отпустить в отпуск хотя бы на срок путёвки.
Впрочем, говорить о том не стал. Не знал, как воспримет. И вдруг она сама спросила:
– А вы в этом самом своём санатории Ворошиловском бываете?
– Случалось, отдыхал, – ответил Посохов.
Их взгляды встретились. Казалось, они в это мгновение подумали об одном и том же. В тот день они гуляли до самого ужина, а вечером опять вышли на улицу. Лариса словно ждала чего-то, ждала какого-то его шага, а он всё не решался его сделать.
Когда вернулись в корпус и шли уже по коридору, Геннадий обратил внимание на то, что дежурной медсестры нет на месте. Видимо, отошла по делам. Когда Лариса открыла дверь, он решительно шагнул в палату и увлёк её за собой, даже не спросив на то разрешения. Они остановились у двери. Казалось, он слышал её прерывистое жаркое дыхание. Ключи она держала в руках. В госпиталях запираются только палаты люкс, и только в палаты люкс медсёстры не заходят уверенно и по хозяйски, а вежливо стучат и просят разрешения войти. Они ещё ни о чём не говорили, но бывают моменты, слова излишни. Геннадий осторожно взял ключ из её руки и, вставив в замочную скважину, повернул.
Лариса тихо без возмущения, а как-то очень покорно спросила:
– Зачем вы это сделали?
– Не знаю, – прошептал он. – Само получилось. Когда вы рядом, невозможно мыслить здраво и рассудительно.
– Даже так?! Вы преувеличиваете, – прошептала она.
– Нет, я говорю правду…
Они по-прежнему стояли рядом, и снова губы её были почти на уровне его губ. Он взял её за плечи и резко притянул к себе. Губы слились в горячем поцелуе. Она отклонилась назад, словно падая, и он, легко подхватив её на руки, сделал два шага, чтобы положить её на кровать.
– Что вы делаете? – прошептала она, когда её губы на какие-то мгновения освободились от поцелуя, – Что?..
Геннадий поспешил замкнуть её уста горячим поцелуем.
…Она была почти не искушена в интимных науках... Отдельные её фразы и обрывки фраз проясняли причину. За внешним лоском высокой должности скрывались в её муже неотёсанность и серость. Он даже любить не умел, во всяком случае, свою жену.
Она имела более чем серьёзные подозрения, что он питает плотские чувства к своей секретарше, столь же, как и он, по словам Ларисы неотёсанной и грубой. Геннадия несколько огорчало и даже обижало то, что Ларисы, возможно, пошла на близость с ним в отместку мужу, а не от чувств. Впрочем, о каких чувствах можно было говорить на второй день знакомства!? Ведь и у него пока ещё вряд ли могли появиться какие-то чувства.
Лариса была начитана, развита, даже, можно сказать, умна для жены партийного боса хрущёвского разлива. Хотя вульгарные словечки иногда срывались с её губ.
– Мой муж не мужик… Так, размазня какая-то, тряпка. Я в тебе впервые увидела настоящего мужика.
Вот это грубое «мужик» как-то не очень звучало в устах элегантной женщины.
– Я у него вторая жена… Мой отец работает в ЦК, на высокой должности. Это он его вытянул в секретари. У отца, кстати, тоже сейчас вторая жена. Я от первого брака. От второй жены у него две дочери.
– И развод ему не помешал продвижению по службе? – поинтересовался Геннадий.
– Кому? Отцу? Он не разводился. Моя мама рано умерла. А муженёк мой развод сумел оправдать. Доказал, что жена изменяла ему, вроде как он оправдался. О, теперь я её понимаю! Как я её понимаю теперь. Ему грех не изменить.
– Давай не будем об этом, – проговорил он.
– Не будем, конечно, не будем, – проговорила она, поворачиваясь к нему.
Лишь под утро он осторожно приоткрыл дверь и, убедившись, что дежурная медсестра дремлет за столиком, прошмыгнул в свою палату.
С того дня их упражнения в её палате люкс стали ежедневными, и Геннадий чувствовал, что всё более и более привязывается к ней. Она была способной ученицей…
Что случилось? Что было с ним? Любовь? Вряд ли бы он мог ясно ответить на эти вопросы. Было какое-то наваждение. Когда пришла пора выписываться, он всеми правдами и неправдами остался ещё на несколько дней, якобы, для дополнительных обследований. На самом же деле в нём проснулась необузданная ревность. Он с ужасом думал о том, что после его выписки кто-то другой может стать горячим поклонником палаты «люкс» и её хозяйки, хотя не давала поводов так думать. Он сумел выписаться через два дня после её выписки. Но эти два дня, которые он провёл в госпитале уже без неё, превратились для него в сущую каторгу, ибо он не мог не думать, что пока он валяется один в своей палате, она проводит ночи в объятиях мужа. К мужьям он своих прежних возлюбленных никогда не ревновал.
Ему удалось взять путёвку в Военный санаторий имени Ворошилова, и выехать в Сочи вслед за Ларисой. Влюблённые, охваченные столь необузданной и неуёмной страстью, зачастую теряют ощущение реальности, и у них притупляется чувство опасности. Вряд ли остался незамеченным их бурный роман в госпитале. Но там народ далёк от обкома, и информация о романе не могла достичь обкомовских сплетниц и сплетников. Чувство опасности притупилось настолько, что в Сочи они и вовсе ни от кого не таились. Да и от кого таиться? Другой город, причём город, где курортные романы вовсе не внове. Но в санатории, где отдыхала Лариса, нашлись недремлющие глаза и уши. И потекла информация по партийным источникам. Повезло ещё, что она не достигла заинтересованных лиц слишком рано. Когда Калюжный узнал о похождениях жены, он хотел сразу лететь в Сочи, но было уже слишком поздно, и, поразмыслив, он решил встретить голубков прямо на вокзале. Тем более информированные источники сообщили день и час отъезда Ларисы из славного города Сочи, а также же о том, что едет она в спальном вагоне, да не одна.
На вокзал Калюжный посчитал необходимым пригласить и жену Посохова, мол, не одному же мучиться ревностью. Пусть и она поглядит. Одним словом, шоу готовилось яркое. Но что можно утаить от десантников? Вскоре о замысле Калюжного стало известно командиру дивизии, и хотя тот имел все основания досадовать на своего подчинённого, столь упрямо совавшего голову в петлю, он принял все меры к его спасению. И вот, когда Геннадий и Лариса наслаждались последними всплесками близости, ибо поезд отошёл уже от предпоследней станции, и ещё через остановку предстояло покинуть временное гнёздышко и надолго оторваться друг от друга, в дверь купе настойчиво и резко постучали.
– Кто там? – с досадой спросил Геннадий.
– Товарищ полковник, это я…
Посохов по голосу узнал заместителя начальника штаба.
– Сейчас выйду, – ответил он.
Выслушав офицера, рассказавшего о подготовленной на вокзале более чем торжественной встрече, Посохов с благодарностью подумал о комдиве. Да, в этой обстановке можно было предпринять только то, что тот советовал – выйти на следующей станции и потом, через пару часов, преспокойно приехать в город на любом последующем поезде.
Своеобразных торжеств на вокзале удалось избежать, но дома Посохов жены уже не застал. На столе лежала записка, содержание которой соответствовало тому, что он совершил. Жена уехала к родителям и, судя по тону, полагала, что уехала навсегда. Он даже не знал, огорчаться этому или нет, поскольку опьянение Ларисой ещё не выветрилось ни на йоту.
На службу Геннадий вышел уже на следующий день, хотя оставалась ещё неделя до окончания отпуска. Комдив сразу услал на полигон, дабы избежать возможных эксцессов с обкомом. Но обиженный босс вовсе не собирался выяснять отношения лично. Он решил стереть в порошок своего обидчика с помощью высших партийных органов.
Лариса, с которой удалось созвониться в один из дней, с ужасом говорила о планах мужа, о том, что он непрерывно названивает в Москву не только со служебного, но и с домашнего телефона и все кого-то убеждает включиться в дело наказания своего обидчика.

А потом на полигон приехал командир дивизии и сказал:
– Собирайся. Вызывает сам командующий. Видно Калюжный добрался до высоких инстанций.
От Ларисы Посохов узнал, что муженёк её тоже отправился в Москву. Было ясно, что Калюжный весьма преуспел в исполнении своего плана.
– Я хочу тебя увидеть до отъезда, – говорила Лариса.
– Так приходи сегодня вечером ко мне, – предложил Посохов. – Я сейчас выезжаю в город.
– А как же…
– Я один. Жена уехала навсегда, – пояснил он. – Тебя в нашем доме никто не знает. Да и вообще, какая теперь разница…
– Хорошо. Приду, обязательно приду, – пообещала она. – Как только уедет в Москву, а он собирается уже сегодня, я сразу к тебе. Перед выходом из дома позвоню.
И вот он сидел перед телефоном в томительном ожидании. Как же ему хотелось сейчас прижать её к себе, стиснуть в объятиях, как же хотелось снова насладиться её неподражаемым телом.
Пропищал приглушённый транзистор, и диктор объявил: «В Москве полночь». Геннадий вышел на балкон. Наступил день, который, судя по всему, будет последним днём его службы. Быть может, уже завтра командующий отстранит его от должности и начнётся долгая и нудная процедура увольнения в запас. «Неужели она не придёт? – с горечью подумал он. – Да, уже слишком поздно». И всё-таки надежда оставалась.
Он прошёл в спальню и лёг, не раздеваясь. Пытался успокоиться, но тщетно. Раздражали духота, писк комара, который умело маскировался, стоило зажечь свет. Мысли не давали покоя. Вот уже более двух месяцев он жил в каком-то ином праздничном мире, мире, с доселе незнакомыми ощущениями и красками. Этот мир подарила ему женщина, которой он сначала увлёкся со всею нерастраченной страстью, а потом полюбил. Да, он полюбил её – это сейчас осознавалось отчётливо и ясно. И теперь он даже представить себе не мог, что его ждёт, что ждёт их отношения с Ларисой.
Он всё-таки задремал, но едва сон стал окутывать его, пронзительно зазвонил телефон. Геннадий схватил трубку, надеясь услышать голос Ларисы, но там прозвучал жёсткий мужской голос: «Вас вызывает третий!».
– Что? Кто? – машинально повторил он, прежде чем до сознания дошло, что дивизия поднята по сигналу сбор, то есть, по боевой тревоге.
Лишь после окончания учений Геннадий Посохов выехал в Москву. Он прекрасно знал, что генерал армии Маргелов крут, жёсток, но более всего вызывало опасения другой. Было у этого отважнейшего и отважных, храбрейшего из храбрых и ещё одно качество. Он слыл примерным семьянином, человеком, никогда не разменивающимся на какие-то похождения и знакомства.
Что же было ожидать от этого вызова? Он даже представить не мог, что услышит из уст Маргелова, и что ждёт его в дальнейшем, тем более он понимал, какое давление оказывается с немыслимых партийных высот.
Укорял ли он себя за то, что произошло? Да, но только потому, что мог расстаться со службой, которая была его жизнью. Ну а то, что он поступил так в госпитале? Это вопрос. Он не любил вспоминать годы свои лейтенантские, не любил вспоминать то, что произошло в его семье в те годы, но теперь мог решаться лишь один вопрос – вправе был отвечать на некоторое, мягко говоря, вольное по младости лет поведение жены, или честнее было сразу поставить точку.
…Он так и не успел додумать думы свои. Вот и кабинет Маргелова. Посохов попросил доложить, о том, что прибыл, и тут же получил разрешение войти.
Вошёл, вытянулся в струнку. Доложил.
Маргелов сидел за столом и молча смотрел на него, испытующим взглядом.
Посохов украдкой осмотрелся. В кабинете стояла перекладина. «Значит, не придумывали насчёт этого, – мелькнула мысль. – Значит, испытывает Дядя Вася своих подчинённых и таким вот образом.
– Ну что, полковник, здоровья много и силы много?
– Так точно!
– А ну давай, покажи силушку, – и кивнул на перекладину. – Сколько раз подъём переворотом сделаешь?
– Разрешите снять китель? – спросил Посохов и, получив кивок в ответ, слегка подпрыгнул, крепко ухватился за перекладину и стал выполнять упражнения.
– Достаточно, молодец, – сказал Маргелов, когда посохов просчитать про себя «десять». Ну, так и что ты хочешь? Что пришёл то? – в уголках губ генерала появилась лёгкая усмешка.
– Вы приказали прибыть… Только очень прошу, накажите, но не увольняйте.
– Увольнять? Гм-м.
Маргелов подвинул к себе телефон, набрал номер и заговорил со своим добрым товарищем генералом… вот только Посохов точно не запомнил с Лащенко или Лященко. Были такие генералы в высоких званиях. С одним из них Маргелов, видимо, дружил и любил вот так пообщаться.
А Маргелов говорил:
– Ну что, как там твоя пехота? А меня вон какие молодцы. Замкомдива партийному босу рога наставил, а теперь спрашивает, что же делать. Так я ему при тебе и отвечу.., – и, повернувшись к Посохову, сказал – Иди, служи, полковник, да так командуй, как на минувших учениях командовал!
Посохов не сразу поверил в услышанное. Не знал он, что этому вот решению Маргелова предшествовало многое, предшествовал и разговор с Министром Обороны Андреем Антоновичем Гречко, красавцем Маршалом Советского Союза, который, правда исключительно по легендам, вовсе не чурался женщин, и потому сумел убедить Брежнева в том, что наказать полковника накажут, но увольнять из армии таких ребят – вред для самой армии.
Посохов возвращался в дивизию, вспоминая разговоры в штабе со своими друзьями-однокашниками, которых обошёл на радостях. Вот один и рассказал ему:
– Такой вот у нас Батя, любит удивить нежданным поворотом. Тут один лейтенант молодой, приехал в Клин в отпуск, да познакомился с девицей. Ходили, гуляли, а зима была, замёрзли. Увидели какой-то дом, в окнах света нет. Решили, что дача. Десантнику пустяки проникнуть. Ну и даму свою туда же протащил. Нашли комнату с большим «полигоном», ну и устроились там. Да так намаялись бедные, что уснули. А утром – экскурсия! Вот так их разбудили, в этакой интересной позе! Оказалось, что в дом-музей попали, старое ещё здание. Тоже политрабочие вой подняли, мол, гнать надо такого, гнать. Ну вызвал его Батя, посмотрел. Ну и другу своему позвонил, да и рассказал, с некоторой солдатской приправой. А лейтенанту, как и тебе, Гена, сказал – иди, мол, служи!»
Посохов только и спросил:
– И не наказал?
А приятель в ответ:
– Вот тебе надо, что наказал? Или и так довольно? Переживал, небось!
– Не то слово!
– Впредь умнее будешь.
– Точно. На всю жизнь наука, – ответил Посохов, но было непонятно, что имел в виду под наукой этой – больше ни на кого, даже и взглянуть не захочет, или поглядывать будет с особой осмотрительностью.
Конечно, у читателя может возникнуть вопрос, что стало с возлюбленной десантника? Но, увы, об этом легенда молчит, а тут уж домысливать – голову сломаешь.
Плата за Игру. Глава девятая
Девятая глава детективного романа «Плата за игру». Неожиданный удар
Во время занятий в части к нему неожиданно прибежал посыльный из штаба и сказал, что зовут к телефону. По делу очень важному. Даже начальство разрешило уйти с занятий.
Андрей шёл в штаб, ломая голову: кто звонит и зачем.
Но когда пришёл в штаб, связь уже прервалась.
– Откуда звонили? – спросил Андрей.
– Из Сочи, – сказал офицер.
– Из Сочи?! – Андрей почувствовал тревогу, ведь в Сочи была Лора.
Он долго ломал голову, что могло случиться. Как могла найти номер телефона? Потом вспомнил, что во время своего дежурства дал ей. Она уходила к подруге в гости и обещала оттуда позвонить. Тогда не мог понять, почему Лора любит звонить из гостей. Она звонила от подруги, от мамы. Из дому что ль хуже? Но даже подозрений тогда не закралось.
Когда они встречались, Лора вся сияла. Он чувствовал, что она любит, и сам любил её всё сильнее.
Постепенно успокоился. Ну, мало ли зачем звонила? Может, сказать, что соскучилась. Ну а насчёт важного дела? Так иначе не позовут.
Пришёл домой. Стал собирать вещи. До отпуска осталось несколько дней. Он уже мечтал о поездке. Как они встретятся там, на берегу моря! Как будут вместе купаться, загорать! Как будут гулять по вечернему городу! И всё остальное.
Зазвонил телефон. Андрей взял трубку и услышал незнакомый женский голос. Срывающийся голос.
– Андрей, Андрей – это подруга Лоры Аня. С Лорой беда, понимаете, беда.
– Что случилось? – перебил он. – Говорите же…
– Лора пропала. Её, её украли…
– Как пропала? Кто украл? Говорите толком, пропала сама или украли? Что случилось? – спрашивал Андрей, машинально проясняя обстоятельства конкретными вопросами.
– Да она, там, в Ревьере, взяла фишку, ей подкинули…
– Девушка, дорогая, – снова перебил Андрей, беря себя в руки и настраивая на строгий деловой лад. – Успокойтесь и расскажите всё по порядку. Какая фишка? Кто подкинул? Не пойму ничего.
Ну а дальше был его полёт в Сочи. О нём, дорогой читатель, мы уже рассказывали. Потому не будем повторять все воспоминания, которые нахлынули на Андрея в тот вечер.
Он прилетел, узнал, в каком корпусе, и в каком номере отдыхает Лора. Узнал и о том, что она замужем…
Что ещё нужно было для полного счастья?! Удар! Нежданный удар! И всё же он решил спасать возлюбленную. Возлюбленную? Не мог ответить на вопрос: возлюбленная она ещё или уже нет.
Андрей прошёлся по комнате, включил и затем выключил телевизор. Потом отправился на кухню. Завтра ему не надо было идти на службу. Был отгул.
Достал небольшой бокальчик. Но выпивать не стал. Для того чтобы помочь Лоре теперь, нужна была чёткость мыслей. Как тогда, в Сочи.
А ведь там ситуация была безвыходной. И более чем.
После парка «Ревьера», проводил подругу Лоры в санаторий. Ему удалось запомнить нескольких человек из явно преступной компании. И он поехал к другу всё обмозговать. Тот был заместителем генерального директора. В прошлом военный. Вместе в Афганистане воевали. Только друг, Николай Бахметьев, по политической части служил. Когда вернулся в Союз, оказался каким-то образом в медицине. Для политработников особой разницы, конечно, нет. Вот и назначили. Дослужился до Сочинского военного санатория. Там был замполитом, потому уволился. Устроился заместителем генерального директора в обычный санаторий. Санаторий был в центре Сочи. Корпуса не новые.
Николай встретил Андрея в небольшом кабинете. Он был на втором этаже. Административный корпус стоял в сторонке от жилых, рядом с лечебным. Корпус должно быть дореволюционной постройки. В крайнем случае, довоенной. Может, даже чей-то частный дом. В прошлом. Да и планировка говорила о том же.
Высокая и узкая дверь выводила не небольшой балкончик с резными перильцами. Аромат тёплого южного вечера врывался в кабинет.
– Что стряслось? – спросил Николай. – Из телефонного разговора с тобой ничегошеньки не понял.
– Одни загадки, – ответил Андрей. – Сейчас попробую рассказать.
– По дороге расскажешь, – сказал Николай Баметьев. – Номер тебе подготовили. Пойдём, провожу.
Он выдвинул ящик стола, взял ключи и встал:
– Пошли, пошли.
Они вышли из здания. Пересекли небольшую площадку с шумящим в темноте фонтаном. Остановились перед серым трёхэтажным зданием.
– Обожди, – попросил Николай. – Дай докурю. А ты пока рассказывай.
Андрей выложил всё, что ему было известно, и спросил:
– Как ты думаешь? Есть за что зацепиться?
– Пока не знаю. Пойдём. В номере поговорим, – сказал Бахметьев.
Они поднялись в номер. Номер оказался очень приличным и удобным. Андрей оценил заботу боевого друга.
Открыв небольшой чемодан, поставил на стол бутылку хорошего коньяка. Спросил:
– Не возражаешь?
– Отчего ж? Даже нужно за встречу.
Андрей положил на стол нарезки, которые купил по дороге, лимон, ещё кое какие фрукты.
– Ну что скажешь? – с надеждой спросил у Николая.
– Ничего хорошего. Действительно после таких вот игр люди бесследно исчезают.
– Не понимаю, то есть как бесследно?
– А милиция?
– Что милиция? – в тон Андрею переспросил Бахметьев. – Не видишь, что творится вокруг.
– Но почему никто никаких мер не принимает?
– Бывало, шум поднимался, да ведь ни одного свидетеля нельзя было найти. Время такое.
Андрей с возмущением спросил:
– Что ж, у вас тут никакой власти?
– А у вас? – задал встречный вопрос Николай.
Андрей не ответил. Андрей просто махнул рукой и взялся за бокал.
– Давай, за встречу.
– И за успех нашего безнадёжного дела, – дополнил Николай.
Выпили, слегка закусили. Николай продолжил разговор:
– Я с каждым новым заездом по поручению директора беседы провожу. Примеры там всякие, страсти рассказываю. Но отдыхающим, как ведь. В одно ухо влетело, а в другое вылетело.
– А что бывает с теми, кто попадает в такие переплёты?
– Говорят разное. Кто во что горазд. Ужастики всякие плетут. В рабство этих дамочек продают, в рабство.
Андрей с возмущением переспросил:
– Средневековье что ли?
– Средневековье, говоришь? Отвечу! Может и хуже. Говорят, что вот таких беспечных дамочек сначала облапошивают, а потом просят пройти к машине, чтобы адрес записать. А там заталкивают в машину, кляп в рот и в горы. Работы там хватает.
– Какой работы? – спросил Андрей.
– Всякой.
– То есть и…
– Не обязательно только и… – слегка передразнил Николай. – На плантации увозят. Дармовая рабсила везде нужна.
– Значит, может, просто работа без всего этого.
Николай Бахметьев усмехнулся:
– Без чего этого? Ладно, не кипятись. Понимаю, что имеешь в виду. Ничего не могу сказать. Кому как карта выпадет. Только одно известно. С этим делом, не с этим, а только оттуда пока ещё никто не возвращался. Небось, обещают отпустить за хорошую работу. Мол за долги поработаешь и свобода. Да только кто ж отпустит? Это им кранты тогда. Ну а что б другие верили, могут и «отпустить». На другую точку перебросить. Ну не знаю я, говорю, никто не возвращался.
– Ну что же мне делать? Как вырвать её из этих лап? Выкупить?
Подумав о выкупе, Андрей стал размышлять, кому звонить, у кого занимать деньги.
– Что ты, какой выкуп? Для выкупа они знают, кого брать. А тут им что выгорит? Мелочиться не будут. В работницы взяли.
Андрей потянулся к бутылке с коньком, наполнил рюмки. Хотелось снять напряжение.
– И всё-таки выпьем за успех. Надо же что-то делать.
– Вот-вот, пить за успех только и остаётся, – сказал Николай и тут же поправился: – Ладно, ладно. Это я так.
– Взять тех отморозков в парке, да тряхнуть, как следует, – не унимался Андрей.
– Ты их знаешь? Или всех подряд трясти будешь? Давно бы тряхнули, если могли.
– Если б захотели – так вернее, – возразил Андрей. – Что ж и узнать некому? А экскурсовод, а фотограф?
– Экскурсовод, как ты сам сказал, пожилая женщина. К тому же местная. У неё дети, внуки здесь. Всякая родня. Она не станет. Нет не станет, – уверенно сказал Бахметьев. – Да как тут докажешь?
– Значит, облаву сделать!
На это предложение Андрея его друг не ответил. Махнул рукой и разлил коньяк по бокалам.
Андрей и сам понимал, что его предложения бессмысленны. Если бы местные власти захотели, давно бы прикрыли эти лавочки напёрсточников и прочих мошенников. Не только мошенников, но преступников. Но те преспокойно обдуривали людей на глазах милиции. И всё, как с гуся вода. Эх, лихие девяностые! Сколько люди натерпелись! Чего только не натерпелись! Хорошая прививка против цветных революций. Не забыли бы.
– Убеждён, что есть выход и я найду его, – сказал Андрей.
Верил ли он тогда, в те минуты в сказанное им самим?
-*-
Андрей снова оторвался от воспоминаний, снова прошёл по квартире, посмотрел на компьютер и подумал: «Это надо записать. Всё это надо записать! А для чего? Кому надо? Да что я – надо не надо?! Надо, надо, чтоб не забыли ту страшную прививку».
Он включил компьютер, сделал файл и стал записывать. Он решил записывать хотя бы понемногу каждый день. А потом, может быть, отсылать ей?
И у него осталось в сердце то памятное лето. Яркое начало и нелёгкое завершение.
Быстро дописав до своей встречи и беседы с Николаем, выключил компьютер. Выключил даже некоторым усилием воли. Отрываться не хотелось. Но надо было спать. Он умел заставить себя абстрагироваться от того, что мешало, к примеру, заснуть. И умел заставить себя заснуть.
А вот Лора заснуть не могла. Она ещё долго лежала с открытыми глазами. Глядела в одну тёмную точку.
Когда её выволакивали из машины. Именно грубо выволакивали, пришла в себя. Сознание вернулось. Но это было ужасно. Втолкнули в сарай. Внутри темно. Сзади загремел засов. Дверь, не дверь, а целые ворота. Створка ворот. Её закрыли.
Глаза медленно привыкали к темноте. Кругом лежали люди. Они спали. На чём спали? На каких-то подстилках. В темноте не было видно. Кто-то похрапывал. Кто-то стонал.
Она растерянно стояла. И вдруг услышала разговор за дверью. Язык не поняла. Но каким-то чутьём догадалась, что говорили о ней. И догадалась, что неспроста. Кто-то требовал, а кто-то возражал.
И тут пришла в ужас. Иногда мелькали русские слова. Кто-то требовал, чтобы новенькую дали на ночь кому-то. И поняла, что дадут. Она пошла вперёд, стараясь не наступить на спящих. Бросилась на землю, найдя место свободное, и стала мазать лицо землёй, травой.
Дверь открылась. Вошли с фонариком. Пошли, светя на людей. Посветили и на неё. Скользнул луч и метнулся дальше. Не признали. Грязная, спящая. Значит, не новенькая. А почему грязная? Работа? Её привезли работать?
Чуть-чуть отлегло. Не в притон. Но выход? Есть ли он? И никто не знает, где она. Не знает Андрей, который приедет через несколько дней.
Сколько лет прошло, а стало жутко Лоре от воспоминаний. Она пошла на кухню. Накапала валокордина. Только так сумела заснуть.
(Продолжение следует)
Матерь мира
Геннадий Лучинин
МИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ МАТЕРЬ МИРА
Дивное диво происходило кругом – до тех пор, пока я не почувствовал его и в себе... И не сразу понял – и сейчас не знаю наверняка – сказка это была, или же была это самая настоящая и живая быль, перенесшая нас – по всей видимости – далеко вперед. Или – не очень далеко... В день сегодняшний.
1.
А теперь послушай... Все, что с нами происходит – и то, что происходит помимо нашей воли – происходит по Верхнему Промыслу и происходит затем, чтобы нас созидать до новых качеств, ступеней и состояний, которые предусмотрены для каждого из нас на пути нашего бесконечного роста до ИЗБРАННЫХ НАМИ вершин. Я пишу это тебе не затем, чтобы повлиять на тебя и приблизить к себе искусственным путем, ибо всему свое время. А пишу я это затем, чтобы не забыть. Ибо такие вещи не повторяются дважды.
И, не сказав их раз и другой, следующего раза может и не быть. Ибо то, что идет, есть ДОВЕРИЕ. А мое дело – передать без искажений. Ибо это уже промысел – и он мой, и – на какой-то очень серьезной стадии осмысления – уже не мой.
Начав с утра эти размышления и с ними в основном определившись, я вышел в лоджию и увидел восход, который еще, как из печи пирог, поджидал свое солнышко, но его еще не было. И это ничего – ровным счетом ничего не значило, ибо оно чувствовалось уже во всем и, казалось, – вот-вот заступит на свою повседневную службу. Сама река с фрактальными линиями окружающих ее деревьев была еще темна и черты ее прибрежные почти не проглядывались, только что глазки – кое-где – не проблескивали, а проступали туманными белками, и тогда было понятно, что здесь река.
Затем заречные дали стали все же проступать, придавая ясности рисунку, но – совсем чуть, сохраняя ту таинственность, от которой – только глянув – невольно задерживаешь дыхание. Едва отвернулся я от вида очарованного, и глянул через минуту-другую вновь, как снова увидел изменение. Солнце было уже на своем положенном месте, и над ним появился сине-алый просвет, разрастающийся кверху позолотой, которая оперяла и сбрызгивала робко наметившуюся полоску облаков и разрозненные клочки над ними.
Сделал с десяток снимков, поддавшись этому очарованию, включил компьютер и чайник, вернулся – и вся картина была опять уже другой, ибо от прежней не осталось и следа. Деревья ближнего ряда на этом берегу проявились очевиднее, но весь окоем за ними был погружен в глубокий туман с глубоким отсветом нежных ало-фиолетовых оттенков, и единственно, что оставалось еще в поле моего обозрения, было солнце – как самое ответственное лицо и настоящий очевидец происходящего. Но скоро не стало и его...
Вот так и течет теперешнее время, ускоряясь с каждой минутой, и то, что казалось нам прежде простым и незыблемым, как Вечность, которой некуда спешить, показывает нам теперь поминутно и свой характер, и постоянно меняющуюся реальность. Потому что мы отстаем – от Времени и от самих себя. И той Необходимости, которая взяла нас ныне под руку, чтобы мы ускорились.
И эта нынешняя реальность, оставляющая для нас только отпечатки своего извечного пребывания на кратковременных свитках нашей жизни, ныне кажется нам иной, категорически иной – требующей к себе особого нашего внимания и внутреннего самопогружения, и такого же средоточения. На том, что поминутно происходит внутри и вне нас.
А то, что происходит, есть череда событий, меняющихся, как это утро, у нас на глазах, и не знающих, что каждую минуту НАС ЖДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ. А вот какое оно есть и будет, до времени-до поры – тайна. Ибо то, что происходит с нами прямо здесь и сейчас, зачастую требует от нас либо собственных осмыслений, либо пояснений извне.
2.
То, что я сейчас рассказываю, можно воспринимать как прямое письмо к тебе – мой явленный ангел, можно воспринимать и как очередную новеллу, адресованную любому из читателей, желающих снова и снова открывать двери в Неизведанное. Ты ведь помнишь неожиданность, которой я называю твое появление на нашем местном горизонте, озаренном этими событиями? Концерт, городище и моя галерея, где я представлял свои картины эзотерического содержания нашим гостям, в том числе и тебе.
Сразу признаюсь, что почти сразу, начав свой рассказ о картинах, я вошел в поток необычных энергий, когда все, что говоришь – за небольшими исключениями – происходит автоматически, а ты плывешь по течению и служишь для кого-то, кто тебя «курирует», механическим передатчиком информации, но той же, которую ты с радостью и на своем уровне собирался поведать.
Знаешь, наверху ведь нет времени, и события, которые у нас развертываются в простой логической очередности, там видны как одна сплошная картина, в которой причина переходит в следствие, а следствие порождает следующую причину, чтобы добиваться – как у нас порою еще говорят – настойчиво и неуклонно – означенной когда-то и кем-то цели.
Это как раз тот самый случай, когда я имею в виду целеположенность мира и неумолимость его предначертаний, которые – как ни странно – иногда не сбываются. Но мы-то сами тоже хотим, чтобы эти предначертания сбывались, и ради этого готовы к любым испытаниям, тем более что знаем: испытаний сверх меры нам не дают. И еще: эти испытания для нас, конечно же, в итоге, – благоносны. Так утверждает практика.
И когда такие вещи с нами происходят, мы тогда же – сразу, или сколько-то спустя, начинаем понимать, что в тот самый момент – со всей очевидностью – мы были вставлены в некую программу, которая осуществлялась у нас на глазах, и, может быть, при нашем личном исполнении, или же косвенном участии. И кто-то входил в эту программу, а кто-то оставался и вне ее, даже будучи в физическом присутствии. Но такова данность, и таков мой ответ на твой вопрос: «А что это было? Я пока не могу понять, ибо во мне было ощущение, что я здесь уже была, при этом присутствовала, и это – все, что здесь есть и происходит, тоже мое...»
Отвечаю еще раз: это был тот самый эффект, который на западе называют «дежавю». Он в том, что нам кажется, будто то, что с нами происходит сейчас, с нами УЖЕ БЫВАЛО. Вопрос только в том, когда: в нашем прошлом или будущем? Ведь там, наверху, как мы уже только что говорили, времени нет. И таким образом, предлагая нам рассмотреть ситуацию, подобную этой, нам предлагают что-то очень важное вспомнить. Важное, конечно, в первую очередь, для нас самих, да и не только. Ведь на каждого из нас там имеются виды и перечень задач, которые нам предстоит решать – с сегодняшнего дня или со временем – и взять их на себя. И чем быстрее мы все это сделаем, тем лучше для всех.
Тем не менее, вопрос остается, и здесь, и сейчас он – главный: вот все-таки это ощущение «дежавю» – оно из прошлого, или же из будущего? Это уже было или только еще будет? Хороший вопрос. Но вы послушайте ответ... Скорее всего, это УЖЕ БЫЛО И... ЕЩЕ ТОЛЬКО БУДЕТ. Потому что было и не дало – пока – нужного результата. Потому что – по всей вероятности – слушали и ... не услышали. Вот почему ПОНАДОБИЛСЯ ПОВТОР СОБЫТИЯ. Чтобы всколыхнуть нас еще раз, как мы говорим в таких случаях, чтобы пробудить. Что нужно пробудить и что нужно понять? Но тогда перейдем – вернее, вернемся в минувшую уже реальность, которая нас все еще не отпускает...
3.
Как раз за пять минут до открытия моей второй выставки 14 августа 14 года – чуть менее месяца спустя после той, первой (от 19. 08), – на моем мобильнике раздался звонок. И голос, который я не сразу узнал – поскольку здесь было очень шумно, да который я и знать по-настоящему не мог, ибо мало общался, предложил мне ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫСТАВКУ МОИХ КАРТИН В МОСКВЕ. На что я сразу сказал, что я же не идиот, чтобы отказываться от таких предложений. Но это было не все.
Потом голос стал говорить, как мне сразу показалось, о самом для себя сложном. Как раз об этом самоощущении эффекта «дежавю», который, якобы, ты испытала в тот первый раз, когда была среди моих картин на открытии еще той, первой выставки, здесь, у нас. И я вспомнил один из ее эпизодов. Тогда я много шутил и вместе с вещами очень серьезными говорил и разные глупости, чтобы люди не закисли от сложного. То есть дробил их сознание.
И там – на грани фола – после какого-то шуточного смыслового хода – какого – и сам уже не помню точно – воскликнул, имея в виду кого-то поощрить: женюсь на той, которая первой и прямо сейчас подымет руку в знак согласия. Теперь принято говорить, что и в шутке есть доля шутки – почему-то именно эта мысль проскользнула во мне как маленькая короткая молния, не оставив разрушительных последствий, но оставившая памятку, оставившая в памяти закладку: «Помни». Но плохо мы знаем себя.
...Она откликнулась и подняла руку сразу, без раздумий, и, как я теперь полагаю, тоже будучи в трансовом, или около того, состоянии, находясь почти в состоянии гипноза от темы из моего выступления. То есть на уровне подсознания, еще решительно не представляя себе, а что же и зачем она это сделала. Да чтобы подыграть, чтобы принять участие в действе. Но такой вывод может оказаться слишком простым, ибо такой вывод может быть хорош только на первый взгляд.
Но вернемся к этой второй выставке. Первая моя мысль после ее звонка была об организации выставки моих картин в Москве. Выставки, подкрепленной материально. Такие предложения делают не каждый день. И я жду их давно и – можно сказать – бесплодно. И эта часть ее звонка забила вторую. Но потом все встало на свои места, и я вспомнил свое первое ощущение от встречи с этой серьезной и внимательно слушающей девушкой.
Она вся источала мир и равновесие. И доброжелательность. И еще мудрость. Увидев на себе ее взгляд, наверное, его трудно было забыть. Ибо он был то, о чем говорят: проливает бальзам. Вот и во мне что-то стронулось тогда сразу, хотя поначалу показалось, что это обычный случай, когда человек нравится – вот и все. Обычное дело. Ну и что?! А потом возникло желание приблизить этого человека к себе побольше. Зачем?
4.
На такие вопросы ответы никто сразу не дает. И совершенно бессознательная тяга к ней у меня усиливалась. С какой стати? Это было как-то не так и не то, что бывает обычно. Процесс продолжался. Тяга не отвязывалась. Тогда я нашел ее электронный адрес и написал письмо, а на другой день – и второе. Говорил непонятно о чем. Снова бессознательно. Она не отвечала, и это ее право. Значит, что-то было не так. Или же что-то тут крылось совсем другое?..
Вспомнил: говоря о выставке, она в своем первом звонке говорила еще, что, занимаясь делами выставки, чаще будем общаться. И я понял, что этот момент, на самом деле, очень для меня важен. Я вспомнил, что, будучи еще в Москве, на Вече, уже очень хотел с ней встретиться – ведь повод для этого был дан нам еще раньше: вы ведь помните, что я обещал на ней жениться, а она предложение приняла. Шутка шуткой, но в каждой шутке...
Но здесь другой случай, и шутка шуткой и останется. Я был женат, и наш возраст был несопоставим. Но. Есть одно «НО», которое у каждого остается всегда на подсознании и содержит в себе обоснованные надежды – на что бы то ни было – из того, что нам очень бы сильно хотелось. Если вы, конечно, готовы изменить мир и меняться для этого сами.
И еще один очень существенный момент, который кто-то как будто специально устраивал для меня, чтобы... Совершенно верно: чтобы я обратил на нее внимание. Дело вот в чем: там, в Москве, я случайно подглядел ее глаза, из которых брызнули слезы радости от встречи с ее хорошей подругой. Это был прямой признак искренности и вместе – необычайной открытости, признак большой сердечной глубины. Именно эта «случайность» сделала тогда самый ощутимый прокол в моем сердце, чего уж, честно говоря, я совсем никак не хотел и не ожидал. В том числе и вот почему...
В эти крайне насыщенные событиями дни, я неожиданно понял для себя одну простую вещь, которая мне никак не давалась, и над решением которой я бился долго и бесплодно. Дело вот в чем. Все те мои женские персонажи, которых встречал я на своем пути в эти ближайшие несколько лет, озаряли мою судьбу и мое сердце дивным светом и великой радостью. И это было бы хорошо и понятно по простой логике жизни, которая утверждает: «Жизнь дана нам для счастья». Но снова не все так просто.
Ничего не делается в природе просто так. Эти встречи организовывались для меня зачем-то, с какою-то очевидною целью. Чтобы я что-то начал понимать. И, кажется, начал. Я понял сильную мысль о двуполярности мира, или о мужском и женском началах, о которых мы немного задумываемся в своих философских осмыслениях. И те мои женские персонажи, которых встречал я за это время на своем пути, открыли для меня целое огромное царство Света и дивной, и немыслимой красоты. Красоты физической и душевной, да и духовной.
Они повернули мое представление о Женском Начале и направили в русло, где открывались мне одна за другой новые и бесконечные его грани и глубины, которые меня окончательно покорили. Но я серьезно опасался, как бы не сгореть в этих глубинах дотла – тем более сильный негативный опыт у меня на этой ниве уже был, и вышел я из него с трудом и сильно потрепанным. Но приближение к пониманию НАСТОЯЩЕГО ЖЕНСКОГО НАЧАЛА осветило меня изнутри и дало более свободы и открытости. И не только.
Такое приближение было для чего-то и кому-то нужно – и это я понимал. Это было нужно мне и всем нам, и, как мне кажется, вот для чего: ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА ОТ ИСКАЖЕНИЯ ЕГО ЧИСТОГО И СВЕТЛОГО ОБРАЗА НА СКРИЖАЛЯХ ВЕЧНОСТИ. Это надо было не только мне, но и самой Природе Жизни, которая ОТСТАИВАЛА СВОЕ. Каким образом? Через мои новеллы. ВОТ ПОЧЕМУ я и попадал, как мне казалось, в свои необычные приключения, чтобы больше и лучше понять женщину и ЕЕ ЗАЩИТИТЬ – через свое писательское ремесло – перед людьми и перед собой. И перед Будущим, в которое все мы сегодня входим с Затаенной и Великой Надеждой.
С этой целью мне и подкидывались Судьбою новые и новые встречи, а это значит, – новые сюжеты для новых книг. Ведь для творческого человека творчество – это всегда святое. А для него нужны питающие свежие и необычные эмоции, новые энергии. И необычные ситуации. И вот особенность: как только тема писательского исследования себя исчерпывала, и ее писательская разработка заканчивалась, постепенно отступала и моя жгучая тяга к предмету моего обожания, освобождая место для новых открытий и ощущений.
Понимание всего этого тоже стало для меня очень серьезным открытием, и я таким образом получил огромный и настоящий повод для душевного равновесия и сердечного удовлетворения. И оттого еще, что получил в этот раз сразу несколько ответов на свои несколько затяжных вопросов.
Встреча с этой женщиной, имя которой я не называю, как мне казалось, тоже была из этого ряда, и я заранее придерживал свое сердце на поворотах, чтобы не устраивать пожаров. Но что-то мне подсказывало, что этот случай – из другого ряда и совершенно особый... А вот теперь-то, только теперь, мой читатель, мы и приближаемся к сути разговора. А, значит, будьте внимательны...
5.
После ее звонка прошло пять дней, томление недосказанности и неопределенности во мне по этому вопросу оставалось и не отпускало. А коли так, Вселенная сама решила ответить на мои вопросы. Ведь она – Женщина, и вопрос мой тоже был женский, и он говорил всего-то: «Что? » – подразумевая всю эту историю. И она, Вселенная, дала свои пояснения, поскольку, видимо, того стоило. Да, по всей видимости, ей и самой было интересно посмотреть, что же из этого выйдет.
И вот на шестой день, после той встречи с ней, с утра, у меня в груди – в самой ее середке, началось сгущение теплоты, и я увидел внутренним зрением возникающее у меня в этом месте светлое голубоватое образование и свечение, похожее на облачко. Я почувствовал: это было ее присутствие во мне – этой моей новой знакомой. Мне стало интересно, да и было невероятно приятно, что она возвращается ко мне из своих далеких краев. Вот таким мистическим образом. А что дальше?..
А дальше. В этот же день – мы выехали с женой на природу – на реку, на песочек. Лето уходило, и надо было с ним тоже пообщаться и порадоваться на него и от него, насколько это на данный момент все еще было возможно. А, может быть, – с ним уже и попрощаться...
Время на реке в это время тоже шло, а это облачко в моей груди разрасталось, становилось плотнее, приобретало плотность и изумрудный оттенок – признак качества. Затем, в этом же самом месте, то есть в собственной груди, я почувствовал и ЕЕ присутствие, и, наш расклад в пространстве сильно изменился. Как? Мы были уже – как бы это точнее сказать... мы были уже в этот момент, что называется, двое в одном объединенном духе и – разное в едином.
А потом процесс развивался, и в какой-то момент я снова увидел ЕЕ уже отдельно от себя и в каком-то новом и великолепном качестве. Почему снова? Потому что этот образ в картинке стал являться мне еще вчера, в течение всего дня, хотя и с перерывами. Представьте себе...
Я вижу ЕЕ как крупную центральную фигуру в неком условном действе и раскладе, где она исполняет главную роль. Все это очень похоже на картину, только картина эта – живая. Она здесь, эта женщина, как определил я сходу ее роль и содержание, – МАТРОНА. Что это означает? – Подумайте над этим вместе со мной сами. Представьте себе – в центре действа – прекрасную и величественную фигуру в статическом положении. На голове – как навершие – то ли кокошник – из древнего русского обряда, то ли корона. Скорее, – первое и второе вместе, но только с еще более значительным содержанием.
Вокруг нее происходит движение, а именно: гораздо более мелкие, по сравнению с нею, светлые разноцветные женские фигуры медленно вращаются, словно в каком-то замедленном и заколдованном хороводе, по каким-то своим внутренним траекториям, обусловленным неким установившимся порядком.
Эти траектории я не мог отследить сразу. Ну, вот, представьте себе, что вы видите и чувствуете в этой картине движение и все время происходящие перемены. Но. Как только вы пытаетесь получить какую-то конкретность и заостряете зрение, движение переходит в статику, то есть прекращается. Меня не устраивала такая закрытость, и раз процесс уже пошел, то было логично спросить, как он, этот хоровод, вращался внутри себя – по каким категорически тайным и внутренним законам?..
Разгадку я нашел только на другой день, ближе к вечеру. Это ведь не так бывает, как может кто-то подумать, что будто на одном только этом вопросе ты и сидишь, позабыв обо всем прочем. Совсем наоборот: чем больше ты отстраняешься от объекта своих исследований, тем более к нему приближаешься. И вот под вечер уже, вдруг – мысленно – я не увидел, а скорей почувствовал, этот рисунок, который отражал ход движения женского хоровода, или персонажей ЕЕ приближения. Что меня в нем поражало? А то, что при всем своем внутреннем вращательном вращении, которое производили «девы», условная нить движения этого хоровода не имела ни начала, ни конца. Она выходила из ниоткуда и впадала в никуда.
И вот эту линию я почти увидел, и бросился зарисовать, совсем не будучи уверен в том, что что-то у меня получится. Но рисунок получился с первого раза – так мне показалось. Наверное, вы, читатель, догадались вперед меня, что – да, это была непрерывная линия. И хоровод выходил как бы из одного ее рукава, чтобы войти в другой, и вращался по двум внутренним фигурам, переходящим одна в другую. Обе эти фигуры имели очертания сердца, и, следовательно, продолжали одну и ту же мысль о двоих в одном духе и о разном в едином, которую я почти только что вам высказал.
А вот и другая особенность: в этом ДВИЖЕНИИ было два встречных хоровода со встречным течением и каждый из них – именно – отдаленно походил на сердце. И все это двигалось по одной траектории, которая представляла собою одну непрерывную линию. Чувствуете? – И здесь снова прослеживается рука Гиперборейской Традиции, характерная рисунком, сделанным одной непрерывной линией. Космическая Тема?!
Однако же эта идея с рисунком у меня все-таки уперлась в тупик, потому что оставалось еще одно «но», которое я обнаружил при более длительном ближайшем рассмотрении. Ибо на моем гипотетическом рисунке траектория движения проходила в том числе и по ее голове вместе с навершием. Но, мне-то казалось, что движение хоровода – на самом деле – не касалось ее головы.
Словом, здесь было еще над чем подумать, и кажется мне уже сегодня, что загадка эта так просто от меня не отстанет, а вынудит, скорее всего, искать наиболее точное решение, поскольку нерешаемых задач в Природе Мира нет. Хотя вы тоже отлично понимаете, что корень всего вопроса кроется не в рисунке и характере этого движения, а в чем-то совершенно ином.
Одета Она, моя Матрона, была в свободные одежды и полна силы и духовного величия. А еще – она узнаваема, и в лике ее сквозит перманентно, на этой картине, она, эта самая моя серьезная и вместе простая девушка, о которой я только что вам рассказывал. Это сходство не оставляет сомнений, но дело в том, что это не сходство, а здесь – ОНА САМА – реальная, как мир, и светлая, как Свет. Но как узнать, когда же и где же, и как это происходило? И откуда она «пришла»?
6.
Все это происходит со мною на берегу моей реки. На том самом берегу, о котором уже упоминал. Я – в полном отстранении от мира. Свет, солнце, воздух. Легкий ветерок, плеск волны, птичьи голоса... Нирвана, место в раю... И что бы в таком состоянии ты ни увидел, удивляться ничему не будешь. Но вот в чем дело: один и тот же образ – мыслеобраз притягательной женщины – снова стоит передо мною, одна и та же картина, а ощущение ЕЕ присутствия во мне только нарастает. И я понял, да и вы тоже, мой читатель, что мне идет навстречу информация, которую нужно понять и принять, и это очень важно. Для меня, для нее, для какого-то дела, для чего-то еще. Принять и расшифровать. И у меня состояние выжидания нарастает: что дальше?
А дальше замечаю... Стало что-то чуть меняться в изображении общей картины, и вдруг вижу вот что: как будто бы, голова ее – совсем на малый срок – вдруг уже иным образом – как бы промельком, совсем на миг – оборачивается ко мне боком, словно что-то показывая, на что-то намекая. Показывая мимолетно свою щечку, свою головку сбоку – на что-то, что я знаю точно, как будто, очень похожую. На что же, на что?
И тут меня, наконец, осеняет! Да, да, да! Вот она, милосердная истина! А я еще мимоходом – в этот момент и очень отстраненно – успеваю подумать о том, что как же трудно им там, наверху, приходится с нами, как же им надо извернуться, чтобы хоть что-то до нас донести. Из того, что намерены они нам передать – нам, нашему сознанию – в известных им целях.
И в один из таких поворотов ее ко мне щечкой, я промельком вижу свою картину с той самой выставки, на которой она – «МАТЕРЬ МИРА» Так называется картина. И обе эти картины – и та, моя, на холсте, и эта, мистическая – в мыслеобразе – разнятся по изображению в деталях, но исполнены в одной гамме и как бы порою накладываются друг на друга, и в чем-то становятся похожими, чтобы что-то сказать. А вот что? Вот что! Я вижу эту мою новую знакомую в обеих этих картинах, и на той, и на другой сразу – и вдруг понимаю, что это – одно и то же лицо, один и тот же образ. На них – ОНА, МОЯ ДИВА, собственной персоной!
Общий цвет на картине – алая роза и вишня. А детали, фон и окружение – из радужной палитры моего Белого квадрата. И моя очень медленная и постепенная отгадка, наконец, выходит наружу и вся целиком.
Так вот!!! Она – Матерь Мира! Будущая, настоящая, в проекции? И чем больше ты отвечаешь на вопросы, – тем больше, кажется, появляется новых вопросов. Так хорошо ли это?! Конечно же! Но кто она тогда; когда она будет тем, что я видел, в насколько отдаленном грядущем; или уже была? А вот этого, конечно, – пока – никто из нас знать не может. Ей показывают – через меня – ее портрет и ее предназначение в жизни. Ей показывают ЕЕ ВЕРШИНУ, нам с нею показывают НАС. Поскольку и я тоже свое присутствие в этом мистическом пространстве чувствую хорошо.
И я нахожусь, разглядывая картину с ней, как бы будучи всюду и в то же время – чуть в стороне от нее. Но чувствую себя в тех же Времени и Пространстве, что и она. И чувствую ее, и чувствую себя, и чувствую еще и такую странность: что мы с ней – это одно, что мы – два в едином. Но это в Будущем, которое проявило себя здесь и сегодня таким неожиданным и невероятным образом. Да еще и свело нас вместе каким-то удивительным промыслом.
Я смотрю на нее и понимаю: что да, она мне приятна и духовно близка, то же отношение исходит и от нее по отношению ко мне. Мы оба – два об одном. Но. Картина обо мне была для меня еще раньше, и это отдельная история, а сегодня она, эта картина, – о ней. Поскольку теперь я уже знаю о ней следующее: ОНА – ЖЕНСКАЯ СУТЬ МИРА И МИРОЗДАНИЯ, ПРИДАЮЩАЯ ЭТОМУ МИРУ ГАРМОНИЮ И РАВНОВЕСИЕ – через МИЛОСЕРДИЕ И ВСЕПОНИМАНИЕ. ОНА – МАТЕРЬ МИРА.
ОНА – ОДНА ИЗ СТОРОН ЕДИНОГО, ИЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОРОНА МУЖСКОГО НАЧАЛА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО СОБОЮ ПЕРВОПРИЧИНУ И ВСЕСУЩНОСТЬ МИРА, ГАРАНТИРУЮЩЕГО ЕГО СТАБИЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Об этом все.
7.
Но вот о чем еще невозможно не сказать, пока мы с вами совсем не вышли из темы. Давно уже, и очень давно, во мне жило ощущение того, что прошлое и настоящее, и будущее – это одно и единое целое, или три в одном – по уже известной нам аналогии. И сегодня для таких выводов у нас появились подтверждения – пусть и пришедшие к нам мистическим путем.
А это значит: не надо думать, что время – как одна из Сутей Вечности – течет только в одну сторону, и Будущее не влияет на Прошлое. Влияет, как видите, и очень сильно, – как в только что разобранном нами случае. Ибо Время – река, в которой многое в одном, и все это – хотя и по-разному – взаимодействует – на множестве уровней и множестве проявлений – и... поддерживает друг друга – по мере необходимости.
Все это только добавляет нам оптимизма, ибо дает понять, что мир не линеен, и, как и Время, – взаимосвязан и взаимозависим всеми своими составляющими. Именно это обстоятельство нас не ограничивает, а – напротив: дает нам возможность для сотворчества с Пространством, в котором, зная его законы, ВОЗМОЖНО ВСЕ.
Вот почему мы понимаем, что, даже будучи в трехмерном мире, Будущее все равно порою являет нам свое доброжелательное лицо, чтобы сбрызнуть наше вопросительное состояние живою водою оптимизма и – самое главное – добавить нам безусловной веры – в самих себя и... в оправданное и целесообразное устроение Мира. А это значит: ИДУЩИЙ – ПРИДЕТ. Ибо путь его ЦЕЛЕПОЛОЖЕН. И нам в этом помогают наши друзья из невидимого мира, которые в нас верят.
Вы понимаете, читатель, что ко всему выше сказанному вы должны относиться философски, тем не менее с радостью и надеждой уповая на грядущие времена, которые подошли к нам вплотную, чтобы мы с вами могли и видеть их, и их осязать, что называется, наощупь. Но, если вы способны читать и прямо, и между строк, многое из сказанного вы возьмете себе на веру.
Мир вам, Свет и Любовь!
Геннадий Лучинин
Какую "правду" нам долгое время навязывали о Екатерине Великой
ПОШЛЯКИ
Почему-то многочисленные и до предела бестактные исследователи интимной стороны жизни Государыни Императрицы Екатерины Великой упрямо не замечают её исполненного отчаяния признания, сделанного в письме к Григорию Александровичу Потёмкину.
Письмо то было писано приблизительно 21 февраля 1774 года и получило название «Чистосердечной исповеди». Оно, кстати, не скрыто за семью печатями. Одна из первых его публикаций сделана ещё в 1907 году А.С. Сувориным в книге «Записки Императрицы Екатерины Второй» и переиздана в 1989 году. 1989 год – разгар безнравственного плюрализма.
Все нечистые на руку писаки и издатели с необыкновенной алчностью ринулись зарабатывать на всякого рода бульварных изданиях. Посыпались на книжные развалы пошлые книжонки «Любовники Екатерины», «Департамент фаворитов», «Роман одной Императрицы» и прочая бездуховная макулатура. Удивительно, но упомянутые выше записки Государыни, изданные 150-тысячным тиражом Московским филиалом издательства «Орбита» просто не были замечены.
В те годы я начал серьезно заниматься исследованием жизни и боевой деятельности Генерал-фельдмаршала Светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического. Написал ряд статей в защиту памяти Екатерины Великой и её могучего сподвижника. 12 октября 1990 года мою статью по поводу клеветнических изданий под названием «Пошляки» опубликовала «Литературная Россия», в то же время газета «Советский патриот» в №34 предоставила мне для публикации материала с аналогичным названием целый разворот. В «Красной Звезде» от 27 апреля 1991 года была опубликована моя статья «Светлейший князь Тавриды», в Коммунисте Вооруженных Сил №1 и №2 за 1991 год – страницы будущей книги «Благослови, Господь, Потёмкина». Впоследствии я лишь слегка изменил заглавие книги, отпечатанной 150-ти тысячным тиражом в типографии «Красной Звезды» – «Храни, Господь, Потёмкина». Мои очерки на данную тему публиковал и Военно-исторический журнал в период своего расцвета и удивительной популярности при главном редакторе генерал-майоре Викторе Ивановиче Филатове. Публикации «Чудный вождь Потемкин», прошли в «Советском патриоте» в окружных газетах, причём многие военные газеты, такие, как «Защитник Родины» и др., дали по 10 – 15 публикаций с продолжением. Это лишний раз доказывает, что военная журналистика была несравненно выше и чище хулительных жёлтых изданий, управляемых из-за рубежа и старательно работающих по созданию в стране общества либерастов и «Иванов, не помнящих родства». А правда скрывалась не за семью печатями. В своих публикациях я опирался на эпистолярное наследие, на то, что писала о себе сама Императрица, на то, в чём признавалась и о чём умалчивала она, ибо, если уж женщина что-то о себе умалчивает, не по-мужски пытаться домысливать недосказанное.
Как, скажем, оценить «умозаключения» некоего Н. И. Павленко по поводу «Чистосердечной исповеди»? В книге «Екатерина Великая», изданной в популярной в советские времена серии «Жизнь замечательных людей», он писал: «Это послание, названное автором «чистосердечной исповедью», в действительности содержит более фальши, нежели чистосердечных признаний». Как не стыдно было господину Павленко делать подобный вывод из поистине чистосердечного письма Женщины, а тем более Государыни. Вторгаться в интимную личную жизнь любой женщины столь бессовестно и грубо, дело, недостойное мужчины. А в данном случае нельзя забывать ещё и о том, что Екатерина Вторая по восшествии на престол была коронована и прошла Миропомазание по обряду Русской Православной Церкви.
Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в книге «Самодержавие духа» указал, что Церковное таинство Миропомазания открывало Государям «глубину мистической связи Царя с пародом и связанную с этим величину религиозной ответственности», что осознание этой ответственности руководило всеми «личными поступками и государственными начинаниями до самой кончины». Раскрыл он и саму суть обряда: «Чтобы понять впечатление, произведённое на Царя помазанием его на царство, надо несколько слов сказать о происхождении и смысле чина коронации. Чин коронации Православных монархов известен с древнейших времён. Первое литературное упоминание о нём дошло до нас из IV века, со времени императора Феодосия Великого. Божественное происхождение Царской власти не вызывало тогда сомнений. Это воззрение на власть подкреплялось у византийских императоров и мнением о Божественном происхождении самых знаков царственного достоинства. Константин VII Порфирогенит (913 – 959) пишет в наставлениях своему сыну: «…одежды и венцы (царские – Н.Ш.) не людьми изготовлены и не человеческим искусом измышлены и сделаны, но в тайных книгах древней истории писано, что Бог, поставив Константина Великого первым христианским Царём, через ангела Своего послал ему эти одежды и венцы». Исповедания веры составляло непременное требование чина коронации. Император сначала торжественно возглашал его в церкви, и затем, написанное, за собственноручной подписью, передавал патриарху. Оно содержало Православный Никео-Царьградский Символ Веры и обещание хранить апостольское предание и установления и установления церковных соборов». Чтобы ответить на вопрос, вправе ли мы судить Государей Православной Русской Державы, прошедших обряд Миропомазания по чину Русской Православной Церкви, а, стало быть, Самим Богом поставленных, нужно к известной заповеди: «Не судите, да не будимы будете» прибавить заповедь-предостережение Самого Всевышнего: «Не прикасайся к Помазанникам Моим!».
Как же оценить, написанное господином Павленко в книге «Екатерина Великая» с точки зрения веры Православной? Далее он, продолжая доказывать фальшивость исповеди Государыни писал: «Достаточно сравнить интимные письма Императрицы к двум фаворитам: Г.А. Потёмкину и П.В. Завадовскому. Обоим фаворитам она клялась беспредельной любви и верности до гроба, но рассталась с ними с легкостью необыкновенной». Стыдно столь скабрёзно «исследовать» интимные письма женщины, да ещё толковать их по-своему, со своей, как говорят, колокольни!
О таких «исследователях» интима адмирал Павел Васильевич Чичагов со справедливым презрением писал:
«Эти самые яркие обвинители обоих полов именно те, которые имеют наименее прав обвинять, не краснея за самых себя. У Екатерины был гений, чтобы царствовать и много воображения, чтобы быть нечувствительною к любви. …Не забудем слово принца де Линя: «Екатерина – Великий» (Catherine le Grand), и пусть же она пользуется правами великого человека». Но господин из числа «обвинителей обеих полов» продолжает повествование в противном этому пониманию духе. О рождённых болезненным воображением историка клятвах, которые, по его предположениям, якобы, давала Потемкину и Завадовскому Государыня, он писал: «Думается, что подобные клятвенные обещания она давала и другим своим любовникам. Иначе и не могла поступить дама, сердце которой, по её признанию, «не хочет быть не на час охотно без любви». Поэтому сомнительным надобно считать и её заявление о том, что она создана для семейного очага и если бы была любима Петром III или первым фаворитом в годы царствования, Григорием Орловым, то об её изменах не могло быть и речи».
И снова хочется сказать: стыдно! Стыдно мужчине делать столь безнравственные домыслы, характерные скорее для сплетницы «хуже старой бабки», как именовала подобных особой княгиня Ливен, да ещё с неопределённой приставкой: «думается». Это историку думается. Но как было на самом деле ведь не ему знать.
Павел Васильевич Чачагов, первым возвысивший голос в защиту Государыни, писал:
«При восшествии на престол ей было тридцать лет (точнее 33-ред.), и её упрекают за то, что в этом возрасте она была не чужда слабостей, в значительной доле способствовавших популярности Генриха IV во Франции. Но мы ведь к нашему полу снисходительны. Нелепой мужской натуре свойственно выказывать строгость в отношении слабого, нежного пола и всё прощать лишь своей собственной чувственности. Как будто женщины уже недостаточно наказаны теми скорбями и страданиями, с которыми природа сопрягла их страсти! Странный упрёк, делаемый женщине молодой, независимой, госпоже своих поступков, имеющей миллионы людей для выбора». Вдумайтесь в полные пренебрежения и высокомерия слова господина Павленко: «Иначе и не могла поступить дама, сердце которой, по её признанию, «не хочет быть ни на час охотно без любви». Что за примитивное понимание любви!? В этой фразе явный намек на то, что автор понимает любовь так же, как нынешние пропагандисты свободного секса. Иначе и не могут поступить обоеполые хулители. Отвратительно звучит и такая фраза: «… все теории Екатерины о пользе фаворитизма надобно считать прикрытием сладострастия, попыткой возвести разврат в ранг государственной политики». Сколько ненависти! Откуда? Чем насолила сему господину Самодержавная Государыня? Тем, что Россия под скипетром Государыни нанесла удар гнуснейшей гидре Пугачева? Тем, что присоединила Крым? Тем, что умиротворила Кубань, благоустроила Новороссию? Тем, что, по словам А. А. Безбородко, «ни одна нужна в Европе несмела пальнуть без ведома Великой Государыни»?
П.В. Чичагов, сын знаменитого екатерининского адмирала В.Я.Чичагова, не понаслышке, не по сплетням изучивший золотой век Екатерины и имевший все основания писать о нём правду, а не «сладострастно» измышлять с приставками «думается» и «иначе и не могла поступать» указал: «Всё, что можно требовать разумным образом от решателей наших судеб, то – чтобы они не приносили в жертву этой склонности (имеется в виду любовь – Н.Ш.) интересов государства. Подобного упрёка нельзя сделать Екатерине. Она умела подчинять выгодам государства именно то, что желали выдавать за непреодолимые страсти. Никогда ни одного из фаворитов она не удерживала далее возможно кратчайшего срока, едва лишь замечала в нём наименее способности, необходимой ей в благородных и бесчисленных трудах. Мамонов, Васильчиков, Зорич, Корсаков, Ермолов, несмотря на их красивые лица, были скоро отпущены вследствие посредственности их дарований, тогда как Орлов и Потёмкин сохранили за собой свободу доступа к ней: первый в течении многих лет; второй – во всё продолжение своей жизни. Самый упрёк, обращенный к её старости и обвинявший её в продолжении фаворитизма в том возрасте, в котором, по законам природы, страсти утрачивают силу, – самый этот упрёк служит подтверждением моих слов и доказывает, что не ради чувственности, а скорее из потребности удостоить кого-то своим доверием она искала существо, которое по своим качествам было бы способно быть её сотрудником при тяжких трудах государственного управления». Когда читаешь «Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, заключающие то, что он видел и что, по его мнению, знал» невольно начинаешь думать, что он удивительным образом ещё в начале XIX века сделал уничтожающий отзыв на книгу Н.И. Павленко, изданную в 2004 году. Настолько полно и неизменно озвучены в сей книге все нафталинные клеветы и похабные анекдоты, сочиненные «сладострастными» злопыхателями, клеветниками и ненавистниками XVIII – XIX веков, которые, можно подумать, были бесполыми имя приписки их к одному их полов не делает чести ни тому, ни другому полу.
Нельзя не остановиться и на пошлом анекдоте об истопнике Теплове, который «со сладострастием» приводит Н. Павленко. Да, простит меня читатель за пошлую цитату из его книги и в особенности да, простят меня женщины: «Случайных, кратковременных связей, не зарегистрированных источниками, у Императрицы, видимо, было немало». Но, позвольте, разве имеет право историк рассуждать с этакой приставкой «видимо»? Это же клевета чистой воды. Можно не сомневаться, что, если бы сей автор был современником Государыни, он наверняка бы постарался стать регистратором её связей. А так ведь – никаких доказательств. Единственный источник – сплетня. Докажите хотя бы один факт фаворитизма, но докажите так, как это принято доказывать в суде – со свидетельскими показаниями столь занимающих вас интимных подробностей. За двадцать лет, пока я занимаюсь исследованием жизни и деятельности двух величайших деятелей прошлого – Екатерины и Потёмкина – никто ни разу не сумел мне привести доказательств фаворитизма. Только ссылки на пасквилянтов прошлого, разоблачённых ещё в те давние времена. И даже список так называемых фаворитов, приведённый Павленко на станице 355 книги «Екатерина Великая» рассыплется в прах, ибо все эти лица по официальным документам проходят либо как генерал-адъютанты, либо занимают какие-то другие чины. Иные их наименования документального подтверждения не имеют, и рождены одним всем известном источником – «ЧБС». Заключение же о «кратковременных связях» господин Павленко делает из семейных, якобы, преданий. Он пишет: «Основанием для подобного суждения можно считать семейное предание о происхождении фамилии Теплова. Однажды Григорий Николаевич, родоначальник Тепловых, будучи истопником, принёс дрова, когда Императрица лежала в постели. «Мне зябко», – пожаловалась она истопнику. Тот успокоил, что скоро станет тепло, и затопил печь. Екатерина продолжала жаловаться, что ей зябко. Наконец робкий истопник принялся лично обогревать зябнувшую Императрицу. С тех пор он и получил фамилию Теплов». Удивительно, что г. историк не удосужился узнать, кто же такой Теплов? А ведь данные о Григории Николаевиче Теплове, который никакого отношения к «истопникам» не имел, не за семью печатями скрыты.
В книге «Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII века» о нём говорится следующее: «Григорий Николаевич Теплов, тайный советник, сенатор, обязан возвышением своим графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, который полюбил его за ум и образованность, и вверил ему воспитание своего младшего брата, впоследствии пожалованного гетманом. Теплов сопровождал графа Кирилла Григорьевича в чужие края и по возвращении в 1746 году, когда граф, имея 18 лет от роду, назначен был Президентом Академии наук, Теплов именем его управлял Академией; он был одним из главных лиц, содействовавших вступлению на престол Екатерины Второй, и пользовался отличным благоволением Её до кончины своей, последовавшей 30 марта 1779 года». Вот тебе и «семейное предание» о происхождении фамилии. Хороший «истопник» был у Государыни! Чего только не родит воспалённое воображение историка-интеллигента! Кстати, достаточно подробно рассказывается о графе Теплове в «Словаре достопамятных людей Русской земли» Д.Н. Бантыш-Каменского», который вышел репринтным изданием совсем недавно.
Как тут не вспомнить Ивана Лукьяновича Солоневича, который с горечью написал: «Фактическую сторону русской истории мы знаем очень плохо – в особенности плохо знают её профессора русской истории. Это происходит по той довольно ясно причине, что именно профессора русской истории рассматривают эту историю с точки зрения западноевропейских шаблонов». Иные авторы забывают, что при написании книги надо несколько унимать свои сладострастные воображения и хоть чуточку думать над тем, что пишешь. Семейное предание!? А ведь семейное предание, если говорить о семье Екатерины и её преданиях, это предания Павла Первого и его семьи, Николая Первого и его семьи и так далее вплоть до Николая Второго, приходящеюся, ей уже прапраправнуком. Представьте себе, как все эти достойные Государи и достойные их супруги скабрезно улыбаясь, обсуждают, как их мать, бабушка, прабабушка (и. т.д.) затащила в постель истопника?!. Быть такого не может. Впрочем, каждый судит о поступках других по своим собственным. Переведите на себя, дорогие читатели, сказанное, и вы, несомненно, содрогнётесь от омерзения при одной только мысли о возможности существования подобных преданий. Неудачная форма легализации сплетни с помощью ссылки на предание. Но и этого мало. Господин Павленко со знанием дела указывает, что «Екатерина не пренебрегала случайными связями, и Марья Саввишна Перекусихина выполняла у неё обязанности «пробовальщицы», определявшей пригодность претендента находиться в постели у императрицы. Таким образом, императрица имела за 34 года царствования двадцать одного учтенного фаворита. Если к ним приплюсовать…».
Всё, далее цитировать эту грязь, сил нет. Лишь гнев и возмущение могут вызвать рассуждения очередного учетчика сладострастия Женщины, да не просто Женщины, а ещё и Государыни, и Государыни, по делам своим во имя России – Великой.
В Православном Букваре говорится: «Клевета является выражением недостатка любви христианской или даже обнаруживает ненависть, приравнивающую человека к убийцам и поборникам сатаны: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8,44)»; «Дети Божии и дети дьявола узнают так: всякий, не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» (1 Ин. 3,10); «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей» (1 Ин. 3,15). В то же время клевета – порождение зависти, гордости, стремящейся к унижению ближнего, и других страстей. Поэтому-то диавол и называется в Св. Писании клеветником. Казалось бы, что огород – городить, когда речь идёт о людях давно ушедших. По крайней мере, так думают многие старатели на ниве хулительных произведений, ошибочно именуемых литературными или историческими. Но «уходит» тело «ушедших», а не душа. Души бессмертны, кроме душ убийц, клеветников и прочих нелюдей. Души героев прошлого слышат нас. Клевета печалит их, и они вопиют к нам: будьте праведны, боритесь за правду! Заявление же Н. Павленко, сделанное со слов какого-то иноземного клеветника М.Д. Корберона о том, что «Орлов грубо обходился с Императрицей и даже не раз побивал её» ставит его книгу на уровень жёлтых изданий. Стыдно издеваться над великими нашими предками, молитвами которых, подвигами которых мы с вами и живём. В предисловии к так и не написанной им книге «Павел I» Владислав Ходасевич писал: «Те исторические события, которые по каким-то причинам долгое время не были в должной мере раскрыты и всесторонне освещены, имеют склонность мало-помалу превращаться в легенду. Суеверия, связанные с такой легендой, едва ли не навсегда укореняются в сознании общества. Истина остаётся непопулярной даже тогда, когда она уже стала достоянием учёных специалистов. Широкие круги публики довольствуются легендой: они с нею уживаются и неохотно меняют однажды сложившиеся воззрения». Ровно как и к истории царствования Императора Павла I, это определение можно отнести к истории Императрицы Екатерины Великой, да и вообще к описанию большей части событий великого прошлого России, которые подобные описания зачастую незаслуженно принижают. Более подробно о Екатерине Великой и Потймкине можно прочитать на сайте "Проза.ру. Николай Шахмагонов", где размещена моя книга, вышедшая в 2008 году «Светлейший Князь Потёмкин и Екатерина Великая в любви, супружестве, государственной деятельности». Завершить же повествование о славном екатерининском царствовании мне хотелось обширной, но более чем актуальной цитатой из трудов блистательного летописца русской старины Ивана Егоровича Забелина, поскольку эта цитата может служить своеобразным вступлением к предстоящему повествованию: «Всем известно, что древние, в особенности греки и римляне, умели воспитывать героев… Это умении заключалось лишь в том, что они умели изображать в своей истории лучших передовых своих деятелей, не только в исторической, но и поэтической правде. Они умели ценить заслуги героев, умели отличать золотую правду и истину этих заслуг от житейской лжи и грязи, в которой каждый человек необходимо проживает и всегда больше или меньше ею марается. Они умели отличать в этих заслугах не только реальную, и, так сказать, полезную их сущность, но и сущность идеальную. То есть историческую идею исполненного дела и подвига, что необходимо, и возвышало характер героя до степени идеала». Далее И.Е. Забелин продолжил так, словно видел происходящее в наши дни через толщу десятилетий: «Наше русское возделывание истории находится от древних совсем на другом, на противоположном конце. Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю и о каких-либо характерах и идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие были у нас идеалы, а тем более герои! Вся наша история есть тёмное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает большинство образованных Русских людей. Ясное дело, что такая история воспитывать героев не может, что на юношеские идеалы она должна действовать угнетательно. Самое лучшее как юноша может поступить с такою историею, – это совсем не знать, существует ли она. Большинство так и поступает. Но не за это ли самое большинство русской образованности несёт, может быть, очень справедливый укор, что оно не имеет почвы под собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону. Действительно, твёрдою опорою и непоколебимою почвою для национального сознания и самопознания всегда служит национальная история… Не обижена Богом в этом отношении и русская история. Есть или должны находиться и в ней общечеловеческие идеи и идеалы, светлые и высоконравственные герои и строители жизни, нам только надо хорошо помнить правдивое замечание античных писателей, что та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит вовсе не от их славных или бесславных дел, вовсе не от существа исторических подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения и даже намерения писателей изображать в славе или унижать народные дела, как и деяния исторических личностей». Свой взгляд на золотой век Екатерины и на его деятелей из стаи славной екатерининских орлов я выразил такими поэтическими строками:
Всевышний Бог! Не ведал ты позора
За Богородицы Светлейший Дом,
Когда Генералиссимус Суворов
Жёг вражью нечисть Праведным огнём!
Всеславный Бог! Ты меч вручил Державный
Тому, кто не бросал на ветер слов,
Кто первым был из стаи Право Славной
Екатерининских орлов.
В те времена Святая Русь вставала
Из пут петровских и дворцовых ссор,
Святая Церковь к Богу направляла
Сынов отважных – право славных взор.
И с Богом в сердце побеждал Суворов,
И с Богом вёл эскадры Ушаков,
Потёмкин расширял страны просторы,
Славян храня от вражеских оков.
И Божьей волей праведная сила
Открыла с силой тёмной грозный спор,
Суворов на обломках Измаила
Изрёк: «Мы, Русские! Какой восторг!»
По Божьей Воле распахнулись крылья
Над морем Чёрным русских парусов,
От Тендры счёт побед к Калиакрии
Вёл легендарный Фёдор Ушаков.
И в армии времён Екатерины
Неистребимый Русский Дух царил.
На подвиг звал Суворовский орлиный
Клич: «С нами Бог! Вперёд, Богатыри!»
Пора нам к Богу обратить молитвы,
И по-суворовски вести за Правду спор.
И вспомнить, как перед Священной битвой
Девиз: «Мы, Русские! Ура! Какой восторг!»
Из жизни неугомонного Дачника 2
Из жизни неугомонного Дачника
И приключился такой пассаж… Эротический рассказик

А она: – Кто вы есть? Сказал, а она: – Я – Наташа. – Очень приятно, – говорю. – А к кому вы? Ответил. А она: – Понятно. – Жарко, – говорю, – на улице. Сейчас бы на бережок. – Мечты, мечты, – ответила она. Не знаю, зачем о бережке говорил. Дачи на озере или там на реке какой приличной, не имел тогда. Тут пришли ребята, к которым я приезжал. Очень удивились, что мы тут беседуем. Показалось мне, что не очень довольны. Выпроводили со всею вежливостью, но скоренько. Ну что ж. Хороша Наташа, да не наша. Но ведь бывает так. Её к нам прислали с документом одним. В кабинете я не один обычно-то. Так ведь лето, отпуска. Один оказался в тот день. Ну и сразу чайку предложил. А кабинет на стороне северной, и жарко не так. Да и вентилятор старался-свистел до невозможности. Она ж сама напомнила про бережок. А выходные на носу были. А я ей: – Приглашаю к друзьям на озеро. Недалеко на электричке. Машин тогда не было, то есть были, да не у всех. У меня не было. Она так на меня посмотрела. С удивлением посмотрела. – В субботу с утреца рванём, а в воскресенье назад. Устроят, разместят. Она снова на меня взгляд направила. Изучала, а потом вдруг: – А удобно? – Ну, коль приглашаю? Прищурилась она, спросила хитро так: – И часто так приглашаете? – Да, ну, что провалиться на месте этом – нет. – Да мне какое дело? Приглашали или нет. Ехать неудобно. Скажут, мол, вот – ещё одна. Говорила она бойко. За словом никуда не лезла. Сразу выдавала. – Не скажут. Один ездил. И редко. – Ну, коли так, – она поколебалась. – Рванём. И ведь рванули. Знакомились в электричке. Я о себе понавыдумал, а она о себе. Ну как водится. Оба молодцы, мол. Ну не так что б уж сильно. Так, малость самую. Приехали. Вроде за поездку чуток и сблизились. Дом у приятелей большой, старый. Хозяйка сразу с контрой к Наташе. Понятно: сама красавица, а тут?! Подкалывала. Как настало время раскладываться на ночь, сказала кому-то на вопрос его, где: – Подождите, новобрачную пару надо определить. Наташа внимания своего ноль – не вышла закавыка. А хозяйка мне: – Ты бельё-то не забыл взять? А то и не упастись? Первый раз услышал, что такое надобно. Руками развёл. – Опять забыл. Говорила же! Вот ей-ей ничего такого не говорила. Специально она. Специально. Наташу позлить. Гляжу, та насторожилась. Ну, так что ж, не сбежит же? Далеко, да и поздно. Место указали. Вышли мы перед сном. Она в одну сторону, я – в другую Потом сошлись. Она что-то о хозяйке сказала. Догадалась ведь, что и для чего та излагала. Ну и хорошо. Мы выпили за ужином. Повольнела она. Только руку протянул, а она поцелуй, да взасос. Оторвались. Пошли в комнату. А там темно уж. А комнатуха мал-мала. Глаза не попривыкли. Свет не зажигали. Она к постельке и села вроде как, потом легла. Я тоже на краешек. Снял кое-что. Волнуюсь. Руку протянул, а она голышкой лежит. Ну, совсем-совсем голышкой. Погладил и в атаку. Коршуном налетел и скоро упал на грудь-то её лицом. Отдышаться. А она вдруг как оттолкнёт. – Ты что, уже? Да мне ж туда нельзя. Период самый… Ты что!? – А что не сказала? – спросил. Но она с норовом была. Больше ни слова. В молчанку заиграла. Я и так, и этак, хотел приласкать. Руку отбивала. Вот и думал: «Дурень я дурень! Какую ночь себе испортил! Какую ночь!» Нет слов, хороша была. Да и хоть мигом всё, а усёк я этот вопрос. И надо ж, всю ведь ночь. Всю ноченьку просидела. Ноги поджала, руками обняла и сидела. А ноги, ноги точёные. Увидел, как светать стало. Утром она меня сторонилась. Никто не мог понять, отчего. Хозяйка радовалась. Тихо, конечно. А зачем и не пойму. Что ей-то до меня. Что мне-то до ей? Назад ехали молча. Уже прощаться стали, в городе-то. – Ладно, я и сама виновата. Но вот так. Теперь быть-то как? Ну и некоторые детали прояснила. Ну, понятно какие. Я шёл домой и тосковал. Какая могла быть подружка классная. Ну, не дурень ли я?! Вот так опыт получается. Надо не о себе, а о той, с кем ты дело-то начал таковое, думать по первому делу. А то сам всё получил. А ей проблемы. За пару минуток то. Не обидно ль ей-то.
Николай Шахмагонов. Куприн в любви и о любви
«Пока не будет готова… глава, домой не приходи…»
Страницы жизни великого писателя
Давным-давно я услышал о Куприне такую вот историю.
Рассказывали, что его жена, желая принудить писателя к более плодотворной работе, впускала его к себе в дом только с новой главой книги.

И трудно было понять, правду ли рассказал мой приятель или всё это выдумка, которую он просто озвучил в нашем жаждущем подобных историй коллективе.
А ведь это правда!!!
Происходило же всё вот как…
Куприн работал над своей в будущем знаменитой повестью «Поединок». Это – его стихия, армейская стихия – плохая ли, хорошая ли, но родная ему. Ведь он был до мозга кости военным. Окончил 2-й Московский кадетский корпус, Александровское юнкерское училище в Москве, служил в войсках, испытал на себе все тяготы офицерской жизни в захолустном гарнизоне.
Прошли годы, и настал час выплеснуть все свои впечатления и переживания на страницы книги.
Работу начал с энтузиазмом, но потом что-то не пошло. Бывает ведь так. Не идут очередные главы и всё тут.
И тогда за писателя взялась его супруга Мария Карловна. Она заявила твёрдо, что до завершения повести они не могут быть вместе, что до той поры, пока «Поединок» не будет завершён, она ему не жена.
Что же оставалось делать? Куприн снял комнату и засел за работу. И каждую новую главу приносил жене.
Сама же жена Александра Ивановича – Мария Карловна Куприна-Иорданская – так описала всё это в своей книге «Годы молодые»:
«Приблизительно с середины «Поединка», главы с четырнадцатой, работа у Александра Ивановича пошла очень медленно. Он делал большие перерывы, которые беспокоили меня.
– Опять не удалось сесть за работу, – жаловался Куприн.
– Ты пропустил много времени, и тебе всё труднее и труднее приняться за работу. Мириться с этим я больше не могу. И вот моё твердое решение: пока не будет готова следующая глава, домой не приходи.
И повелось так, что домой, «в гости», Александр Иванович приходил отдыхать, когда у него была написана новая глава или хотя бы часть её.
– Пишу очень медленно, Маша. Как я закончу повесть – ещё не знаю, и это мучает меня. Могу приносить тебе не более двух-трех страниц новой главы.
Но написать даже две-три страницы ему не всегда удавалось. И вот однажды он принёс мне часть старой главы. Утром я сказала Александру Ивановичу, что так обманывать меня ему больше не удастся.
После его ухода я распорядилась на внутренней двери кухни укрепить цепочку.
Теперь, прежде чем попасть в квартиру, он должен был рукопись просовывать в щель двери и ждать, пока я просмотрю её. Если это был новый отрывок из «Поединка», я открывала дверь.
Прошло некоторое время, и опять случилось так, что нового у Александра Ивановича ничего не было, а побывать в семье ему очень хотелось, и он опять принёс мне несколько старых страниц, надеясь, что я их забыла.
Я читала и удивлялась: «Ведь это ещё балаклавский кусок «Поединка»?»
Александр Иванович ждал на лестнице
– Ты ошибся, Саша, и принёс мне старьё, – сказала я, просунув ему рукопись. – Спокойной ночи! Новый кусок принесёшь завтра.
Дверь закрылась.
– Машенька, пусти, я очень устал и хочу спать. Пусти меня, Маша…
Я не отвечала.
– Какая ты жестокая и безжалостная.., – говорил Александр Иванович на лестнице.
Я поставила на плиту табурет, взобралась на него и через круглое окно с железной решеткой смотрела вниз.

Александр Иванович сидел на ступеньке, обхватив голову руками. Его плечи вздрагивали. Я тоже плакала: мне было бесконечно жаль его. Впустить? Тогда он решит, что меня можно разжалобить, перестанет работать, запьёт… Нет, дверь не открою.
Александр Иванович поднялся и медленно пошёл вниз».
«Поединок» принёс писателю необыкновенную славу. Им зачитывались в России, его читали в Европе и, возможно, даже в соединённых штатах, где в то время не все ещё превратились в псако-обамовцев.
В 1915 году Куприн написал о героях своей книги в Биржевых ведомостях, номере от 25 мая:
«Немного времени я провёл в военной службе, но вспоминаю её с удовольствием. Как иногда встречаешь после многолетнего перерыва человека, которого помнил ещё ребенком, и не веришь своим глазам, что он так вырос, так и на службе я не узнал ни солдат, ни офицеров. Где же офицеры моего «Поединка»? Все выросли, стали неузнаваемыми. В армию вошла новая, сильная струя, которая тесно связала солдата с офицером. Общее чувство долга, общая опасность и общие неудобства соединили их. То, чего добивались много лет, теперь совершилось».
Да, «Поединок» принёс широкую известность, даже мировую славу, но путь к этой славе был необыкновенно тернистым и, порою, полным драматизма.
Жестоко или не жестоко поступала с ним жена? Наверное, у неё не было иного выхода. И не сделала бы она так, как сделала, как знать, увидели ли бы мы удивительную повесть.
Жёны в жизни и творчестве писателей всегда играли и играют, если, конечно, теперь есть писатели, важнейшую роль. Конечно, не всем повезло так, как Достоевскому, но первая жена Куприна, не у всех была такая жена, о которой даже Лев Толстой выразился с нескрываемым восхищением, хотя его супруга – Софья Андреевна – помогала ему в работе очень и очень много. Но Анна Григорьевна Достоевская (в девичестве Сниткина), по его мнению, превзошла всех.
Первая жена Куприна… Раз сказано первая, значит, была вторая… Впрочем, об этом и повествование, а потому не будем забегать вперёд – достаточно и одного эпизода.
«Слезами… не насытишь… горя».
Тяжёлым было его детство. Александр Иванович Куприн родился 26 августа 1870 года в Наровчате Пензенской губернии. Городок небольшой, уездный. Но, может всё сложилось бы иначе, если бы через год после рождения будущего писателя не умер от холеры его отец. Потеря главы семьи, кормильца в ту пору была тяжела и в моральном, конечно, и в материальном плане. Мать помыкалась в захолустье и решила отправиться в Москву. Переезд состоялся в 1874 году, когда Куприну едва исполнилось четыре годика.
Отца он совсем не помнил – да и что может запомниться в годовалом возрасте? Но мать Александра Ивановича – Любовь Алексеевна Куприна, урождённая княжна Куланчакова – была женщиной необыкновенной, сохранившей даже в постигшей её нищете благородство, достоинство.
Уже на склоне лет Александр Иванович вспоминал о ней:
«Расскажешь ли или прочтёшь ей что-нибудь – она непременно выскажет своё мнение в метком, сильном, характерном слове. Откуда только брала она такие слова? Сколько раз я обкрадывал её, вставляя в свои рассказы её слова и выражения...»
Дочь Куприна Ксения Александровна описала историю своего рода по материнской линии, именно по материнской, потому что Куприн «очень гордился своим татарским происхождением материнской линии».

Итак, слово дочери писателя, ссылавшейся в своих воспоминаниях на рассказы отца:
«Он считал, что основоположником их рода был татарский князь Кулунчак, пришедший на Русь в XV веке в числе приверженцев казанского царевича Касима...
Касим получил в 1452 году от Василия Тёмного в удел город Мещерский, переименованный в Касимов… Несколько поколений Кулунчаков жили в Касимове. Во второй половине XVII века прадеду Александра Ивановича были пожалованы поместья в Наровчатском уезде Пензенской губернии. Согласно семейным преданиям, разорение предков произошло из-за их буйных нравов, расточительного образа жизни и пьянства. Дед Александра Ивановича приобрёл в Пензенской губернии две захудалые деревеньки – Зубово в Наровчатском уезде и Шербанку в Мокшинском. Но разорение продолжалось.
Последним потомком Кулунчаковых была мать Куприна Любовь Алексеевна, вышедшая замуж за Ивана Ивановича Куприна, канцелярского служащего, а впоследствии, письмоводителя Спасской городской больницы.
Первая дочь, Софья, родилась в 1861-м, вторая, Зинаида, – в 1863 году. Потом родилось трое мальчиков, умерших младенцами, и последним Александр, мой отец, в 1870 году. 22 августа 1871 года Иван Иванович Куприн умер от холеры, оставив свою жену, двух старших дочерей и годовалого Сашу совсем без средств. Гордой и вспыльчивой Любови Алексеевне пришлось унижаться перед чиновниками, чтобы устроить своих девочек в казённые пансионы. А сама она переехала во Вдовий дом в Москву. Сашу ей пришлось взять с собой, и он жил три года в совсем неподходящей обстановке для ребёнка, среди старушечьих интриг, сплетен, подхалимства к богатым, и презрения к бедным.
Куприн боготворил свою мать, но часто стыдился унижений, которые ей приходилось терпеть ради детей, когда она обращалась к благодетелям учреждений. Я думаю, что тогда и зародилось у Куприна бешеное самолюбие. Он никогда не мог потом забыть её унизительных фраз, обращённых к высокопоставленным лицам. Но что могла она сделать? Ей же нужно было вырастить троих детей. Потом ей удалось поместить Сашу в Разумовский сиротский пансион.
С шести лет началось для мальчика детство, которое он впоследствии назовет «поруганным» и «казённым».
Прервём цитирование дочери Куприна и обратимся к его воспоминанием об этом периоде жизни. В 1904 году в очерке «Памяти Чехова» Куприн неожиданно коснулся воспоминаний о своём детстве, видимо, найдя в детстве Чехова, много общего со своим… Он писал:
«Бывало, в раннем детстве вернёшься после долгих летних каникул в пансион. Всё серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день – ещё крепишься кое-как... Но когда настанет вечер и возня в полутёмной спальне уляжется, – о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызёшь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и «знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя».
Всё это, казалось бы, далеко от творчества, ведь ступил на писательскую стезю Куприн гораздо позже. Но… На всю жизнь оставили отпечаток те годы, и этот отпечаток не мог не отразиться на творчестве, как не могло отразиться и на тематике и на содержании произведений и то, что довелось испытать Куприну в последующие годы.
Кадетство Куприна
В 1880 году матери удалось добиться зачисления маленького Александра Куприна во 2-ю Московскую военную гимназию. Через два года военные гимназии были преобразованы в кадетские корпуса.
Кадетская форма резко отличалась от той, что носил он в пансионе – красивая форма. Так и вспоминается стишок из детской книжки:
А с ней был маленький кадет,
Как офицерик был одет,
И хвастал перед нами
Мундиром с галунами…
Не помню, о чём книжка – стихи о детстве детей пролетариата, кажется, ну а тот, кто «как офицерик был одет», стало быть, вроде классового врага. Но запомнилось это четверостишие не случайно – и мне в детские годы довелось – нет, посчастливилось – одеть такую вот военную форму с галунами на высоком стоячем воротнике, алыми погонами и алыми лампасами на брюках.
Созданные Иосифом Виссарионовичем Сталиным в 1943 году суворовские военные училище образовывались «по типу старых кадетских корпусов», и форма была учреждена кадетская… Тем более, к тому времени уже в Красной Армии были введены погоны.
Ксения Александровна, опять же по рассказам отца, повествует о его кадетских годах:
«В своей повести «На переломе. (Кадеты)» Куприн описывает, как за незначительный проступок его приговорили к десяти ударам розгами. «В маленьком масштабе он испытал все, что чувствует преступник, приговорённый к смертной казни». И кончает он рассказ словами: «Прошло очень много лет, пока в душе Буланина (Куприна. – К.К.) не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана.
Да полно — зажила ли?»
В этом рассказе описывается штатский воспитатель Кикин, по доносу которого Буланин был приговорён к розгам: «Безличное существо, одинаково робевшее и заискивавшее как перед мальчиками, так и перед начальством».
Когда повесть была опубликована вторично в «Ниве» в 1906 году, Куприн получил невероятно грубое и ругательное письмо от Кикина, который был возмущён, что отец не изменил его фамилии. Кикин угрожал судом.
Отец с чувством удовлетворённой мести хранил это письмо. Рана так и не зажила!»
Несмотря на то, что главной темой книги является повествование о любовных трагедиях и драмах русских писателей, давайте всё же немного отклонимся от центрального направления, и коснёмся «кадетства» Куприна. Я написал «кадетство» по аналогии с недавнем сериалом, снятом в моём родном Калининском (ныне Тверском) суворовском военном училище. Это необходимо хотя бы потому, что при чтении повести может создать не совсем правильное впечатление о кадетском обучении и воспитании в России вообще. Перед нами частный пример, причём, пример вполне объяснимый…
В аннотации к современному изданию повести «На переломе. (Кадеты)» говорится: «Мальчики в военной форме… «Белая кость» российской армии. Будущие воины Первой мировой. Будущие герои Белой гвардии… Как они росли? Как взрослели эти мальчишки и становились офицерами, людьми долга и чести? Это – основная тема романа Куприна «На переломе (Кадеты)».
Впрочем, то, что увидел маленький Саша Куприн, переступив порог тогда ещё не кадетского корпуса, а военной гимназии, являло собой пародию на кадетские корпуса. И неудивительно, ведь военные гимназии были плодом либеральных реформ военного министра Милютина, действовавшего примерно так, как в наше время действовал его преемник Сердюков. Отличие одно… Милютин имел военное образование, окончил Императорскую военную академию, участвовал в боевых действиях по разгрому Шамиля на Кавказе, был ранен. Затем был назначен профессором Императорской военной академии по кафедре военной географии и статистики. Ещё во время службы на Кавказе, написал «Наставление к занятию, обороне и атаке лесов, строений, деревень и других местных предметов», а позднее «Историю войны 1799 г. между Россией и Францией в царствование императора Павла I». Трудно понять мотивы деятельности заслуженного генерала. Наверное, вмешалась политика, вмешались какие-то силы, воздействовавшие в то время на многих государственных деятелей – не все могли противостоять этим тайным силам, и иный сгибались под их натиском. Не нам их судить после того, что на наших глазах и при нашем молчаливом созерцании был разрушен могучий Советский Союз и разгромлена без войны его действительно непобедимая армия. Сколько времени и силы потребовалось, чтобы её возродить!
Последним разрушителем был известный всем специалист мебельных дел Сердюков. Он, в отличии от Милютина, службу в армии (срочную) окончил ефрейтором, а затем, до «удачного поворота судьбы» торговал мебелью, и ни к тактике, ни к оперативному искусству, ни тем боле к стратегии отношения никакого не имел. Ничего не понимал он и в Военном образовании. Недаром, придя к власти в армии, тут же сместил заслуженного боевого генерал-лейтенанта Олега Евгеньевича Смирнова с должности начальника управления Военного образования и назначил туда одну их своих «амазонок». Смирнов окончил Ленинградское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба, в которой впоследствии служил под началом генерала армии Игоря Родионова. Сменившая же его мадам командовала не то детсадом, не то яслями, где едва усидела на должности, а потом сразу по-сердюковски взлетела на такой пост. Сия кичливая амазонка, упивавшаяся властью, начала уничтожение суворовских военных училищ. Суворовцев лишили права участвовать в парадах, офицеров-воспитателей – кадровых военных – убрали из училищ. А тем, кто остался там работать, уже в запасе, запретили ходить в военной форме, чтобы «не травмировать души воспитанников». Прислали «дядек» и «тёток» уборщиками, да и много ещё жутких «чудес» натворили. Словом калечили суворовские военные училища, как когда-то калечили кадетские корпуса милютинцы. «Амазонка» же собирала непрерывные совещания и оглашала премудрости – мол, кормить в училищах только обедами. Завтракать и ужинать суворовцы и курсанты должны дома. Ей возражали, мол, не все же местные, есть и из других городов. «Не брать из других городов – требовала мадам – Москвичи пусть учатся в Москве, Петербуржцы – в Петербурге и так далее. А если в городе нет училища – «от винта». Опытные, убелённые сединами начальники училищ её не устраивали. Началась чистка. Достаточно сказать, что начальником Московского суворовского военного училища она успела назначить своего приятеля физрука не то детсада, не то яслей, который вылетел как пробка из бутылки, едва Министерство обороны возглавил генерал Армии Сергей Шойгу.
Ну а что получилось из милютинской реформы, Куприн описал достаточно подробно в повести «На переломе. (Кадеты)»
Словом, получается, что действия умного разрушителя столь же опасны, сколь и действия разрушителя безумного.
Я могу сравнить обстановку ярко и безусловно талантливо описанную Александром Ивановичем Куприным с той, что была в суворовских военных училищах, созданных Сталиным. Точнее, мне легче говорить о той, что сложилась в 60-е годы, когда я был суворовцем Калининского СВУ, и в 90-е годы, когда суворовцем Тверского (в прошлом Калининского СВУ) был мой сын.
Рассказ о любовных коллизиях в жизни Александра Ивановича Куприна, как бы там ни было, придётся начать с тех лет, когда он носил военную форму. Много страниц посвящено любовным приключениям в романе «Юнкера», много в повести «Поединок». Но начало начал жизненных университетов писателя всё же лежит в повести «Кадеты». Куприн не раз указывал, что не надо задавать вопросов о его жизни, всё это описано в «Кадетах», «Юнкерах», «Поединке».
В 1937 году, уже находясь в России, Александр Иванович рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» о «Кадетах»:
«В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести – Буланина и то, как мучительно тяжело переживал он незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин – это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь…» («Москва родная», «Комсомольская правда», 1937, № 235, 11 октября).
Интересно, что вместе с Куприным во втором Московском кадетском корпусе учился будущий композитор Александр Николаевич Скрябин. Л.А. Лимонтов вспоминал о том времени:
«Я был тогда таким же «закалой», грубым и диким, как и все мои товарищи кадеты. Силы и ловкость были нашим идеалом. Первый силач в роте, в классе, в отделении – пользовался всевозможными привилегиями: первая прибавка «второго» за обедом, лишнее «третье», даже стакан молока, назначенный врачом слабосильному кадету, нередко передавался первому силачу. Про нашего силача, Гришу Калмыкова, другой наш товарищ, А.И. Куприн, будущий писатель, а в ту пору невзрачный, маленький, неуклюжий кадетик, сочинил:
Наш Калмыков, в науках скромный,
Был атлетически сложен,
Как удивительный – огромный Парфен.
Он глуп, как Жданов первой роты,
Силён и ловок, как Танти.
Везде во всём имеет льготы
И всюду может он пройти».
Далее Лимонтов поясняет, что Парфен – это: «Повар-квасник в нашем корпусе. Очень большой и сильный мужчина», а Танти – «Клоун в цирке Соломонского».
В комментариях к повести «На переломе. Кадеты», помещённой во втором томе 6-томного Собрания сочинений А.И. Куприна (произведения 1896 – 1901 годов), изданного в 1957 году, читаем:
«В газете и в «Ниве» повесть была напечатана со следующими примечаниями автора:
«Вся гимназия делилась на три возраста: младший – I, II классы, средний – III, IV, V класса, и старший VI-VII»; «Курило» – так назывался воспитанник, уже умеющий при курении затягиваться и держащий при себе собственный табак».
В тексте «Жизни и искусства» в повести было шесть глав; заканчивалась VI глава словами:
«Говорят, что в теперешних корпусах нравы смягчились, но смягчились в ущерб хотя и дикому, но всё-таки товарищескому духу. Насколько это хорошо или дурно – Господь ведает».
В «Ниве» VI глава заканчивалась по-другому: «Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, что между кадетами и их воспитателями создаётся мало-помалу прочная родственная связь. Так это или не так – это покажет будущее. Настоящее ничего не показало».
К счастью, как уже упоминалось, Александр Третий вернул корпусам их былое значение. Ну а теперь Шойгу, став Министром обороны, разогнал весь смердяковский гарем, и суворовцев мы снова видим на парадах, а во главе парадных расчётов не физруков в спортивных подштаниках, а офицеров в военной форме!
Но как такие реформы отражаются на военном образовании? На кадетском и суворовском образовании? Не лучшим образом. Да и не нужны реформы. Традиции, славные боевые традиции – вот что главное!
Достаточно существует материалов о том, какое образование было в те времена, когда Александр Васильевич Суворов посещал занятия в кадетском корпусе – кадетом он как таковым не был, просто получил разрешение ходить на занятия, поскольку в Семёновском полку, где была организована подготовка офицеров, знаний, таких как в корпусе, не давали.
А чуть позже, во времена Екатерины Великой был такой случай – Пётр Александрович Румянцев во время русско-турецкой войны попросил на пополнение армии выпускников кадетского корпуса. Вскоре прибыли двенадцать молодых офицеров – тогда из корпуса офицерами выпускали. Румянцев побеседовал с каждым из них и тут же отписал Императрице, благодаря её за присылку «вместе двенадцати поручиков – двенадцати фельдмаршалов», настолько его поразила высокая подготовленность выпускников.
Очень сильной была подготовка в корпусах, программы составляли выдающиеся педагоги своего времени. Кутузов был кадетом, а позднее и начальников кадетского корпуса.
Аракчеев закончил Инженерный и Артиллерийский кадетский корпус. Мало того, будучи первым в науках, получил на старших курсах задачу заниматься с артиллеристами, которых присылали из действующей армии, с целью разработки новых приёмов и правил тактики действий артиллерии. Затем он создавал Гатчинскую армию Цесаревича Павла Петровича, которая была вовсе не потешными войсками, а разработки военные, проводимые в которой оказались впоследствии очень полезными. Кстати, именно Аракчеевым в Гатчине была основана конная артиллерия, блестяще показавшая себя в наполеоновских войнах.
Кадетские корпуса готовили прекрасных офицеров, из них выходили настоящие профессионалы… И вдруг Милютинские реформы. Благодаря «Кадетам» Куприна, мы знаем, что это были за реформы, и какие порядки насаждались посторонними для армии людьми, порой, ненавидящими военное дело и военных, так называемыми воспитателями. Одно из них ярко показал Александр Иванович Куприн во всём тупоумии и звероподобии этого ничтожества.
Но не пора ли сравнить, как было при Куприне, и как в наше время – я имею в виду золотое время суворовских военных училищ, когда даже несмотря на подлые действия Хрущёва, сохранялись порядки, установленные Сталиным и взятые и почерпнутые из лучших образцов кадетского образования Российской Империи.
Перечитываю Куприна «Кадеты».
Тяжёлое, гнетущее впечатление. Со всем своим мастерством Александр Иванович показал тяжёлую обстановку в корпусе – в год его поступления ещё называвшимся военной гимназией. Кстати, в интернете даже сказано в защиту кадетских корпусов, что время было такое. Корпуса кадетские реформировались в военные гимназии, многое было испорчено и разрушено. И уже потом восстанавливалось – во все времена были вредители в Русской армии, как в Советской, так и ныне в Российской. Были и другие порядки – отличные от тех, что показал Александр Иванович Куприн. Достаточно прочитать Н. Лескова «Кадетский монастырь».
Но мы ведём разговор о конкретном произведении Куприна, о «Кадетах» (На переломе).
Особенно тяжёлыми были первые дни, когда главный герой воспитанник Буланин только что переступил порог учебного заведения, в то время ещё военной гимназии.
Старшие сразу стали обижать…
«– Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?
Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его сонным, скучающим взглядом».
Итак, первое знакомство с тем пороком, который впоследствии, уже в наше время, наименовали «дедовщиной».
Старший начинает придираться к новичку:
«– Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие, – сказал он, трогая одну из них пальцем.
– О, это такие пуговицы... – суетливо обрадовался Буланин. – Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!

Старичок захватил между своими двумя грязными пальцами пуговицу и начал вертеть её. Но пуговица не поддавалась. Курточка шилась дома, шилась на рост, в расчёте нарядить в неё Васеньку, когда Мишеньке она станет мала. А пуговицы пришивала сама мать двойной провощённой ниткой.
Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал:
– Крепкая пуговица!.. Эй, Базутка, – крикнул он пробегавшему мимо маленькому белокурому, розовому толстяку, – посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!
Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа…
(…) Но пуговица держалась по-прежнему крепко.
– Позовите Грузова! – сказал кто-то из толпы.
Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.
Пришёл Грузов, малый лет пятнадцати, с жёлтым, испитым, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года, – один из первых силачей возраста. Он, собственно, не шёл, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сиплым басом:
– Что у вас тут, ребята?
Ему рассказали, в чём дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился».
Поиздевавшись над фамилией Буланина, спросил:
«– А ты Буланка, пробовал когда-нибудь маслянка?
– Н... нет... не пробовал.
(…)– Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?
И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом дробно костяшками всех остальных, сжатых в кулак.
– Вот тебе маслянка, и другая, и третья?.. Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, ещё хочешь?
Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслянками накормил».
Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трёх маслянок ему было так больно, что невольно слёзы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал её с ожесточением крутить. Однако, несмотря на то, что он прилагал всё большие и большие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своём месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он упёрся одной рукой в грудь Буланина, а другой изо всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол.
…Как он ни старался удержаться, слёзы всё-таки же покатились из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке…»
Таково знакомство с детищем Милютина, военной гимназией, преобразованной из кадетского корпуса, путём разрушения военных порядков и превращения их в нечто полугражданское, полутюремное. А ведь ещё недавно корпуса готовили блистательных выпускников, сильных духом, твёрдых в своих убеждениях.
По иному всё устроено в суворовских училищах – подобного мракобесия, во всяком случае, в Калининском СВУ, не встречал. Возьмём, к примеру, гостинцы, которые Грузов велел Буланину приносить из дому, когда будут отпускать в город. И тот принёс, но ребята успели разобрать и съесть всё до появления Грузова. В результате Грузов снова избили новичка.
Во время учёбы в Калининском СВУ я часто бывал в увольнении. В Калинине (ныне Тверь) в ту пору жила моя мама с новой семьей – с отцом моим они были в разводе.
Так вот и мама, и её муж были не только очень гостеприимными и хлебосольными – они вообще были добры к окружающим. А муж мамы, Юрий Александрович Гарбузов – до войны учился в авиационной спецшколе. Наверное, в какой-то мере это было что-то вроде военной гимназии, предшествовавшей кадетскому корпусу. То есть, спецшколы некоторым образом предшествовали суворовским военным училищам.
Но речь не о том. Пройдя спецшколу, Юрий Александрович с особым теплом относился к суворовцам. Когда заканчивалось моё увольнение в город, меня нагружали мамиными пирожками, плюшками, крендельками – готовила она очень вкусно.
Я приходил в училище, докладывал о прибытии дежурному по училищу, затем спешил в роту, что бы доложить дежурному офицеру воспитателю, поскольку именно время доклада считалось прибытием… По пути открывал дверь спального помещения своего взвода и бросал на ближайшую кровать пакет. Гостинцы тут же разбирали. И никто по пути не нападал, не отбирал их, хотя путь от комнаты, где в то время находился дежурный по училищу, до расположения моей роты проходил через роту старшекурсников.
Мои товарищи настолько привыкли к этому, что уже в Московском высшем общевойсковом командном, где оказались многие из тех, с кем мы учились в СВУ, тоже первое время ждали моего прихода. Но, увы, носить уже было нечего… Мама была в Калинине… А в Москве – отец и старенькая бабушка. Бабушка только на свои именины пекла много пирогов, и тогда я, если отпускали в город, брал их с собой, а так… ничего приносить уже не удавалось.
Отец же присылал посылки ещё в суворовское – фруктовые посылки. Яблоки, груши, что-то ещё, что могло дойти по почте.
За посылками нас отпускали в город, на почту. Конечно, в первый год учёбы приходилось прорываться в роту с боем. Старшие, как говорили, могли отнять. Но я не помню ни одного случая, чтобы отняли у кого-то посылку. Ну а во взводе тоже установился особенный порядок.
Обычно посылки мы получали уже после самоподготовки или, в крайнем случае, отпускали за ними с последнего часа. Приносили в класс в личное время и тут же всё делили поровну между суворовцами. Хозяину дозволялось взять себе побольше, хотя, для чего? Ведь никто бы не стал есть что-то в одиночку, никого не угощая. Присланным делились с товарищами все без исключения. Делились с удовольствием – таков был настрой, таковы традиции. Никакие старшие, никакие силачи-гузовы ничего не отнимали и себе не забирали. Присылали посылки практически всем, ну разве что не получали посылок те, кто поступил в училище из детдома или воспитывался без родителей, ну, то есть у кого не было родственников, способных что-то прислать. Но никто и не интересовался, кому присылают, кому нет – единая суворовская семья!
Как-то осенью, когда я уже учился в Московском ВОКУ на втором курсе (мы, суворовцы, поступали сразу на второй курс высших общевойсковых училищ), приехал навестить отец. Дело было в субботу вечером или в воскресенье. Рота ушла в кино, а я отправился в комнату посетителей. Ну и потом принёс в класс целый пакет фруктов.
В суворовском мы обычно раскладывали гостинцы по столам, всем поровну. Но здесь я сел за свой стол, взял, что хотелось, а всё остальное высыпал на преподавательский стол, чтобы взяли все, кто хочет.
И вот в коридоре послышался шум – рота вернулась из клуба. Зашёл в класс первым Петя Никулин и с удивлением уставился на фрукты.
– Это что? Откуда?
– Отец привёз, – равнодушно ответил я.
– Так ты чего разложил? Спрячь в свой шкаф, а то сейчас налетят и расхватают.
– Для того и положил…
– А мне можно взять?
– Конечно, бери, только помни, что здесь на всех…
Впрочем, гостинцы – лишь одна сторона
Этой жизни… Есть и много другого, что хотелось бы сравнить с купринским кадетством. Но я и так позволил себе слишком удалиться от главной темы повествования.
Александров – юнкер-Александровец
Не случайно Александр Иванович Куприн дал герою своего романа «Юнкера» фамилию Александров. Это намёк на то, что Александров – это он сам, юнкер Александр Куприн, который осенью 1888 года после окончания кадетского корпуса поступил в Александровское юнкерское училище.
Учёба в кадетском корпусе не прошла даром. Корпус воспитал грамотного в науках, подтянутого в строевом отношении, развитого физически юношу. Это был образованный, культурный человек, прекрасный танцор – в кадетском корпусе танцам и правилам этикета отдавалось большое предпочтение. Это первые годы были тяжёлыми в непонятном учебном заведении, названном Военной гимназией, но постепенно положение выровнялось. Просто Куприн не довёл своего повествование до выпуска, а остановил его на ранившем душу эпизоде, связанном с розгами.
Прототипом матери юнкера Александрова стала и Любовь Алексеевна Куприна. Юнкер Александров называет её «обожаемой».
Вот строки из романа:
«Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алёша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии…»
Куприн не скрывал, что юнкера Александрова писал с себя и наделил его всеми своими проказами. Даже выдумывать ничего не требовалось – на шалости он был богат.
В юнкерские годы проявилась особенная наклонность будущего классика русской литературы – необыкновенная влюбчивость. Он сам признавался, что влюблялся в каждую новую партнёршу по танцам – в кадетские корпуса на уроки танцев приглашали гимназисток.
Но когда же пришла первая любовь к будущему писателю?
Ответ надо искать в романе «Юнкера»:
«Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пёстрых и благоуханных; вернее – их набрался целый чемодан, до того туго, туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!
И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зелёных рощ и садов – всегда на первом плане, всегда на главном месте она; непостижимая, недосягаемая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная – Юлия…»
И далее в книге:
«...С большим трудом удалось ему улучить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой, но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем, она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала:
– Забудем летние глупости, милый Алёша. Прошёл сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов».
Не первая ли эта любовная драма в жизни писателя? Ведь писал Куприн с себя самого и писал зачастую почти с документальной точностью, даже имена героям давал со смыслом. Он сам – Александр. Главный герой – юнкер Александров.
Куприн показывает своего героя и в первых его увлечениях таким, каким он был сам. Александров даже с шутливой иронией называет себя «господином Сердечкиным».
Куприн не раз прямо говорил о том, что юнкер Александров – это он сам. Вот и относительно увлечения Юлией сказано в интервью: «В то лето я был «безумно» влюблён в старшую из трёх сестер Синельниковых, в полную волоокую Юленьку – Юлию Николаевну».
Влюбчивость… В чём её причины? Только ли в характере человека? А почему мы не учитываем обстоятельства? Позади кадетский корпус. Годы ограничений – чтобы попасть в город, нужно получить увольнительную. Следовательно, встречи с девочкой или девушкой, которая тронула сердце, могут быть только тогда, когда юноша, на плечах которого погоны, получал увольнительную.
А у сверстниц этих самых юношей в погонах свобода полная. Каждая ли станет терпеливо сидеть дома, отказывая себе пусть даже в самых безобидных развлечениях?
Помню, один мой приятель курсант, когда мы учились в Московском ВОКУ, с огорчением поделился разговором со своей девушкой.
После окончания суворовского военного училища он пришёл в Московское высшее общевойсковое командное училище, ставшее наследником Александровского юнкерского училища. Девушка же его, с которой он встречался ещё суворовцем, несколько огорчилась – она рассчитывала, что он поступит в академию, что будет более или менее свободен – с увольнительными в академиях значительно легче. Не то что у кремлёвцев…
– Да, отпускать будут редко, – со вздохом сказал он. – Во всяком случае, на первом, может на втором курсе. Потом будет уже легче…
– Так что ж, – с раздражением заявила она. – Я, по-твоему, должна законсервироваться на это время?
Вот и приходилось и суворовцам, и курсантам учитывать этакие обстоятельства, учитывать, что не все их пассии готовы «законсервироваться», что многие из них не будут сторониться весёлых компаний – за забором училища жизнь будет продолжаться…
Продолжалась эта жизнь и за воротами Александровского юнкерского училища. Куприн рассказывает о первых пусть маленьких любовных трагедиях юнкера Александрова, но всё же трагедиях… Пока он учился, жизнь продолжалась.
Сначала: «А мне без вас так ску-у-чно. Ваша Ю. Ц.». Потом: «Забудем летние глупости, милый Алёша… А теперь прощайте…».
Но и это не всё… Он приглашён на бракосочетание Юлии… Серьёзно ли переживал юнкер? Переживал, но не очень серьёзно. Вероятно, так же, с налётом огорчения, но всё же более или менее спокойно встретил подобную трагедию, будучи юнкером, и сам Александр Иванович Куприн. Юлия не пожелала «законсервироваться»…
Что ж, такое бывало нередко…
А сколько подобных историй. Вот строки из письма моего однокашника, тоже Николая, а фамилия… Фамилию называть не буду, не в этом суть. Он прочитал мою повесть и тут же пошли воспоминания…
«Коля, привет. Да классно ты всё написал. Было время, как мы были молоды тогда. Да и не все смогли делать так, как хотелось. У меня практически получилась твоя история. Только девушка первая приняла решение выйти замуж за однокурсника – уж очень он ей вскружил голову. Тем более, я был в Москве, а она в Петрозаводске. Правда, потом она была дружкой у моей жены на свадьбе. С тех пор о ней ничего не знаю. Слышал только, что она через полгода после моей свадьбы развелась, уехала к родителям в Москву, родила сына. Но я был уже в Германии. А затем все следы затерялись, да и восстанавливать их вроде уже не стоит. Мы с женой вместе уже 43 года. Я ведь говорил тебе, что женился на зимних каникулах на 4-м курсе. Вот так и живём. А может, с той бы и жили лучше. Но не будем о грустном. У каждого своя история жизни. Будем жить. Пиши…»
Причина – он в Москве, она – в Петрозаводске. Не захотела «законсервироваться». Ну а что вышло, то вышло.
Меня поражает, сколько же общего между нами – кремлёвцами второй половины двадцатого века и александровцами конца девятнадцатого века. Ведь Куприн учился в Александровском юнкерском училище ещё в годы царствования Александра Третьего…
В какой-то степени это объяснимо – ведь Советская военная школа строилась на фундаменте Российской Императорской военной школы.
Снова вспоминается фраза о влюбчивости Куприна. Да только ли Куприна, если брать его военные годы. Особая влюбчивость характерна для военных вообще, разумеется, прошедших настоящую военную школу – я имею в виду военные училища, а не военные кафедры институтов. И в особенности училища строевые, где дисциплина много жёстче, нежели, скажем, в военных академиях, куда принимают на инженерные факультеты некоторое количество слушателей без офицерских званий – со школьной скамьи или со скамьи суворовской и кадетской.
И всё та же причина – неустойчивость отношений с прекрасным полом из-за острого дефицита свободного времени на такие отношения. Да и знакомства!? Как, каким образом суворовец или курсант может познакомиться с девушкой?
Лучшее место – танцевальные вечера. В училище… В дореволюционной России это были балы. Шикарные, торжественные балы… Теперь они возрождаются… В Путинской России возрождаются. В России ельциноидной эпохи ельцинизма вообще всё было предано забвению, что только можно забвению придать.
Куприн же не щадил недостатков военной системы, говорил о них прямо и открыто, но… Он показывал и блистательные стороны военной службы – почёт этой службы, её красоту…
В «Юнкерах» замечательно описание бала, на который были отправлены по шесть человек с каждой роты. Александров, у которого уже было назначено свидание, пытался упросить командира не отправлять его, но ничего не вышло. И вот он в прекрасном зале, где предстоит бал…
«Он уже… заторопился было к ближнему концу спасительной галереи, но вдруг остановился на разбеге: весь промежуток между двумя первыми колоннами и нижняя ступенька были тесно заняты тёмно-вишнёвыми платьицами, голыми худенькими ручками и милыми, светло улыбавшимися лицами.
– Вы хотите пройти, господин юнкер? – услышал он над собою голос необыкновенной звучности и красоты, подобный альту в самом лучшем ангельском хоре на небе.
Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо. Точно случайно, как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Чёткость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть, тысячу лет назад, и теперь сразу вновь узнал её всю и навсегда, и хотя бы прошли ещё миллионы лет, он никогда не позабудет этой грациозной, воздушной фигуры со слегка склонённой головой, этого неповторяющегося, единственного «своего» лица с нежным и умным лбом под тёмными каштаново-рыжими волосами, заплетёнными в корону, этих больших внимательных серых глаз, у которых раёк был в тончайшем мраморном узоре, и вокруг синих зрачков играли крошечные золотые кристаллики, и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах, такой совершенной формы, какую Александров видел только в корпусе, в рисовальном классе, когда, по указанию старого Шмелькова, он срисовывал с гипсового бюста одну из Венер…»
Удивительны описания самого бала, его участников и участниц. Не побывав на балу, так не напишешь.
Судите сами:
«Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед ёмкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило…»
Такое мог написать только человек, сердце которого, выражаясь языком Екатерины Великой «ни на час не может быть свободным от любви». Да, действительно, только человек, сердце которого способно любить, в состоянии написать такие строки, поскольку способен прочувствовать и осознать, что творится у него в душе…
Читаешь строки романа и невольно возвращаешься в необыкновенную обстановку вечеров и в суворовском, и в общевойсковом училищах. Конечно, они уступали великолепному балу, на который были приглашены юнкера Александровского училища и на котором, наверняка был сам Куприн в бытность свою юнкером – иначе бы не сделал столь блистательного описания.
Различна обстановка, но разве не такой же необыкновенный трепет испытывали и суворовцы, и курсанты 60-х, 70-х или 80-х лет девятнадцатого века?
Описания бала, которые сделал Куприн, буквально завораживают:
Юнкер Александров. Юный совсем и, как мы уже знаем, влюбчивый. Александров – то есть Александр. Александр Куприн сражён прекрасной пока ещё незнакомкой и мысли его восторженны – впрочем, разве не были и наши мысли, мысли суворовцев восторженными на вечерах, когда перед нами раскрывалась палитра красок в лице приглашённых в гости девушек…
А в романе «Юнкера» эти девушки показаны необыкновенно. Недаром юнкер Александров в восторге:
«Неужели я полюбил? – спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим: телу, крови и разуму, и решил твердо: – Да, я полюбил, и это уже навсегда».
Какой-то подпольный ядовитый голос в нём же самом сказал с холодной насмешкой: «Любви мгновенной, любви с первого взгляда – не бывает нигде, даже в романах». «Но что же мне делать? Я, вероятно, урод», – подумал с покорной грустью Александров и вздохнул. «Да и какая любовь в твои годы? – продолжал ехидный голос. – Сколько сот раз вы уже влюблялись, господин Сердечкин? О, Дон-Жуан! О, злостный и коварный изменник!»
И вот он, донжуанский список юнкера Александрова, который, надо думать, и является разве что немного изменённым донжуанским списком самого Александра Ивановича Куприна.
«Послушная память тотчас же вызвала к жизни все увлечения и «предметы» Александрова. Все эти бывшие дамы его сердца пронеслись перед ним с такой быстротой, как будто они выглядывали из окон летящего на всех парах курьерского поезда, а он стоял на платформе Петровско-Разумовского полустанка, как иногда прошлым летом по вечерам.
...Наташа Манухина в котиковой шубке, с родинкой под глазом, розовая Нина Шпаковская с большими густыми белыми ресницами, похожими на крылья бабочки-капустницы, Машенька Полубояринова за пианино, в задумчивой полутьме, быстроглазая, быстроногая болтунья Зоя Синицына и Сонечка Владимирова, в которую он столько же раз влюблялся, сколько и разлюблял её; и трое пышных высоких, со сладкими глазами сестёр Синельниковых, с которыми, слава Богу, всё кончено; хоть и трагично, но навсегда. И другие, и другие, и другие... сотни других... Дольше других задержалась в его глазах маленькая, чуть косенькая – это очень шло к ней – Геня, Генриетта Хржановская. Шесть лет было Александрову, когда он в неё влюбился. Он храбро защищал её от мальчишек, сам надевал ей на ноги ботинки, когда она уходила с нянькой от Александровых, и однажды подарил ей восковую жёлтую канарейку в жестяной сквозной, кружками, клетке.
Но унеслись эти образы, растаяли, и ничего от них не осталось. Только чуть-чуть стало жалко маленькую Геню, как, впрочем, и всегда при воспоминании о ней.
«О нет. Всё это была не любовь, так, забава, игра, пустяки, вроде – и то правда – игры в фанты или почту. Смешное передразнивание взрослых по прочитанным романам. Мимо! Мимо! Прощайте, детские шалости и дурачества!»
Но теперь он любит. Любит! – какое громадное, гордое, страшное, сладостное слово. Вот вся вселенная, как бесконечно большой глобус, и от него отрезан крошечный сегмент, ну, с дом величиной. Этот жалкий отрезок и есть прежняя жизнь Александрова, неинтересная и тупая. «Но теперь начинается новая жизнь в бесконечности времени и пространства, вся наполненная славой, блеском, властью, подвигами, и всё это вместе с моей горячей любовью я кладу к твоим ногам, о возлюбленная, о царица души моей».
Мечтая так, он глядел на каштановые волосы, косы которых были заплетены в корону. Повинуясь этому взгляду, она повернула голову назад. Какой божественно прекрасной показалась Александрову при этом повороте чудесная линия, идущая от уха вдоль длинной гибкой шеи и плавно переходящая в плечо. «В мире есть точные законы красоты!» – с восторгом подумал Александров.
Улыбнувшись, она отвернулась. А юнкер прошептал:
– Твой навек…»
В «Юнкерах» имена многих героев взяты из жизни и совсем не изменены. Значит, и «донжуанский список» взят из жизни и вовсе не является вымышленным.
А между тем, представления хозяйки окончились, и «тонкий, длинный офицер с аксельбантами» объявил:
– Полонез! Кавалеры, приглашайте ваших дам! Полонез! Дамы и господа, потрудитесь становиться парами.
Ну что ж, настал важный момент… Вспыхнуло сердце любовью! Так куда же направить эту вспышку, как не на предмет её. Куприн великолепно описывает начало бала:
«Александров спустился по ступеням и стал между колоннами. Теперь его красавица с каштаново-золотистой короной волос стояла выше его и, слегка опустив голову и ресницы, глядела на него с лёгкой улыбкой, точно ожидая его приглашения.
– Позвольте просить вас на полонез, – сказал юнкер с поклоном.
Её улыбка стала ещё милее.
– Благодарю, с удовольствием.
Она сверху вниз протянула ему маленькую ручку, туго обтянутую тонкой лайковой перчаткой, и сошла на паркет зала со свободной грацией.
«Точно принцесса крови», – подумал Александров, только недавно прочитавший «Королеву Марго». Под руку они подошли к строящемуся полонезу и заняли очередь. За ними поспешно устанавливались другие пары..»
Бал продолжался, великолепный бал, впрочем, он великолепен потому, что рядом с юнкером удивительная, очаровательная партнёрша. За полонезом следовал вальс…
Конечно, в нашу бытность курсантами таких пышных и торжественных балов не было. Устраивались вечера танцев в новом клубе училища, прекрасно по тем временам клубе, с большим и просторным кинозалом, где проводились и важные училищные мероприятия и концерты, с музеем истории училища, с помещениями для разных занятий и, конечно, с танцевальным залом. Он сверкал паркетом, освещался ярко, празднично. Постамент для курсантского ансамбля, ряд стульев вдоль окна и противоположной окну стены. В танцевальном зале нас учили новым танцам, правда, в отличие от суворовского училища уже не всех, а желающих. Был организован кружок. Нельзя сказать, чтоб отбоя не было, ведь наступил век, когда правильно танцевали немногие. В основном топтались по медленную музыку, и скакали под ритмичные звуки без всякой системы. И только вальс оставался вальсом. Но белый вальс объявляли редко по простой при чине – девушки зачастую не умели вальсировать, а выбрать кавалера и потоптаться с ним под приятную музыку хотелось. Так и знакомства заводились.
В пышности балов, в мастерстве танцоров мы, конечно, уступали юнкерам, но в любви… Разве сердца курсантов бились иначе? Разве иначе действовала на нас притягательная сила наших русских красавиц, московских красавиц, которые с удовольствием приходили к нам на вечера. Мы так же любили, так же рвались в увольнения, чтобы встретиться с любимыми, и потому роман Куприна «Юнкера» особенно дорог тем, кто когда-то в юности носил или носит ныне курсантскую форму.
И легко читаются строки романа, и входит это роман в самое сердце:
«Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством раздаются первые звуки штраусовского вальса… Ещё находясь под впечатлением пышного полонеза, Александров приглашает свою даму церемонным, изысканным поклоном. Она встаёт. Легко и доверчиво её левая рука ложится, чуть прикасаясь, на его плечо, а он обнимает её тонкую, послушную талию».
(…) В этот момент она, сняв руку с плеча юнкера, поправляет волосы над лбом. Это почти бессознательное движение полно такой наивной, простой грации, что вдруг душою Александрова овладевает знакомая, тихая, как прикосновение крылышка бабочки, летучая грусть. Эту кроткую, сладкую жалость он очень часто испытывал, когда его чувств касается что-нибудь истинно прекрасное: вид яркой звезды, дрожащей и переливающейся в ночном небе, запахи резеды, ландыша и фиалки, музыка Шопена, созерцание скромной, как бы не сознающей самоё себя женской красоты, ощущение в своей руке детской, копошащейся и такой хрупкой ручонки…»
И мысли, мысли в романе – мысли Александрова – это мысли самого Александра Ивановича, мысли о самой сущности жизни, о любви, о красоте, земной красоте, в которую писатель «инстинктивно так влюблён.., что готов боготворить каждый её осколочек, каждую пылинку...»
Куприн был превосходным танцором, он любил танцевать и сам признавался, что влюблялся во всех своих партнёрш в танцах поочерёдно. Эту свою любовь к танцам он подарил юнкеру Александрову и благодаря этому щедрому писательскому подарку, мы можем видеть эту любовь Куприна, восхищаться ею, потому что прекрасным нельзя не восхищаться…
В кадетских корпусах урокам танцев придавалось серьёзное значение. В суворовских училищах тоже были уроки танцев. Правда, когда учился я, девушек на эти уроки не приглашали, а танцевать друг с другом как-то нам не очень нравилось – мы ведь не какие-то зачуханные гейропейцы с извращённой психикой – мы нормальные мужики, хоть и совсем ещё юные. Учили нас танцевать вальс, танго и зачем-то какой-то липси, который, кажется, придумали в ГДР в 1958 году. Прорывалась уже бессмысленность. Прорывалась с запада сначала в страны народной демократии, а потом и к нам. Следование моде… причём, бессмысленность теперь очевидна – в суворовском нас учили, кроме классических танцев, этим самым липси, а в Московском высшем общевойсковом кружковцев обучали мэдисону. И весь этот западный бред был настолько временным, что курсантом я уже не помнил и не видел нигде липси, а офицером ни разу не слушал мэдисона.
И всё же классику не забывали, к счастью не забывали… Но далеко не все танцы, которые описал Куприн, знакомы нынешнему читателю. О некоторых знаем мы лишь так, понаслышке.
«Александров не только очень любил танцевать, но он также и умел танцевать; об этом, во-первых, он знал сам, во-вторых, ему говорили товарищи, мнения которых всегда столь же резки, сколь и правдивы; наконец, и сам Петр Алексеевич Ермолов на ежесубботних уроках нередко, хотя и сдержанно, одобрял его: «Недурно, господин юнкер, так, господин юнкер». В каждый отпуск по четвергам и с субботы до воскресенья (если только за единицу по фортификации Дрозд не оставлял его в училище) он плясал до изнеможения, до упаду в знакомых домах, на вечеринках или просто так, без всякого повода, как тогда неистово танцевала вся Москва».
Неистово танцевала вся Москва! Как это замечательно! И замечательно то, что неистово танцевали москвичи классические танцы, что не топтались как ныне на месте под медленную, порой, совсем даже не танцевальную музыку и не прыгали и скакали как оглашенные под музыку джунглей.
Суворовцы очень любили танцевать, практически все любили танцевать. Любили танцевать и курсанты и офицеры…
Но, конечно, помогало то, что в послевоенное советское время учили танцам – учили в суворовских военных училищах обязательно, учили во многих училищах офицерских факультативно или путём создания танцевальных кружков.
Танцевальные вечера, так же как и старые, давние балы всегда дарили и дарят столько надежд, столько неясных волнений. И как прекрасно, когда на балах или вечерах танцевальных кружатся пары, лёгкие, грациозные, стройные, когда зал сверкает огнями люстр, которые отражаются в золоте эполет и золотых погон нынешней уже более скромной парадной формы.
Курсантские погоны ещё не золотые, но с золотистой окантовкой. И на курсантских вечерах далеко не у всех, а точнее ни у кого практически из барышень нет уже пышных бальных платьев. Но это не мешает испытывать то же волшебное состояние, которое испытывал Александров и его однокурсники юнкера на прекрасном балу…
Разве не волнуют нынешних курсантов, как волновали когда-то юнкеров случайные взгляды, лёгкие прикосновения, вскользь брошенные фразы, заставляющие яростно биться сердца:
«Случалось так, что иногда её причёска почти касалась его лица; иногда же он видел её стройный затылок с тонкими, вьющимися волосами, в которых, точно в паутине, ходили спиралеобразно сияющие золотые лучи. Ему показалось, что её шея пахнет цветом бузины, тем прелестным её запахом, который так мил не вблизи, а издали.
– Какие у вас славные духи, – сказал Александров.
Она чуть-чуть обернула к нему смеющееся, раскрасневшееся от танца лицо.
– О нет. Никто из нас не душится, у нас даже нет душистых мыл.
– Не позволяют?
– Совсем не потому. Просто у нас не принято. Считается очень дурным тоном. Наша maman как-то сказала: «Чем крепче барышня надушена, тем она хуже пахнет».
Но странная власть ароматов! От неё Александров никогда не мог избавиться. Вот и теперь: его дама говорила так близко от него, что он чувствовал её дыхание на своих губах. И это дыхание... Да...
Положительно оно пахло так, как будто бы девушка только что жевала лепестки розы. Но по этому поводу он ничего не решился сказать и сам почувствовал, что хорошо сделал…»
Но вот бал окончен, и когда юнкера спускались по широкой, «растреллиевской лестнице в прихожую, все воспитанницы облепили верхние перила, свешивая вниз русые, золотые, каштановые, рыжие, соломенные, чёрные головки.
– Благодарим вас! Спасибо, милые юнкера, – кричали они уходящим, – не забывайте нас! Приезжайте опять к нам на бал! До свиданья! До свиданья!
…Зиночка махала прозрачным кружевным платком, …её смеющиеся глаза встретились с его глазами и… он ясно расслышал снизу её громкое: – Пишите! Пишите!»
На как написать? Кто передаст письмо? И герой Куприна – то есть сам Куприн – находит выход. В субботу, получив увольнительную, он идёт в гости к сестре и там пишет «довольно скромное послание, за которым… нельзя не прочитать пламенной и преданной любви:
«Знаю, что делаю дурно, решаясь писать Вам без позволения, но у меня нет иного средства выразить глубокую мою благодарность судьбе за то, что она дала мне невыразимое счастье познакомиться с Вами на прекрасном балу Екатерининского института. Я не могу, я не сумею, я не осмелюсь говорить Вам о том божественном впечатлении, которое Вы на меня произвели, и даже на попытки сделать это я смотрю как на кощунство. Но позвольте смиренно просить Вас, чтобы с того радостного вечера и до конца моих дней Вы считали меня самым покорным слугой Вашим, готовым для Вас сделать всё, что только возможно человеку, для которого единственная мечта – хоть случайно, хоть на мгновение снова увидеть Ваше никогда не забываемое лицо. Алексей Александров, юнкер 4-й роты 3-го Александровского военного училища на Знаменке».
Когда буквы просохли, он осторожно разглаживает листик Сониным утюгом. Но этого ещё мало. Надо теперь обыкновенными чернилами, на переднем листе написать такие слова, которые, во-первых, были бы совсем невинными и неинтересными для чужих контрольных глаз, а во-вторых, дали бы Зиночке понять о том, что надо подогреть вторую страницу.
Очень быстро приходит в голову Александрову (немножко поэту) мысль о системе акростиха. Но удаётся ему написать такое сложное письмо только после многих часов упорного труда, изорвав сначала в мелкие клочки чуть ли не десть почтовой бумаги. Вот это письмо, в котором начальные буквы каждой строки Александров выделял чуть заметным нажимом пера.
Дорогая Зизи!
Помнишь ли ты, как твоя старая тётя
Оля тебя так называла? Прошло два го
да, что от тебя нет никаких пис
ем. Я думаю, что ты теперь вы
росла совсем большая. Дай тебе Бо
же всего лучшего, светлого
и, главное, здоровья. С первой поч
той шлю тебе перчатки из козь
ей шерсти и платок оре
нбургский. Какая радость нам,
ангел мой, если летом приедешь в
Озерище. Уж так я буду обере
гать тебя, что пушинки не дам сесть.
Няня тебе шлёт пренизкие поклоны.
Ее зимой все ревматизмы мучили.
Миша в реальном училище,
Учится хорошо. Увлекается
Акростихами. Целую тебя
Крепко. Вашим пишу отдельно.
Твоя любящая
Тетя Оля".
На конверт прилепляется не городская, а (какая тонкая хитрость) загородная марка. С бьющимся сердцем опускает его Александров в почтовый ящик. «Корабли сожжены», – пышно, но робко думает он.
Далее следует сцена расшифровки письма, затем описывается получение ответного письма с вложенной фотокарточкой.
И, наконец, назначение свидания. Зинаида Белышева написала:
…«На второй день масленицы, в два часа пополудни, приходите на каток Чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша 3. Б.».
Ваша! О, господи! Ваша! Это словечко точно горячей водою облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову.
Удивительная проницательность Куприна проявляется в каждом эпизоде, сквозит в каждой фразе. Это относится и к сценам на катке:
«И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновение. Люди редко глядят так пристально один на другого. Во взгляде человеческом есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствий. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные; им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое истинное блаженство для скромных влюблённых. «Любишь?» – спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки их чуть-чуть розовеют.
«Люблю, люблю, – отвечают глаза Александрова, сияющие выступившей на них прозрачной влагой.
– «А ты меня любишь?»
– «Люблю».
– «Любишь». «Люблю»….
Самого скромного, самого застенчивого признания не смогли бы произнести их уста, но эти волнующие безмолвные возгласы: «Любишь.
– Люблю», – они посылают друг другу тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда, ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни пресыщения».
Когда Александра Ивановича Куприна попросили рассказать о его военной службе – о учёбе в кадетском корпусе, в Александровском юнкерском училище и о первых офицерских испытаниях, он ответил, что всё описано в «Кадетах», «Юнкерах» и «Поединке», словом, ещё раз подтвердил, что он повествовал о себе, о своей жизни, практически без вымыслов. Разве что фамилии героев сделал вымышленными, но как помни, обидчика по кадетскому корпусу вывел под истиной фамилией.
И только одно осталось тайной. Чем окончилась трепетная юнкерская любовь, волновавшая не одно поколение читателей и особенно читателей военных – во всяком случае меня и моих товарищей – курсантов роман не оставил равнодушными. «Юнкерами» зачитывались, потому что находили отражение и своей жизни, и своих первых любовных удач и неудач.
Удивительная сцена объяснения в любви. Удивительна и откровенна. Действительно, жизнь молодых офицеров не была легка. И оклады не высокие, и служба в гарнизонах.
И в Советской Армии не так уж легко было. Правда, даже у лейтенанта оклад был выше, нежели у инженеров в разных НИИ и прочих учреждениях. Впрочем, начинать жизнь всегда сложно. Строить семью, когда жене, порой негде работать, тоже не очень просто. Читая роман и повести Куприна, я, приверженец Самодержавия, не могу не сказать, что при Советской власти было легче чем-то необъяснимым. Наверное тем, что очень сильно декларировалось, а потому и вольно и невольно выполнялось и теми, кто был с двойным дном, правило – «человек человеку друг». Хотелось бы доказать, что это положение вещей в Императорской России было выше, да не всегда получается.
Но сейчас речь не о том. Перед нами юнкер, будущий офицер. Он делает предложение, но при этом вынужден сказать обо всех трудностях и невзгодах, которые неотвратимо возникнут на пути к семейному счастью:
«И вот Александров решается сказать… что давно уже собиралось и кипело у него в голове...
– Зинаида Дмитриевна… Я давно уже полюбил вас... полюбил с первого взгляда там... там, ещё на вашем балу. И больше... больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте мне... дайте высказаться. Я в этом году, через три, три с половиною месяца, стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия, и я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я также отлично знаю тяжёлое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц сорок три рубля с копейками. Поручик – а это уже три года службы – сорок пять рублей. На такое жалование едва-едва может прожить один человек, а заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его, как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготовляться к экзамену в Академию Генерального штаба. На это уйдёт ровно два года, которые я и без того должен был бы прослужить за обучение в Александровском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я ни на капельку не сомневаюсь, ибо путеводной звездою будете вы мне, Зиночка.
Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом, и замолк было.
– Продолжайте, Алеша, – тихо сказала Зиночка, и от её ласки буйно забилось сердце юнкера.
– Я сейчас кончу. Итак, через два года с небольшим – я слушатель Академии. Уже в первое полугодие выяснится передо мною, перед моими профессорами и моими сверстниками, чего я стою и насколько значителен мой удельный вес, настолько ли, чтобы я осмелился вплести в свою жизнь – жизнь другого человека, бесконечно мною обожаемого. Если окажется моё начало счастливым – я блаженнее царя и богаче миллиардера. Путь мой обеспечен – впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение в обществе и необходимый комфорт в жизни. И вот тогда, Зиночка, позволите ли вы мне прийти к Дмитрию Петровичу, к вашему глубокочтимому папе, и просить у него, как величайшей награды, вашу руку и ваше сердце, позволите ли?
– Да, – еле слышно пролепетала Зиночка.
(…)Маленькая нежная ручка Зиночки вдруг обвилась вокруг его шеи, и губы её коснулись его губ тёплым, быстрым поцелуем.
– Я подожду, я подожду, – шептала еле слышно Зиночка. – Я подожду. – Горячие слёзы закапали на подбородок Александрова, и он с умиленным удивлением впервые узнал, что слёзы возлюбленной женщины имеют солёный вкус.
– О чём вы плачете, Зина?
– От счастья, Алёша…»
Осталось тайной, кто прототип Зинаиды Белышевой, во всяком случае, мне эту тайну разгадать не удалось. Может, кому-то повезло больше. Интересно было бы прочитать.
Ну а первая попытка жениться у Куприна была позже, в годы офицерской службы.
10 августа 1890 года состоялся торжественный выпуск из Александровского училища и производство в подпоручики. Училище Куприн окончил «по первому разряду».
В романе «Юнкера» прекрасно описана сцена прощания и главное, напутственные слова начальника Александровского училища, который пригласил к себе выпускников:
«Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келия схимника. Украшали её только большие, развешанные по стенам портреты Тотлебена, Корнилова, Скобелева, Радецкого, Тер-Гукасова, Кауфмана и Черняева, все с личными надписями.
Анчутин холодно и спокойно оглядел бывших юнкеров и начал говорить (Александров сразу схватил, что сиплый его голос очень походит на голос коршевского артиста Рощина-Инсарова, которого он считал величайшим актёром в мире).
– Господа офицера, – сказал Анчутин, – очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнёте новую, далеко не лёгкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее семидесяти пяти господ офицеров – большое, очень большое общество. Но уже давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, как, например, на кораблях в кругосветном рейсе, в полках, в монастырях, в тюрьмах, в дальних экспедициях и так далее, и так далее, – там, увы, неизбежно заводится самый отвратительный грибок – сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна. Так вот вам мой единственный рецепт против этой гнусной тли. Когда придёт к тебе товарищ и скажет: «А вот я вам какую сногсшибательную новость расскажу про товарища Х.» – то ты спроси его: «А вы отважитесь рассказать эту новость в глаза этого самого господина?» И если он ответит: «Ах нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет» – тогда громко и ясно ответьте ему: «Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу её слушать».
Закончив это короткое напутствие, Анчутин сказал сиплым, но тяжёлым, как железо, голосом:
– Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте.
Господа офицеры поневоле отвесили ему ермоловские глубокие поклоны и вышли на цыпочках.
На воздухе ни один из них не сказал другому ни слова, но завет Анчутина остался навсегда в их умах с такой твердостью, как будто он вырезан алмазом по сердолику».
Это правда жизни, потому что правду эту показал тот, кто прошёл и кадетский корпус, и юнкерское училище, кто писал не понаслышке, не выдумывал неведомо что, не стремился, подобно бессовестному племени «косил» от армии, опорочить ненавистное военное ремесло, ненавистных офицеров, а значит и будущих офицеров – кадет и юнкеров. А таковых хоть отбавляй – сравните образ начальника Александровского военного училища, блестяще созданный Куприным, с кукольным образом начальника неведомого юнкерского училища в «Сибирском цирюльнике». Здесь настоящий генерал, прошедший, как и все в его ранге, суровую школу войн по защите Отечества, в «цирюльнике» комедийный образ прохвоста, пьяницы и бабника – образ явно вымышленный, неправдоподобный, незаслуженно порочащий великое русское воинство.
Недаром Куприн показывает, что его герой Александров с грустью расстаётся с училищем – так и он расставался с грустью с юнкерской своей юностью. Выпуск. И всё. И начало офицерской жизни.
Ещё недавно – пора надежд, пора, когда каждый юнкер, а ныне курсант может представить себя суровым и волевым командиром, а в дальнейшем – командующим… Но вот время грёз позади – впереди взвод солдат, которых надо учить, которых надо воспитывать, от которых зависит – от их подготовленности – многое, очень многое в службе. Теперь всё ясно, всё реально, и всё не просто…
Дочь Куприна Елена Александровна отметила:
«Позднее он описал свои впечатления детства и юности в таких произведениях, как «На переломе», «Храбрые беглецы», «Юнкера», «Святая ложь». Поэтому, когда его попросили написать свою биографию, он ответил, что почти все его произведения автобиографичны…»
На пути к «Поединку»
В 1890 году подпоручик Александр Иванович Куприн получил назначение в 46-й Днепровский пехотный полк и отправился в Проскуров. Свою жизнь в гарнизоне и службу он впоследствии описал в своей повести «Поединок».
Уезжал, как и подавляющее большинство выпускников, холостым. К женитьбе же относился весьма своеобразно. Ему принадлежит такое изречение: «Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя». Впрочем, это написал гораздо позднее. А в те замечательные дни, когда ещё не притёрлись к плечам офицерские погоны, когда ещё гордость переполняла душу от осознания себя офицером, он, возможно, и не думал о том.
Но, во время службы своей он влюбился.
Марья Кирилловна Куприна-Иорданская, написавшая книгу об Александре Ивановиче, утверждала, что девушка, ставшая предметом страсти, характером своим напоминала Шурочку Николаеву из повести «Поединок».
В «Поединке» невозможность союза Ромашова и Шурочки имела вполне понятную причину – Шурочка была замужем. Но что же в реальной жизни? Марья Кирилловна вспоминала:
«Рассказывая по вечерам эпизоды из повести, Александр Иванович попутно сообщал мне с большими подробностями о своей жизни в полку, потому что действие в повести развивалось в той последовательности, в какой протекала его полковая жизнь.
Подробно рассказал он мне о связи с женщиной, значительно старше его. Госпожа Петерсон (под этой фамилией она фигурирует в «Поединке») была женой капитана. Сошёлся Куприн с ней только потому, что было принято молодым офицерам непременно «крутить» роман. Тот, кто старался этого избежать, нарушал общепринятые традиции, и над ним изощрялись в остроумии.
Третий год Куприн служил в Проскурове, когда на большом полковом балу в офицерском собрании познакомился с молодой девушкой. Как её звали сейчас, не помню – Зиночка или Верочка, во всяком случае, не Шурочка, по повести – жена офицера Николаева.
Верочке недавно минуло 17 лет, у неё были каштановые, слегка вьющиеся волосы и большие синие глаза. Это был её первый бал. В скромном белом платье, изящная и лёгкая, она выделялась среди обычных посетительниц балов, безвкусно и ярко одетых.
Верочка – сирота, жила у своей сестры, бывшей замужем за капитаном. Он был состоятельным человеком, и неизвестно по каким причинам оказался в этом захолустном полку.
Было ясно, что он и его семья – люди другого общества.
– В это время, – рассказывал Александр Иванович, – я мнил себя поэтом и писал стихи. Это было гораздо легче, чем мучиться над повестью, которую я никак не мог осилить. С увлечением я наполнял разными «элегиями», «стансами» и даже «ноктюрнами» мои тетради. В эту тайну я никого не посвящал. Но к Верочке я с первого взгляда почувствовал доверие и, не признаваясь в своём авторстве, прочёл несколько стихотворений. Она слушала меня с наивным восхищением, и это нас сразу сблизило. О том, чтобы бывать в доме её родных, нечего было и думать.
Однако подпоручик «случайно» всё чаще и чаще встречал Верочку в городском саду, где она гуляла с детьми своей сестры. Скоро о частых встречах молодых людей было доведено до сведения капитана. Он пригласил к себе подпоручика и предложил ему объяснить своё поведение. Всегда державший себя корректно с младшими офицерами, капитан, выслушав Куприна, заговорил с ним не в начальническом, а в серьёзном, дружеском тоне старшего товарища.
На какую карьеру мог рассчитывать не имевший ни влиятельных связей, ни состояния бедный подпоручик армейской пехоты, спрашивал он. В лучшем случае Куприна переведут в другой город, но разве там жить на офицерское жалованье – сорок восемь рублей в месяц – его семье будет легче, чем здесь?
– Как Верочкин опекун, – закончил разговор с Куприным капитан, – я дам своё согласие на брак с вами, если вы окончите Академию Генерального штаба и перед вами откроется военная карьера.
Куприн засел за учебники и с лихорадочным рвением начал готовиться к экзаменам в Академию.
– С мечтой стать поэтом я решил временно расстаться и даже выбросил почти все тетради с моими стихотворными упражнениями, оставив лишь немногие, особенно нравившиеся Верочке, – рассказывал Александр Иванович.
Летом 1893 года, Куприн уехал из Проскурова в Петербург держать экзамены в Академию».
И поступил бы, но приказом командующего Киевским военным округом был отозван в полк перед самым последним экзаменом. Обидно, ведь все, кроме последнего, он сдал успешно. Оказалось, что по пути в столицу он остановился в Киеве и зашёл пообедать в плавучий ресторан на Днепре. А там оказался свидетелем того, как пьяный пристав стал приставать к молоденькой девушке-официантке. Куприн схватил его и выбросил за борт. Пристав подал жалобу в штаб Киевского военного округа, ну и решение оказалось, как видим, весьма плачевным для Куприна, который, если бы поступил в академию, вполне мог стать военным высокого ранга. Но событие это оказалось благоприятным для Куприна, как будущего писателя. Словно невидимая рука направляла его на литературный путь.
Правда, с невестой пришлось расстаться – условие, которое ему было поставлено, он не выполнил.
В полку теперь ничего не задерживало, и Александр Иванович подал прошение об отставке. В 1894 году оно было удовлетворено. Куприн стал свободным как ветер. Но… Что делать? Куда деваться? Во все времена офицер, покидающий службу, оказывается перед решением подобного вопроса. Проблема возникает даже тогда, когда офицер имеет семью, обеспечен жильём. У Куприна же ничего не было – недаром он показался опекуну его возлюбленной весьма и весьма бесперспективным женихом.
Ксения Александровна Куприна рассказала в книге:
«И с тех пор началась его бродячая, пёстрая жизнь. В течение семи лет он был и грузчиком, и актёром, и суфлёром, и землемером, работал на литейном заводе, был журналистом и даже продавцом в лавке санитарных принадлежностей.
В Киеве он начал по-настоящему писать. Там были созданы произведения «Молох», «Киевские типы», «Олеся» и др».
Отзываясь о военной службе отца в традиционном непрезентабельном духе, дочь писателя всё же отмечала, что армейское «воспитание не могло подсознательно не влиять на его мировоззрение. В нём иногда прорывалось некое армейское рыцарство».
И на том, как говорится, спасибо...
Кстати, прошение об отставке было вызвано вовсе не тяготами военной службы – Куприн был вынослив и стоек, трудности его закаляли, и он не склонялся перед ними. Желание прервать службу объяснялось тягой к литературному творчеству. Ведь ещё в кадетском корпусе Александр Иванович начал свои литературные опыты. Конечно, они были самыми первыми и не слишком заслуживающими внимания. Он писал стихи, что неудивительно, если принять во внимание его влюбчивый характер.
Сам же он впоследствии утверждал, что началу начал его литературного творчества способствовало великолепное преподавание литературы в кадетском корпусе. Преподавателя Цуханова он впоследствии сделал в «Кадетах» литератором Трухановым. Показал, как тот «замечательно художественно» читал кадетам стихи Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Фёдора Ивановича Тютчева, повести и романы Николая Васильевича Гоголя, Ивана Сергеевича Тургенева.
Александр Иванович вспоминал впоследствии: «Кадетом я писал стихи. Надо признаться теперь, что были они подражаниями Г. Гейне в переводе Михайлова и были очень плохи. О последнем я не сам догадался, а мне сказал молодой, довольно известный поэт Соймонов, когда меня к нему привёл почти насильно мой шурин вместе с моими стихами. Нет! Мне не пришло в голову, что поэт зол или завистлив. Я просто перестал писать стихи, и – навсегда».
Во всяком случае, до службы в дальнем гарнизоне, где снова начал писать стихи, но скрывая их ото всех, кроме своей возлюбленной, да и то не признавался, что он автор.
Творчество начиналось, как это часто бывает, с некоторого подражания уже известным поэтам, в частности, так называемым «восьмидесятникам». Немногие из опытов 1883-1887 годов сохранились.
Публиковаться начал уже юнкером Третьего Александровского училища.
И первая публикация была в журнале «Русский сатирический листок» в 1889 году, где напечатали рассказ «Последний дебют».
Юнкерам публиковаться запрещалось, и Куприн был строго наказан. Но свершилось главное – он испытал неповторимое чувство авторства, когда держал в руках номер журнала со своей фамилией под рассказом. Об этом впечатлении он впоследствии, в 1897 году, поведал в рассказе «Первенец». Об этом же вспомнил и позднее, в 1929 году, уже в эмиграции, где был написан рассказ «Типографская краска».
Вот как рассказал Куприн о первом своём опыте публикаций произведений:
«С нетерпением ожидал я появления моей новеллы, которую принял для просмотра «Русский сатирический листок» Н. Соедова. Ждать пришлось довольно долго. Наконец наступил вечер одного воскресенья, в которое я был наказан без отпуска за единицу по фортификации. Юнкера приходили один за другим и являлись к дежурному. Пришёл, наконец, и мой товарищ Венсан, которого я попросил заглянуть в два-три журнальных киоска. В руках у него был толстый сверток.
– Поздравляю! Есть!
Я развернул два номера «Листка», и каждый с моей напечатанной новеллой.
О, волшебный, скипидарный резкий запах свежей печати! Что сравнится с ним в самых лучших, в самых драгоценных воспоминаниях писателя? Он пьянее вина и гашиша, он ароматнее всех цветов и духов, он сладостнее первого поцелуя… В душу мою вторгнулся такой ураган радости, что я чуть было не задохнулся. Чтобы утишить бурное биение сердца, я должен был перепрыгнуть поочередно через каждую койку в моем ряду туда и обратно. Я пробовал читать мою новеллу товарищам вслух, но у меня дрожал и пресекался голос, черные линии букв сливались в мутные пятна. Я поручал читать ближайшему юнкеру, но мне его чтение казалось совсем невыразительным, и я отнимал от него журнал.
О, незабвенный вечер! На другой день я познал и шипы славы. Не знаю, каким образом узнал о моем триумфе ротный командир Дрозд (юнкера не были болтливы). После утренней переклички он скомандовал:
– Юнкер Куприн!
– Я, господин капитан.
– До меня дошло, что ты написал какую-то там хреновину и напечатал ее?
– Так точно, господин капитан.
– Подай ее сюда!
Я быстро принёс журнал. Я думал, что Дрозд похвалит меня.
Он поднёс печать близко к носу, точно понюхал её, и сказал:
– Ступай в карцер! За незнание внутренней службы. Марш…
Ах, я совсем позабыл тот параграф устава, который приказывает каждому воинскому чину всё написанное для печати представлять своему ротному, тот передает батальонному, батальонный – начальнику училища, а одобрение, позволение или порицание спускается в обратном порядке к автору…»
Первый рассказ – есть первый рассказ. Немного мы можем вспомнить писателей, которые сразу достигали высот творчества, едва брались за перо. Феномены Пушкина, Лермонтова… практически неповторимы.
Но без первого рассказа, без боевого крещения в литературе невозможны новые победы.
Первая супруга Александра Ивановича Мария Карловна Куприна-Иорданская в своей книге привела рассказ Куприна о том памятном эпизоде. Он вспомнил его во время поездки в Москву, когда потянуло взглянуть на здание родного юнкерского училища.
«В Москву мы приехали рано утром в среду на страстной неделе и остановились в «Лоскутной гостинице».
– К маме мы поедем в четыре часа, – сказал Александр Иванович. – Утром она будет до двенадцати в церкви, потом ранний обед, после которого она отдыхает, а в четыре часа пьёт чай. В это время она бывает в самом лучшем расположении духа…
День был тёплый и солнечный – чувствовалось приближение весны, и мы отправились бродить по Москве, которую я знала только по редким наездам. Александру Ивановичу доставляло громадное удовольствие водить меня по своим любимым улицам и кривым переулкам, в глубине которых стояли старые, покосившиеся дворянские особняки с мезонинами и облупленными, похожими на пуделей, львами у ворот.
– А вот здесь, в третьем этаже, – указал мне Александр Иванович на один дом, – жил Лиодор Иванович Пальмин. Ты не можешь себе представить, с каким трепетом я поднимался в его квартиру по грязной крутой лестнице. Бедный терпеливый старик, как я надоедал ему, еженедельно притаскивая мои стихи и прозу, которые он добросовестно читал и пытался куда-нибудь протиснуть. Сейчас пройдём на Знаменку, там ты увидишь Александровское военное училище, где впервые я предавался «творческому вдохновению» и наконец достиг и литературной славы – в «Русском сатирическом листке» был напечатан мой рассказ, за который, как тебе известно, меня посадили на двое суток в карцер и под угрозой исключения из училища запретили впредь заниматься недостойным будущего офицера «бумагомаранием».
Между тем, после выхода в отставку, литературное творчество стало основным в жизни Куприна. Он работал много и увлечённо. Постепенно набралось публикаций на сборники – в 1896 году вышел сборник очерков «Киевские типы», а в 1897 году сборник рассказов «Миниатюры».
Настоящая любовь пришла позже. Вот как рассказывает о своём знакомстве с Александром Ивановичем Мария Карловна Куприна-Иорданская:
«В одно из ноябрьских воскресений 1901 года я усиленно готовилась к семинару профессора С.Ф. Платонова. Дверь в комнату была закрыта, и звонка из передней не было слышно.
– Пришли гости, мамаша приказали вам принять, сами они к гостям не выйдут, – скороговоркой проговорила, входя ко мне, молоденькая горничная Феня.
Появление гостей меня удивило.
Моя приёмная мать, Александра Аркадьевна Давыдова – издательница журнала «Мир Божий» – последние месяцы часто хворала. После смерти Лидии Карловны Туган-Барановской, старшей дочери, которую она страстно любила, у неё обострилась болезнь сердца. Она перестала заниматься делами журнала, никуда из дому не выезжала, отменила вечера и воскресные приемы. Кроме близких друзей, у неё никто не бывал.
Я вышла в гостиную. Среди комнаты стоял Иван Алексеевич Бунин и рядом с ним незнакомый мне молодой человек.
Приходу Бунина я обрадовалась. Мы давно не видались – последние два года он редко приезжал в Петербург, да и то ненадолго. Всегда, когда мы встречались после значительного перерыва, Иван Алексеевич, чтобы рассеять натянутость первой встречи, с пугливой почтительностью приветствовал меня и начинал разговор с какой-нибудь забавной выдумки. Так было и на этот раз.
– Здравствуйте, глубокоуважаемая, – обратился он ко мне. – На днях прибыл и спешу засвидетельствовать Александре Аркадьевне и вам своё нижайшее почтение. – Он преувеличенно низко поклонился, затем, отступив на шаг, ещё раз поклонился и продолжал торжественно серьёзным тоном: – Разрешите представить вам жениха – моего друга Александра Ивановича Куприна. Обратите благосклонное внимание – талантливый беллетрист, недурён собой. Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прошу любить и жаловать.
Довольный своей выдумкой, Бунин лукаво посмеивался. Куприн сконфуженно переминался с ноги на ногу и, смущённо улыбаясь, мял в руках плоскую барашковую шапку.
В синем костюме в серую полоску, мешковато сидевшем на его широкой в плечах, коренастой фигуре, низком крахмальном воротничке (таких в Петербурге уже давно не носили) и большом жёлтом галстуке-«пластроне» с крупными ярко-голубыми незабудками, Куприн рядом с корректным, державшимся свободно и уверенно Буниным казался неуклюжим и простоватым провинциалом.
– Так вот, почтеннейшая, – продолжал Бунин, когда мы сели, – сядем, посидим, друг на дружку поглядим. У вас товар, у нас купец, женишок наш молодец…
И как деревенский сват, выхваляя жениха, Бунин в то же время рассказывал о Куприне различные смешные анекдоты.
Этот фарс, неожиданно придуманный Иваном Алексеевичем, был очень забавен. И на его вопрос: «Так как же, глубокочтимая, нравится вам женишок? Хорош?..»
Я поддержала шутку:
– Нам ничего… да мы что… как маменька прикажут… их воля…
Мы от души смеялись, придумывая всё новые и новые забавные диалоги.
Куприн молчал, и стало заметно, что он чувствует себя неловко и бунинская затея его не веселит. Шутку следовало прекратить…»
Далее Мария Карловна рассказала о реакции Куприна на эту шутку. Когда они уже стали мужем и женой, Александр Иванович признался:
– Когда мы вышли из подъезда мимо вашего великолепного швейцара, который с глубоким презрением смотрел на моё старое пальто, я был очень зол на Бунина. Зачем я согласился пойти с визитом к Давыдовым? Совсем не нужно было этого делать, говорил я себе, идя по улице. Сама издательница не нашла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная барышня… Очень она мне нужна… Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто позволит им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А ещё приглашала бывать… Покорнейше благодарю, ноги моей там не будет. Но в редакцию к Богдановичу я, конечно, на днях зайду.
Должен признаться тебе, Маша, больше всего я сердился на самого себя, на свою застенчивость и ненаходчивость. И вот что, в конце концов, вышло из шутки Бунина, которую теперь я нахожу очень удачной и за которую теперь искренне ему благодарен…».
Знакомство продолжилось. Куприн стал бывать в гостях, а потом и включился в работу журнала.
Мария Карловна рассказала в книге:
«Куприн всё чаще и чаще начал бывать у нас. Моя мать особенного значения его посещениям не придавала. Александра Аркадьевна не всегда выходила вечером в столовую, но у нас жила моя тетушка, Вера Дмитриевна Бочечкарева, вдова артиста московского Малого театра М.А. Решимова, которая обычно разливала чай; поэтому отсутствие Александры Аркадьевны общепринятых тогда правил не нарушало. Незаметно все привыкли к Куприну, и он стал у нас своим человеком. Моей матери он нравился… Она охотно слушала его рассказы о военной службе, различных эпизодах его жизни, знакомых писателя… Когда я сказала матери, что стала невестой Куприна, она была изумлена и даже шокирована этой неожиданной новостью.
– Что ж это такое? Знакома с ним без году неделю – и вдруг невеста, – сказала она. – Ни узнать, как следует человека не успела, ни спросить у матери… совета… Что же, раз советы мои тебе не нужны, делай как знаешь.
Она махнула рукой и заплакала.
Предложение было сделано в сочельник 24 декабря, а в канун Нового года, вечером, Александр Иванович принёс мне обручальное кольцо, на внутренней стороне которого было выгравировано: «Всегда твой – Александр. 31. XII. 1901 года».
По поводу тех событий Александр Иванович говорил Марии Карловне:
«Какое глупое положение быть женихом. Все ваши знакомые приходят и с головы до ног оглядывают меня испытующим критическим взглядом. Женщины дают советы, мужчины острят. И всё время чувствуешь себя так неловко, как это бывает во сне, когда видишь, что пришёл в гости, а у тебя костюм не в порядке. Ваши подруги смеются, кокетничают и при мне спрашивают: «Ну, как ты себя чувствуешь, нравится тебе быть невестой?» Я кажусь себе дураком, над которым все, кому не лень, потешаются. Правда, я должен вам признаться, что иногда очень люблю, когда меня считают дураком, и нарочно веду себя так, чтобы поддержать это мнение, а сам думаю: «Нет, Саша совсем не дурак». Вот как-нибудь я вам это докажу. А сейчас мне не хочется… Знаете что, не будем мы долго тянуть эту дурацкую петрушку. Вас, может быть, это и забавляет, но, уверяю вас, жениховство – очень нелепая канитель».
А.И. Богдановичу, который был «фактическим редактором журнала «Мир божий», пытался отговорить Марию Карловну от замужества. Она вспоминала:
«Я пригласила Богдановича в мою комнату. Он сел глубоко в кресло и долго молча протирал очки, прежде чем приступить к разговору.
– Мне сообщила Александра Аркадьевна, что вы выходите замуж за Куприна, – начал он. – …Подумайте о том, что вы делаете, на что решаетесь. Вы совсем не знаете Куприна, для вас могут открыться крайне неожиданные стороны его характера и прошлого. Не скрою от вас, слухи о нём ходят разные и не все для него благоприятные… Куприн долго жил в Киеве, и мы можем там навести о нём справки…
– Я не намерена собирать сплетни, – перебила я Ангела Ивановича.
– Во всяком случае, мой вам совет, – продолжал он, – со свадьбой лучше не торопитесь. Но главное не в этом. Я готов согласиться с вами, что всегда передаётся много сплетен, много неверных сведений. Главное, я считаю, вот в чём. Что представляет собой Куприн? Бывший армейский офицер с ограниченным образованием, беллетрист не без дарования, но до сих пор не написавший ничего выдающегося, автор мелких, по преимуществу газетных рассказов. В доме вашей матери вы привыкли видеть выдающихся людей и крупных писателей. Бывая в их семьях, вы не могли не заметить, как ревниво относятся жены к литературным успехам своих мужей. И это жены крупных писателей. А жены небольших, средних литераторов? Ведь их жизнь отравлена непрерывно гложущими их завистью и неудовлетворённым честолюбием. Такие примеры вы, конечно, знаете. Боюсь, что будет сильно страдать и ваше самолюбие. Куприн – талантливый писатель, но только талантливый, не больше. Выше среднего уровня он не поднимется. Другое дело, например, Леонид Андреев. Можно сказать безошибочно, что ему предстоит большое будущее. Даже Михайловский сразу обратил на него внимание.
– Думаю, Ангел Иванович, что вы ошибаетесь, – возразила я. – И то, что Куприну в течение нескольких лет приходилось размениваться на мелкую монету в газетной работе, совсем не доказывает отсутствие у него крупного таланта. Вспомните о Чехове. Вы сожалеете о том, что Куприн не Леонид Андреев. А что об Андрееве вы знали год назад? Да ровно ничего, как не знал и никто, пока в прошлом месяце не появилась статья Михайловского. Поэтому судить о том, кому какое будущее предстоит, мне кажется, ещё преждевременно…»
Не очень радовалась предстоящей свадьбе и мать Марии Карловны. Она опасалась, что Куприн увезёт её дочь в Москву, поскольку знала, что он не любил Петербург.
А вот мать Александра Ивановича была обрадована его женитьбой и тем, что закончится его «бродячая и скитальческая жизнь». В конверт Любовь Алексеевна вложила и письмо для Марии Карловны, в котором писала: «Перед свадьбой я пришлю Саше и Вам моё родительское благословение – икону святого Александра Невского, по имени которого назван Саша. Когда я вышла замуж, у меня родились две девочки. Но моему мужу и мне хотелось иметь сына. И вот тут нас стало преследовать несчастье. Один за другим рождались мальчики и вскоре умирали. Только один дожил до двух лет и тоже умер. Когда я почувствовала, что вновь стану матерью, мне советовали обратиться к одному старцу, славившемуся своим благочестием и мудростью.
Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила – в августе. «Тогда ты назовёшь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней – точно по мерке новорожденного – образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь над изголовьем ребёнка. И святой Александр Невский сохранит его тебе».
Этот образ будет моим родительским вам благословением. И когда Господь даст, что и вы будете ждать, младенца, и ребёнок родится мужского пола, то вы должны поступить так же, как поступила я».
Постепенно всё улаживалось. Дело шло к свадьбе, и ни единой тучки не показывалось на горизонте отношений Александра Ивановича и Марии Карловны. Даже мать невесты изменила своё отношение к Куприну.
Венчание было назначено 3 февраля, затем обед, который затянулся до позднего вечера. Но Александру Ивановичу и Марии Карловне удалось вырваться домой, на съёмную квартиру около десяти вечера. Собственно, то была не квартира, а небольшая комната, снятая неподалёку от дома матери невесты.
В книге Марии Карловны о нём рассказано так:
«Наш хозяин – одинокий старик лет шестидесяти – днём был занят в какой-то мастерской, а в свободное время работал на себя. Он был краснодеревец, любил своё дело и дома ремонтировал различную старинную мелкую мебель красного дерева, а на заказ делал шкатулки, рамки, киоты. Проходить в нашу комнату надо было через его помещение.
Старик приветливо встретил нас и тотчас же предложил поставить самоварчик.
– Небось притомились. Свадьба – дело нелёгкое… Покушайте чайку, – добродушно сказал он.
– А, правда, Машенька, стыдно признаться, – я зверски голоден. А ты как?... Сейчас сбегаю в магазин на углу и принесу чего-нибудь поесть.
Вернулся Александр Иванович с хлебом, сыром, колбасой и бутылкой крымского вина. Но чая у нас, конечно, не было, и пришлось на заварку занять у хозяина. Александр Иванович взял гитару и запел:
Нет ни сахару, ни ча-аю,
Нет ни пива, ни вина,
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена…»
Прапора, в смысле, прапорщика. В то время это был первый офицерский чин.
И потекла семейная жизнь. Мария Карловна так описывала её:
«Утром после чая Куприн садился читать и править рукописи для «Журнала для всех», а я уходила к матери и проводила в моей семье весь день. К шести часам из редакции приходил Александр Иванович, мы обедали, а после обеда возвращались к себе домой, и вечер был уже наш.
Только теперь мы могли говорить без помехи, ближе подойти друг к другу. И здесь, в нашей маленькой комнате в квартире столяра, Александр Иванович впервые начал делиться со мной своими творческими замыслами и говорить о себе, своих прошлых скитаниях и о том, что близко его затрагивало и волновало».
Однажды вечером Куприн показался Марии Карловне очень взволнованным и озабоченным. Она так описала разговор с ним, который имел большие последствия:
«– Слушай меня внимательно, Машенька… Думай только о том, что я говорю, и, пожалуйста, смотри только на меня, а не по сторонам… Я скажу тебе то, чего никому ещё не говорил, даже Бунину. Я задумал большую вещь – роман. Главное действующее лицо – это я сам. Но писать я буду не от первого лица, такая форма стесняет и часто бывает скучна. Я должен освободиться от тяжёлого груза впечатлений, накопленного годами военной службы. Я назову этот роман «Поединок», потому что это будет поединок мой…»
Так впервые Куприн заговорил о будущем знаменитом своём романе. Собственно, роман уже был начат, и Александр Иванович в тот вечер прочитал несколько страниц, пояснив:
– Вот пока глава, которую я наметил для моего будущего романа. Понравилась она тебе, Машенька? Но роман, Маша, это ещё дело будущего. Прежде чем серьёзно приступить к этой работе, я должен ещё многое обдумать. А пока у меня несколько хороших тем для рассказов, которые надо написать, чтобы к будущей зиме подготовить материал для сборника.
Жизнь протекала в работе, постоянной работе. Случались, конечно, размолвки и ссоры.
Мария Карловна поведала в книге об одной такой нелепой ссоре:
«На день моего рождения, 25 марта – праздник благовещенье – Александр Иванович решил сделать мне подарок. Перед тем он совещался с моим братом, Николаем Карловичем, который сказал, что хочет подарить мне небольшие дамские золотые часы, «Нет, часы подарю я, – сказал Александр Иванович, – а ты купи красивую цепочку». На этом они и порешили.
Утром в спальню поздравить меня вошёл Александр Иванович.
– Посмотри, Машенька, мой подарок, как он тебе понравится, – сказал он, вынимая из хорошенькой голубой фарфоровой шкатулки часы. – Я не хотел дарить тебе обыкновенные золотые часы и нашёл в антикварном магазине вот эти старинные.
Часы были золотые, покрытые тёмно-коричневой эмалью с мелким золотым узорным венком на крышке.
– Обрати внимание на тонкую работу узора на крышке, с каким замечательным вкусом сделан рисунок, – говорил Александр Иванович.
Я молча разглядывала подарок, он, стоя рядом со мной, нетерпеливо переступал с ноги на ногу.
– Что же ты ничего не говоришь? – наконец, спросил он.
– Часы очень красивы, но они совсем старушечьи. Должно быть, их носила чья-то шестидесятилетняя бабушка, – засмеялась я.
Александр Иванович изменился в лице. Ни слова не говоря, он взял у меня из рук часы и изо всей силы швырнул их об стену. И когда отлетела крышка и по всему полу рассыпались мелкие осколки стекла, он наступил каблуком на часы и до тех пор топтал их, пока они не превратились в лепёшку. Всё это он делал молча и так же молча вышел из комнаты».
А через несколько минут брат вручил ей цепочку для уже разбитых вдребезги часов.
Так началась семейная жизнь, в которой, на первых порах, было всё же неизмеримо больше хорошего, доброго.
Узнав о том, что жена ждёт ребёнка, Куприн сделался особенно внимательным и предупредительным с ней. Старался как можно чаще бывать дома, выводить Марию Карловну на прогулки. Она вспоминала:
«Куприн был полон предстоящим рождением ребёнка.
– Конечно, это будет мальчик, сын, мой сын. Какое таинственное явление – рождение ребёнка. Мы назовем его Алешей. Алексей – «Божий человек».
… В другой раз Александр Иванович говорил:
– Вот, Маша, если бы мы жили не в Петербурге, а в деревне Казимирке, где я подвизался в качестве псаломщика, и ты бы мучилась родами, я бы отправился в церковь открыть царские врата. Это делается при трудных родах. Представь себе обстановку Маша; ночь, тёмная маленькая церковь, горит только несколько тоненьких восковых свечей, и старенький попик (я вижу его таким, как тот, у которого я в первый раз исповедовался в детстве) тихим, проникновенным голосом читает молитвы. И какие замечательные молитвы! На коленях стоит и истово молится отец, верящий, что чрево родильницы в это время раскроется так же легко, как царские двери. Правда, хорошо, Маша?!
– Ты, Сашенька, очень хорошо и трогательно рассказываешь, но меня такая возможность мало радует… Твоя мечта исполнится в том случае, если у меня роды будут очень тяжёлые…»
И вот, наконец, 3 января 1903 года у Куприных родилась девочка. Назвали её Лидией.
Мария Карловна так описала это событие:
«Несмотря на то, что Александр Иванович ожидал рождения сына, а на свет появилась дочь, он был счастлив и доволен.
– Девочки добрее и ласковее мальчиков, – говорил он. – Я не раз наблюдал, с какой материнской заботливостью старшие сёстры относятся к малышам в больших семьях. «Это необыкновенный ребёнок. Он уже всё понимает. А какой он красивый!» – говорят все любящие родители и вытаскивают своего ребёнка напоказ гостям, которые в высокой степени равнодушно созерцают бессмысленно таращившего глаза младенца, но с фальшивой улыбкой восклицают: «Да, да, замечательный ребёнок». Мы, Маша, так делать не будем. Мы никому нашу Лидочку не будем показывать, хотя, – засмеялся Куприн, – наша Лидочка необыкновенный ребёнок, не то, что все дети. Но говорить об этом мы будем только друг с другом. Ты знаешь, конечно, я совсем не суеверен. Но… я боюсь недоброжелательного, дурного взгляда. «Ребёнка недолго и сглазить», – предупреждала мамаша».
Не забывал Александр Иванович и о работе, в том числе и над романом, для которого всё ещё не было фамилии главного героя. Найти её помог случай, причём не последнюю роль сыграла жена. Мария Карловна вспоминала:
«Александр Иванович всегда обедал дома и старался не опаздывать. А если иногда и запаздывал, то ненамного, и в этих случаях приводил с собой кого-нибудь. Однажды Соня Ростовцева позвонила мне по телефону. Она сообщила, что у её родителей собралась целая компания приехавших на несколько дней в Петербург, нижегородцев.
– Если вам будет приятно с ними повидаться – вспомнить лето, когда вы гостили у нас на даче около Нижнего, то приезжайте скорее».
И Мария Карловна отправилась в гости. И как-то вышло само собой, что задержалась там довольно долго, о чём впоследствии написала в книге:
«Время летело незаметно, и когда я спохватилась, что пора домой, то оказалось, что уже седьмой час. Я забеспокоилась: вдруг Александр Иванович пригласил кого-нибудь к обеду, а меня ещё нет. Выйдет неловко, и я поспешила домой.
У нас в столовой никого не было, но стол был накрыт. Я заглянула в комнату Александра Ивановича – там было пусто. Но когда я открыла дверь в нашу спальню, то увидела Александра Ивановича, который сидел боком у моего письменного стола и даже не повернул голову в мою сторону. Со стола был сброшен на пол его большой портрет, рамка была разбита, портрет залит чернилами, а хорошая фотография, сделанная в Коломне зятем Александра Ивановича С. Г. Натом, была разорвана в клочки. Металлическую пепельницу, которая стояла у меня на столе, Александр Иванович мял в руках, вдавливая её высокие края внутрь. Пепельница была массивная, и было заметно, что, несмотря на большую физическую силу, эта работа давалась ему нелегко.
От изумления я остолбенела. Он не произносил ни слова.
– Саша, что за погром? Что случилось?
– Где ты была? – отрывисто спросил он.
– Я была у Сони и засиделась у неё…
– Ага… Засиделась… Там был, конечно, Сонин родственник, гвардейский офицер… Соня мне рассказывала – раньше он за тобой ухаживал.
– Что за вздор, никакого там офицера не было, а были приезжие нижегородцы. Ты же знаешь, что четыре года назад я гостила у Кульчицких в Нижнем…
– Ах, вот как, нижегородцы… А кто там был?
– Могу тебе перечислить, но ведь ты никого из них не знаешь. Были старики-нотариусы, а из молодежи Рукавишниковы и бывший Сонин поклонник Ромашов – он теперь уже женат.
Александр Иванович внезапно поднял голову, уставился на меня и, ещё продолжая держать в руках изуродованную пепельницу, переспросил:
– Кто, кто?
– Но я же сказала тебе – кто.
– Нет, повтори ещё раз последнюю фамилию.
– Мировой судья Ромашов. Ромашов, мировой судья. Понял, наконец? – повторила я сердито.
Александр Иванович вскочил, отшвырнул пепельницу.
– Ромашов, Ромашов, – вполголоса произнёс он несколько раз и, подойдя ко мне, взял за руки. – Маша, ангел мой, не сердись на меня. Я всегда волнуюсь и злюсь, как дурак, ревнивый дурак, когда тебя долго нет дома. Я же знаю, что я смешной. Конечно, Ромашов. Только Ромашов… Да, именно Ромашов. Какая ты умница, Машенька, что поехала к Соне. Могло же так случиться, что никогда не узнал бы о существовании Ромашова. А теперь «Поединок» ожил, он будет жить… Будет жить!!»
«Любовь похожа на цветы…»
Мария Карловна очень осторожно и деликатно касается семейных драм и сцен, стараясь не бросить тень на Александра Ивановича. Лишь вскользь упоминала о пристрастиях к выпивкам, к загулам по ресторанам и поездкам к цыганам, что было модно в ту пору. И это наиболее верный подход – ведь иным шелкопёрам только волю дай…
По-другому у Марии Карловны.
«Двадцать второго февраля 1907 года в театре Комиссаржевской, на Офицерской улице, шла премьера «Жизни Человека» Л.Н. Андреева. Ф.Д. Батюшков и я поехали в театр. Александр Иванович остался дома: произведения Леонида Андреева ему не нравились.
…Когда я вернулась из театра, то сидевший у Куприна И.А. Бунин спросил меня с иронией:
– Ну как пьеса? Понравилась вам? Правда, что смерть сидит в уголке и кушает бутерброд с сыром?
Я ответила совершенно серьёзно, что вещь мне очень понравилась и у публики она имела большой успех.
Мой ответ взбесил Куприна. Он схватил со стола спички, чиркнул, дрожащей рукой прикурил и бросил горящую спичку мне на подол. Я была в чёрном газовом платье. Платье загорелось».
Эта ссора привела к серьёзной размолвке, Мария Карловна даже говорит, о том, что с той поры жизненные пути её и Александра Ивановича стали расходиться. Но наивно полагать, что всему виною только это ссора. Ссора могла стать разве что поводом. Причины крылись в другом, и были достаточно глубоки.
Вот что писала по этому поводу дочь писателя:
«Семейная жизнь Куприных была сложной. Мария Карловна – умная, светская, блестящая женщина – задалась целью обуздать буйный нрав Куприна и сделать из него знаменитого писателя. Александр Иванович вначале был очень влюблён в свою жену и нежно любил дочку Лидушу. Но он терпеть не мог светского общества и обязательств, принуждавших людей исполнять ритуалы, предписываемые средой и обычаями. Великосветским знакомым жены Александр Иванович предпочитал своих бесшабашных друзей, с которыми встречался в маленьких кабачках…»
И ещё одно немаловажное обстоятельство отталкивало Куприна. Об этом тоже в книге дочери писателя:
«Немало было тогда разговоров, что Куприн обязан признанием его таланта своей жене-издательнице и её высоким связям. Бешеное самолюбие Александра Ивановича не могло с этим мириться…
Куприну была чужда светская неискренность, кокетство, соблюдение правил салонного этикета. Я помню, как он выгнал какого-то несчастного молодого человека из нашего дома только за то, что, как ему показалось, он смотрел на меня «грязными глазами». Он всегда ревниво следил за мною, когда я танцевала.
Легко представить себе его бешеную реакцию, когда Мария Карловна намеками давала ему понять, кто и как за ней ухаживает. В то же время Куприн не мог постоянно находиться под одной крышей с нею. Если судить по воспоминаниям самой Марии Карловны, то создаётся впечатление, что отец совсем не мог работать дома. Странно подумать, что, живя в одном городе со своей женой и ребёнком, он снимал комнату в гостинице или уезжал в Лавру, в Даниловское либо в Гатчину, чтобы писать...»
А что же сам писатель говорил и писал о своей семейной жизни? Вот строки из его письма к Батюшкову:
«Теперь о любви. Я раньше всего скажу, что никаким афоризмом этого предмета не исчерпать…
Лучше всего определение математическое: любовь – это вечное стремление двух равных величин с разными знаками слиться и уничтожиться (прибавлю от себя – в сладком безумии). Когда Вы говорите + 1 и рядом думаете о –1, то не чувствуете ли Вы между ними какого-то неудержимого безумного тяготения? Но глубочайшая тайна любви именно и заключается в том, что в результате получается не 0, а 3.
Любовь – это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего Я.
Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность. Но в любви. Ибо вся вышеперечисленная бутафория только и служит что оперением любви…
Что же такое любовь? Как женщины и как Христос, я отвечу вопросом: «А что есть истина? Что есть время? Пространство? Тяготение?..»
Но для того, чтобы за одной из деталей скрыться от целого, и у меня есть афоризмы:
Любовь похожа на цветы: только что сорванные – они благоухают, но назавтра их надо выбросить.
Или: Больше, чем всё другое в мире, любовь заключает в себе полюсы уродства и красоты.
Или: В любви бесстыдство и стыдливость почти синонимы. И т. д.
(…)
Ваш душевно А. Куприн».
Это письмо написано незадолго до развода с Марией Карловной в 1806 году…
Мать Александра Ивановича не приняла развод. В мае 1909 года она писала Марии Карловне:
«Муся моя родная, дорогая!
Знаете ли Вы, что я над Вашими письмами горько плачу, и никогда я не перестану считать Вас не родным и дорогим мне человеком, особенно теперь. Вы после Ваших этих писем стали мне ещё милее и дороже. Мне почему-то кажется, что Вы одинока и воспоминания о прошедшем Вам делают жизнь нерадостной. Я за Вас тогда только успокоюсь, когда Вы найдёте человека, достойного Вас, и полюбите, и дай Бог, чтобы это скорее случилось. Если бы Вы знали, как дорога мне Люленька и что я должна скоро ломать свою душу при виде второй дочки моего Саши. Когда я была в прошлом году в Гатчине, я ненавидела этого ребёнка; в той комнате, где была помещена Ксения, висел портрет моего сокровища Люленьки, и когда мне приходилось подходить и покачать коляску, то я с со слезами просила прощения у Люленьки, клялась ей, что эта никогда не заменит тебя, мой ангел. Лиза попросила меня взять девочку на руки и хотела снять меня с ней, так я совсем забылась и вскочила положить ребёнка на подушку, говоря, что только с одной Люленькой из всех моих внучат я снялась в моей жизни и больше ни с кем не снимусь. Это видели и Саша и Лиза, но Саша меня понял и извинил, верно, в душе, да и девочке было только три недели. А вот теперь что мне делать. Я числа 12 еду в Житомир… Вот где и начинается моя душевная ломка…
Как Вы утешили меня, написав, что Люленька так хочет меня видеть, а я бог знает что дала бы, чтобы мне пожить с ней хоть две-три недели, на день-два дня невозможно наше свидание с ней, я стану без умолку реветь, и ей будет тяжело и нехорошо. Вот если на будущую весну я буду жива и здорова, то я приеду к Вам в Петербург. Если Вы этого захотите. Одним словом, до Вашего отъезда на дачу или за границу.
Когда я была в Гатчине, то там я видела В. П. Кранихфельда и попросила его журнал присылать мне прямо в Москву во Вдовий дом, так он и сделал, и я стала получать второе полугодие журнал сама. Спасибо Вам, дорогая, за это внимание ко мне. Моя жизнь так пуста, так одинока, что книга для меня все…
Обнимаю Вас и Люленьку. Горячо любящая Вас Л. Куприна.
Пишите мне, Муся моя дорогая, на имя Зины для передачи мне».
Лето 1909 года Любовь Алексеевна Куприна провела в Житомире, где Куприн писал первую часть повести «Яма». Ждала с нетерпением следующего лета, но весной 1910 года тяжело заболела. В таком состоянии ехать в Петербург не могла.
Она написала внучке 15 апреля из Москвы, куда привёз её сын:
«Христос воскрес.
Дорогая моя голубочка Люленька, посылаю тебе на этой карточке дом, где я живу. Поздравь маму, поблагодари за книжки и скажи ей, что я в лазарете. Напиши мне, моя родная, о себе побольше. Я очень, очень тебя люблю и молюсь за тебя. У меня было воспаление бока. Не забывай меня, твою родную любящую бабушку. Л. Куприна».
А уже 14 июня 1910 года она ушла из жизни.
Александр Иванович сообщил об это бывшей жене:
«Похоронили маму. А ты не могла приехать – занялась собачьей свадьбой со своим социал-демократом».
Мария Карловна действительно вышла замуж. 9-го июня 1910 года она обвенчалась с Н. И. Иорданским.
Но что же стало главной причиной их разрыва с Александром Ивановичем?
Конечно, то, что разладились отношения, вроде как и не причина. Во многих семьях проходит любовь, но остаются привычки, которые связывают крепко, связывают, конечно, и дети. Но… Раздал в отношениях приводит к тому, что сердца супруга или супруги, а то и обоих супругов как бы освобождаются для новых увлечений.
Вскоре после окончания русско-японской войны в доме Куприных появилась молодая женщина Елизавета Ротони. Её взяли в качестве няни для маленькой дочери, ну и для помощи Марии Карловне по хозяйству. Оклад установили 25 рублей в месяц. Ну что ж, няня и домработница… Прислуга одним словом. Но прислуга не из простых. Елизавета была дочерью обрусевшего венгра, которого судьба забросила в Оренбург. Там Мориц Гейнрих Ротони и осел, женившись на сибирячке. Старшая их дочь Мария Морицовна стала супругой писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.
Детей в семье было много. Мария была старшей, а Елизавета моложе неё на целых семнадцать лет. Но, несмотря на эту разницу, сёстры были необыкновенно дружны. Когда родители ушли из жизни, Мария забрала Елизавет к себе, но и её век оказался недолгим – умерла после родов, оставив Дмитрия Наркисовича с маленькой дочкой и сестрой ушедшей в мир иной жены. Писатель сошёлся с гувернанткой, из-за которой жизнь Елизаветы в доме стала невыносимой. Она нашла спасение в Евгеньевской общине сестёр милосердия, и добровольно отправилась на русско-японскую войну. В действующей армии она влюбилась в молодого врача, с которым работала в медучреждении. Собиралась замуж, даже обручилась и стала невестой врача. Но он – грузин по национальности – оказался человеком жестоким, издевался над солдатами, а одного избил на глазах невесты. Бить подчинённого, который не может ответить тебе тем же – не просто жестоко, но и подло. Елизавета была крайне возмущена, от её чувств не осталось и следа. Она рассталась с женихов и уехала в Петербург.
Дочь писателя проливает свет на то, каким образом в жизни Куприна появилась новая женщина – Елизавета.
«Когда Лиза вернулась с войны, Куприны отсутствовали. Их дочка Люлюша, оставленная на няньку, заболела дифтерией. Лиза, страстно любившая детей, день и ночь дежурила у постели Люлюши и очень к ней привязалась. Вернувшись в Петербург, Мария Карловна обрадовалась привязанности дочери к Лизе и предложила последней поехать с ними в Даниловское, имение Федора Дмитриевича Батюшкова. Лиза согласилась, так как чувствовала себя в то время неприкаянной и не знала, чем себя занять.
Впервые Куприн обратил внимание на строгую красоту Лизы на именинах Н. К. Михайловского. Об этом свидетельствует краткая записка моей мамы, где не указана дата этой встречи. Она вспоминает только, что молодежь пела под гитару, что среди гостей был молодой ещё Качалов.
В Даниловском Куприн уже по-настоящему влюбился в Лизу. Я думаю, что в ней была та настоящая чистота, та исключительная доброта, в которых очень нуждался в то время Александр Иванович. Однажды во время грозы он объяснился с нею. Первым чувством Лизы была паника. Она была слишком честной, ей совсем не было свойственно кокетство. Разрушать семью, лишать
Люлюшу отца казалось ей совершенно немыслимым, хотя и у неё зарождалась та большая, самоотверженная любовь, которой она впоследствии посвятила всю жизнь.
Лиза снова обратилась в бегство. Скрыв от всех свой адрес, она поступила в какой-то далекий госпиталь, в отделение заразных больных, чтобы быть совсем оторванной от мира.
В начале 1907 года для друзей Куприных стало ясно, что супруги несчастливы и что разрыв неизбежен…»
И далее:
«Мемуаристы той поры, упоминая о Куприне, почти не замечают его новую жену. В отличие от Марии Карловны, внешне яркой, громкой, стремящейся всегда и всюду быть на первом плане, Елизавета Морицовна, напротив, на главные роли не претендовала. «Любовь к Лизе возвращает его к давнишней мечте о пересказе «Песни песней», о великой любви царя Соломона к простой девушке из виноградников», – напишет позже их дочь Ксения. Так появилась знаменитая купринская «Суламифь». В том же году увидел свет и еще один гимн торжествующей любви – повесть «Гранатовый браслет».
Куприн переживал отъезд Елизаветы. Тем более, её исчезновение уже ничего не могло изменить.
Дочь писателя вспоминала:
В феврале 1907 года Куприн ушёл из дома; он поселился в петербургской гостинице «Пале-Рояль» и стал сильно пить. Федор Дмитриевич Батюшков, видя, как Александр Иванович губит своё железное здоровье и свой талант, взялся разыскать Лизу. Он нашёл её и стал уговаривать, приводя именно такие аргументы, которые только и могли поколебать Лизу. Он говорил ей, что разрыв с Марией Карловной окончателен, что Куприн губит себя и что ему нужен рядом с ним именно такой человек, как она. Спасать было призванием Лизы, и она согласилась, но поставила условием, что Александр Иванович перестанет пить и поедет лечиться в Гельсингфорс. 19 марта Александр Иванович с Лизой уезжают в Финляндию, а 31-го разрыв с Марией Карловной становится официальным…»
Поселились Александр Иванович и Елизавет в Гатчине. Там они прожили восемь счастливых лет. У них был уютный домик с огородиком, своё домашнее хозяйство. В 1908 году Елизавета родила Ксения, а через год – Зинаида.
Елизавета была верной и преданной женой. Куприн ценил это, но его буйный нрав не позволял ему стать примерным семьянином.
Тяжёлые испытания выпали на её долю в эмиграции. Куприн писал:
«Обитаем в двух грязных комнатушках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце. Елизавета Морицовна сама стирает, стряпает и моет посуду…»
Елизавете, кроме всего прочего, приходилось работать, чтобы как-то прожить, свести концы с концами.
Олег Михайлов в своей книге о Куприне пишет о её нравственных страданиях:
«Чуткая и самоотверженная Елизавета Морицовна с болью следила за тем, как гаснет в Куприне писатель. На её хрупкие плечи легли теперь все житейские невзгоды – все муки за неоплаченные долги и добывание денег «хоть из-под земли» не только для собственной семьи, но и для нуждающихся друзей и знакомых. Видя, как тяжело Куприну писать на чужбине, как непостоянны заработки некогда знаменитого писателя, Елизавета Морицовна вместе с профессиональным мастером открыла переплетную мастерскую… Коммерческая затея отважной, но непрактичной женщины кончилась плачевно: компаньон оказался пьяницей, заказы не выполнялись в срок, и мастерскую пришлось очень скоро закрыть…»
Но самым для неё ужасным испытанием было ещё и то, что Куприн, несмотря на возраст, часто увлекался женщинами, посвящал им стихи, бывало, что не ночевал дома.
Тяжёлая болезнь подкралась незаметно. Было решено принять приглашение Советского правительства и вернуться на Родину. В конце мая 1937 года Куприны выехали в СССР. Там спустя год он и завершил свой жизненный путь. Елизавета Морицовна ушла из жизни в блокадном Ленинграде.
--
Николай Шахмагонов
Николай Шахмагонов. Любовь - есть нравственное творчество
Исповедь Михаила Пришвина
Николай Шахмагонов
ЛЮБОВЬ – ЕСТЬ НРАВСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
(Исповедь Михаила Михайловича Пришвина)
«Любовь похожа на море…»
Михаил Михайлович Пришвин, признанный певец русской природы, автор романов, повестей, детских рассказов, встретил своё счастье лишь в шестьдесят семь лет.
Шестьдесят семь! Для кого-то старость и всё лучшее уже прошлом, а кто-то и вовсе ушёл раньше… Пришвин же только в шестьдесят семь сделал первый шаг на Олимп Счастья, Семейного Счастья…
И вот в шестьдесят семь лет всё перевернулось, всё пошло кувырком, но, в самом добром, самом хорошем и самом радостном для Михаила Пришвина смысле. Он снова испытал то, что лишь отдалённо испытал в юности.
Итак, всё произошло 16 января 1940 года. А впереди ещё было 14 лет – четырнадцать лет счастья, настоящего, всепобеждающего, счастья, без сучка без задоринки.
Что-то мистическое было в этом счастье – Пришвин ушёл из жизни именно 14 января 1954 года. Именно 14 января, прожив долгую жизнь – не каждому судьба выделяет такой срок на нашей грешной Земле.
Впрочем, не будем сразу раскрываться карты, не будем сразу рассказывать о том, что же послужило причиной счастья, а точнее, кто, поскольку, что бы там, и кто не говорил, истинное счастье может прийти только вместе со светлейшим и прекраснейшим из всех чувств – чувством Любви. Пришвин написал в своём дневнике, когда встретил своё счастье:
«Любовь похожа на море, сверкающее цветами небесными. Счастлив, кто приходит на берег и, очарованный, согласует душу свою с величием всего моря. Тогда границы души бедного человека расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и смерти нет... Не видно «того» берега вморе, и вовсе нет берегов у любви.
Но другой приходит к морю не с душой, а с кувшином и, зачерпнув,приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает соленая инегодная.
– Любовь – это обман, – говорит такой человек и больше невозвращается к морю…».
Возможно, были времена, когда и он сам считал любовь обманов, поскольку было много, очень много в жизни горестей и печалей, сомнений и разочарований. Были и самые первые, робкие чувства, были и первые мятежные желания, были соблазны, которые не распалили желаний, а напротив, погасили их, напугав Пришвина.
В дневнике он откровенно рассказывает о первых опытах общения с прекрасным полом:
«Это было в детстве. Я – мальчик и она – прекрасная молодая девушка, моя тётка, приехавшая из сказочной страны Италии. Она пробудила во мне впервые чувство всеохватывающее, чистейшее, я не понимал ещё тогда, что это – любовь. Потом она уехала в свою Италию. Шли годы. Давно это было, не могу я теперь найти начала и причин раздвоенности моего чувства – этот стыд от женщины, с которой сошёлся на час, и страх перед большой любовью».
Первая любовь! Она не забывается. Михаил Юрьевич Лермонтов посвятил ей всего две строки в стихотворении «Кавказ». Но какие это были строки!
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..
И пояснил:
«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду?
Иван Сергеевич Тургенев посвятил этому чувству прекрасную повесть, так и назвав её: «Первая любовь», Тютчев даже в исполненном печали и трагизма стихотворении на смерть Пушкина, воскликнул:
«Тебя, как ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ,
России сердце не забудет…»
Впрочем, и писатели, и поэты, да что там, и каждый читатель тоже по своему испытал в своё время первую любовь, по своему пережил её и Пришвин.
Он не раз ещё мысленно возвращался в юные годы, он думал о ней и тогда, когда встретил много лет спустя предмет этой своей любви, но к тому времени многое перевернулось и переломилось в его душе, и первый опыт восприятия чувств к прекрасному полу заставил сделать свои, выстраданные выводы.
Он был уже не ребёнком, но ещё и не юношей – он был в отроческом возрасте. Он жил в имении своих родителей, приобретённым дедом – Елецкий район, в то время Орловской губернии… То есть, он родился в губернии, давшей России великолепную плеяду знаменитых писателей и поэтов. В имении была горничная – Дуняша. Девушка красивая, немножечко дерзкая, немножечко ироничная и довольно раскованная. Она была старше Михаила, старше, может, и не на много, с точки зрения зрелых лет… Но в том возрасте и год, и два, а тем более больше, имеют значение.
Да… Чем дальше нас уносят в зрелость годы, тем меньше разница в летах видна. Это очевидно каждому, и это я обрёл в поэтическую форме, завершая стихотворение:
Ручьи и реки катят в море воды,
Соединяет в море их волна.
Чем дальше нас уносят в зрелость годы,
Тем меньше разница в летах видна!
Михаил Пришвин, несмотря на то, что был отроком, очень нравился Дуняше, нравился настолько, что она не раз намекала, что готова с ним «на всё»… И он сдался, он рванулся в неизведанное… Но, как вспоминал впоследствии, в самую решительную минуту, словно услышал внутренний голос – или, как пояснил – голос невидимого «покровителя»: «Нет, остановись, нельзя!»
Много лет спустя, оценивая свою жизнь, написал:
«Если бы это произошло, я был бы другим человеком. Это проявившееся во мне качество души, как «отрицание соблазна», сделало меня писателем. Вся моя особенность, все истоки моего характера берутся из моего физического романтизма».
Это было время, когда возникали различные философские и литературные течения по своему, истолковывающие тему любви, тему взаимоотношений с прекрасным полом, и особенно тему близости.
Владимир Соловьёв, Александр Блок, Андрей Белый… Какие только мысли не высказывали они! Блок, к примеру, после свадьбы объявил своей жене, что отношения у них будут только платоническими…
Что подтолкнуло Пришвина к такому направлению? Желание следовать знаменитым поэтам? Или какие-то жизненные коллизии?
Он выбирал: «Любовный голод или ядовитая пища любви?»
«Мне достался любовный голод».
Да, именно так отметил в своём дневнике Пришвин. В молодости сердца открыто любви. В двадцать девять лет – в 1902 году – он отправился в путешествие по Европе. Позади была учёба в Лейпцигском университете, казалось, открыты все дороги в жизнь… И вот в Париже он встретил студентку из России, Вареньку Измалкову, которая училась в Сорбонне, в Парижском университете.
И он влюбился, и любовь его не стала безответной. Три волшебных недели они провели вместе. Но… Не Блоковские ли стихи о «Прекрасной даме» встали между ними – Пришвин не мог отделаться от чувства, не мог переступить грань, говоря Бунинскими словами «последней близости». Он боготворил Вареньку, но не смел к ней прикоснуться, хотя она испытывала к нему вполне земные чувства, в которых соединялись и духовные, и плотские начала.
Вполне возможно, она ждала объяснений и предложения руки и сердца, но Пришвин словно дразнил её и через годы написал в дневнике:
«В этом и состоял роковой роман моей юности на всю жизнь: она сразу согласилась, а мне стало стыдно, и она это заметила и отказала. Я настаивал, и после борьбы она согласилась за меня выйти. И опять мне стало скучно быть женихом. Наконец, она догадалась и отказала мне в этот раз навсегда и так сделалась Недоступной».
А потом с горечью признал:
«К той, которую я когда-то любил, я предъявлял требования, которые она не могла выполнить. Я не мог унизить её животным чувством – в этом было моё безумие. А ей хотелось обыкновенного замужества. Узел завязался надо мной на всю жизнь».
Любовь к Вареньке Измалковой была знаковой для судьбы будущего писателя, поскольку именно разрыв с предметом этой любви и заставил Пришвина потянуться к чистому листу бумаги , чтобы излить всю боль от случившегося разрыва. Много лет спустя Пришвин вспоминал:
«Моя первая запись жизни была в 1902 году в Марте (или Апреле?) в поезде из Парижа в Берлин. На клочке бумажки, обливая её слезами, я записывал этапы моей первой любви к девушке, с которой почему-то решил навсегда расстаться. Этот клочок бумажки приблизительно такого содержания:
1) Встреча и розы.
2) Розы в холод не пахнут.
3) Розы в комнате запахли и т. д. – этот клочок и был моим первым произведением. И самое замечательное в этом романе, это что я сам по собственному желанию сделал её недоступной для себя, как будто эта недоступность необходимо нужна мне была для того, чтобы сделаться настоящим писателем, о чём, конечно, в то время я вовсе не знал.
Стремление выйти (зачёркнуто: из себя путём) из мучительного состояния путём записи было совсем бессознательным, совсем «ни для чего».
Материалист не тот человек, кто утоляет свой голод, поедая хлеб, а тот, кто голодный, не имея куска хлеба, понимает (зачёркнуто: солнечную природу) солнечную материю хлеба».
Любые попытки борьбы с Природой бесперспективны. Пришвин понял это не скоро. А в те годы он страдал и мучился, мучился и страдал.
У него было несколько контактов, уже иных, совсем не платонических, он не однажды испытал страсть, но страсть без любви.
О них он писал в 1913 году:
«Чем примитивней душа, чем ближе к природе, тем напряжённей переживания любви...
Первоначальное чувство: овладеть женщиной и порадоваться, вильнув хвостом: я победил! (потом вызывает) и боль, боль вызывает злобу, потом наполненное злобой существо становится само себе противно, и вот он кается, уничтожает, сбрасывает с себя всё, чтобы новым быть, и опять к той же женщине: я не такой теперь, я идеально люблю; и снова крушение идеалов, и опять злоба, сначала мелкие колебания, потом больше и больше, сначала она двойная, потом волны больше, и она, наконец, становится Мадонной, а потом Марухой.
А она желает обыкновенного [мужа], ей это ничего не нужно, и чем тоньше он становится, тем дальше от неё чувство: секрет найден, как избежать уколов жизни: нужно не соприкасаться с раздражением, хорошо! – но это найденное спокойствие всегда сопровождается чувством, что настанет когда-нибудь время расплаты – это всё больше и больше обостряется, и вот, наконец наступает расплата: любовь».
Судьба устроила ему встречу с той, которая впервые заставила трепетать его сердце, с его тёткой… И он рассказал ей всё, выложил все свои сомнения, пожаловался на раздвоение в мыслях и чувствах. А она ответила:
«А ты соедини. Но в этом же и есть вся трудность жизни, чтобы вернуть себе детство, когда это всё было одно».
А ведь жизнь на Земле идёт по однажды и навсегда установленным Законам, высшим Законам Природы… Да, каждый на Земле выполняет свою роль, свою задачу, которую получил при рождении. Но для выполнения этой задачи, каждому даётся выбор своей второй половинки, с которой предстоит шествовать по жизни. Недаром говорят, что браки свершаются на Небесах. Но почему так говорят? Да потому что каждому из нас раз в жизни даётся Подсказка Создателя при выборе это второй половинки. Ну а что касается идеальной пары, то она возможна только при полной гармонии духовных отношений и тех отношений, которые Пришвин называл плотскими и которых сторонился. Но как не сторонись, нарушая Закон, невозможно испытать счастья. И в отношениях «одно от другого» невозможно. Не может быть платонической любви – она не предусмотрена Законами Природы.
Годы шли, а он снова и снова мысленно возвращался в юность. Он вспоминал свою любовь к Вареньке, любовь далеко не безответную, любовь, которую он потерял по собственной вине. Он не мог не думать о том, а что было бы, если б он сделал предложение… Ответ себе мог дать только один:
«…песнь моя осталась бы неспетой».
Но при этом тут же находил и объяснение случившемуся:
«…чем больше я вглядываюсь в свою жизнь, тем мне становится яснее, что Она мне была необходима только в своей недоступности, необходима для раскрытия и движения моего духа».
И ещё одно признание:
«Мне было очень неладно – борьба такая между животным и духовным, хотелось брака с женщиной единственной».
Вдруг мелькнул луч надежды – нашлась Варя Измалкова. Она жила в Париже, и, узнав, адрес, Пришвин отправил её письмо, полное любви...
Позже он записал в дневнике:
«Мы писали, но потом перестали. Через три года в Петербурге я получил от неё письмо, она назначила мне свидание. Я по ошибке пришёл на другой день после назначенного, опоздал, и она уехала в Париж. Мне сказали, что она была невестой берлинского профессора, любила его, но перед свадьбой отказала. Вот в это время я и получил от неё письмо. Её близкие знакомые хотят уверить меня, что она меня не стоит, что она не может любить, её не хвалят, называют сухой, кокеткой...»
Пришвин остро переживал окончательный разрыв. Чтобы успокоиться, он отправился в путешествие по России, снова много писал о природе. Его книги получили известность. Но душевная рана не заживала:
«Потребность писать есть потребность уйти от одиночества, разделить с людьми свое горе и радость… Но горе я оставил при себе и делился с читателем только своей радостью».
И он снова и снова, оставаясь наедине с дневником, изливал его страницам свою душеную боль. 17 Сентября 1906 года написал:
«…Четыре года тому назад в начале апреля 1902 года в Париже (у А.И. Каль) меня познакомили с молодой девушкой В.П.И. Она очень ласково со мной заговорила о чём-то, но нас сейчас же позвали обедать вниз. Мы побежали быстро с ней по лестнице и, весёлые, смеясь, сели рядом. За столом было много пансионеров, и мы могли, не стесняясь, тихо болтать по-русски. Среди французов, сухих и, кажется, очень буржуазных, так было интимно приятно чувствовать себя русским. На столе, кажется, стояли какие-то красные цветы. Я потихоньку оторвал большой красный лепесток и положил ей его на колени. Ей, кажется, это понравилось, она мило улыбнулась. Несколько дней спустя я был в театре с нею в одной ложе. В антрактах мы с ней о чём-то говорили. Между прочим, она сказала, что не могла бы жить в России в деревне. Я удивился: а наша литература, а наши мужики, неужели это не может примирить с деревней? Кажется, я сказал тепло, хорошо, она ласково на меня посмотрела и молчанием сказала, что согласна. Я её провожал на Rue d'Assise (северо-восточная часть Парижа). Она меня просила показать ей Jardin des Plantes (Ботанический сад, Ирисовый сад) завтра. Мы условились встретиться в Люксембургском саду у статуи. В парке всё зеленело, апрельское солнце грело, дама кормила птиц крошками хлеба. Я внимательно смотрел на даму и птиц. В.П. подошла ко мне, розовая, с розовым бантом, маленькая. Мы пошли. В саду я философствовал, что-то говорил о Канте и объяснял естественно-исторические коллекции. Было приятно вместе. Мы встречались ещё несколько раз».
И снова в 1907 году рассказ о Вареньке:
«Однажды, я помню, мы ехали на конке. Пришёл громадный рабочий в синих широких штанах. Он был усталый, потный. Дамы вынули платки и, зажав носы, вышли на площадку. В.П. тоже вышла. Когда ушёл рабочий, В.П. вернулась. Я сказал ей, что она поступила нехорошо, что я так не сделал бы, но я демократ и не пример, но если бы я был аристократом, то ещё более не смог бы себе позволить так оскорблять рабочего. Она на меня внимательно посмотрела. Потом сильно покраснела и, смущенная, удивленная, сказала: «Я не думала, что вы такой глубокий». В этот момент она мной увлеклась, а я её безумно полюбил. Я её так полюбил, навсегда, что потом, не видя её, не имея писем о ней, четыре года болел ею и моментами был безумным совершенно, и удивляюсь, как не попал в сумасшедший дом. Я помню, что раз даже приходил к психиатру и говорил ему, что я за себя не ручаюсь.
Через несколько встреч после случая в конке у нас вышло какое-то недоразумение. Кажется, она нашла что-то обидное в моей записке к ней. В результате оказалось необходимым для меня и для неё объясниться. Мы встретились в день отъезда А. И. К. в Лейпциг. Кто-то принёс А. И. громадный букет роз на прощанье, и я увидел её с этими розами, с удивительно милым ласковым лицом. Мы молчали, дожидаясь отъезда А.И. Но без слов так много говорилось, ожидалось. Я чувствовал, что скажу всё, что я должен сказать, что здесь, в Париже, на свободе и нужно быть свободным. И настоятельность, и значение признания росли с каждой минутой. Поезд тронулся, мы остались одни. На площадке омнибуса мы молча стояли и не решались говорить. Между нами был большой букет роз, но они не пахли. «Не пахнут розы»... «Ну, говорите же», – сказала она...
И я ей всё сказал, бессвязный бред о любви, просил её руки. Она была в нерешимости. Мы сошли с конки, был сильный дождь. Я всё время без перерыва ей говорил, клялся, что люблю. Она молчала. Когда пришли к воротам, она меня расцеловала неожиданно, быстро. «До завтра, – сказала она. – У статуи. При всякой погоде».
Утром она пришла ко мне на квартиру и дала письмо; там было написано: я вас не люблю... Но её лицо говорило другое, она чуть не плакала. Мы пошли в ботанический сад, были в Notre Dame de Paris. Простились в Люксембургском саду, я плакал, она меня целовала. Я в тот же день уехал в Лейпциг и поселился на старой квартире. Через день А.И. приносит письмо из Парижа, которое оканчивалось: судите меня... Я с экспрессом в Париж. Мы снова у статуи, молчим или говорим пустяки, ходим в Люксембургском музее под руку в толпе, среди прекрасных мраморных фигур. Пароход на Сене. Большой зелёный луг, парк, кажется, Булонский лес. Мы высаживаемся на луг, идём под руку, она говорит: и так вот будем всю жизнь идти вместе... Дальше пока ещё тяжело писать. Я пропускаю... Мы расстались почему-то на кладбище: сидя в густой зелени, на могильной плите, мы без конца целовались. Я помню, нас немного смутили две старые набожные женщины в чёрном».
«Павловна» явилась мне… как часть природы»
Наконец, Пришвин всё-таки женился. Что заставило его пойти на этот шаг? Быть может, красивые и грустные глаза овдовевшей крестьянкиЕфросиньи Павловны Смогалёвой, оставшейся с ребёнком, так взывали к сочувствия, что он не выдержал? Он женился без любви, а из сочувствия, сострадания.
Даже рассказывая об этой женитьбе, он отталкивается от той своей, незабываемой любви к Вареньке:
«Через год после нашей встречи в Париже я сошёлся с крестьянкой, она убежала от мужа с годовым ребёнком Яшей. Мы сошлись сначала просто. Потом мне начала нравиться простота её души, её привязанность. Мне казалось, что ребёнок облагораживал наш союз, что союз можно превратить в семью, и подчас пронизывало счастливое режущее чувство чего-то святого в личном совершенствовании с такой женой. Я научил её читать, немного писать, устроил в профессиональной школе, так как не ручался за себя. Она выучилась, но продолжала жить со мной. У нас был ребёнок и умер. Теперь скоро будет другой. Яша вырос, стал хорошим мальчуганом, я его люблю. Я привык к этой женщине. Она стала моей женой. Но, кажется, я никогда не отделаюсь от двойственного чувства к ней: мне кажется, что всё это не то, и одной частью своей души не признаю её тем, что мне нужно, но другой стороной люблю…»
Но впоследствии написал:
«Фрося превратилась в злейшую Ксантиппу».
Он имел в виду жену греческого философа Сократа Ксантиппу, имя которой, благодаря отвратительному характеру, стало нарицательным для сварливых и злых жён.
В судьбе Пришвина все последующие события вытекали из его поступков, соответственных опыту его первой любви, любви, неудачной по его же собственной воле, а отчасти, если иметь в виду назначенную встречу, так и не состоявшуюся, по воле Случая. И он постепенно утверждался во мнении:
«Вспоминал, как в молодости Она исчезла, и на место её, в открытую рану, как лекарство, стали входить звуки русской речи и природа. Она была моей мечтой, на действительную же девушку я не обращал никакого внимания. И после понял, что потому-то она исчезла, что эту плоть моей мечты я оставлял без внимания. И вот за то я стал глядеть вокруг себя с родственным вниманием, стал собирать Дом свой в самом широком смысле слова. И, конечно, «Павловна» явилась мне тогда не как личность, а как часть природы, часть моего Дома. Вот отчего и нет в моих сочинениях «человека» («бесчеловечный писатель»)».
Так прошли годы в супружестве, но без любви, годы жизни не «с личностью», нет… годы жизни с «частью природы».
«Лада Валерия…»
И вот 16 января 1940 году в его дом вошла Валерия Дмитриевна Вознесенская-Лебедева (в девичестве Лиорко). Её прислали из Союза писателей, рекомендуя литературным секретарём. Было ей 40 лет. Она родилась 29 октября 1899 года в Витебске. Выросла в добропорядочной семье. Отец был подполковником жандармской службы, начальником железнодорожного Жандармского отделения Риго-Орловской железной дороги в городе Двинске, затем участвовал в Первой Мировой войне, был ранен… Но в 1918г. расстрелян в порядке красного террора, развязанного троцкистами. Мать, Наталия Аркадьевна, была дочерью витебского помещика.Семья была патриархально-православной и Валерия с детских лет была приучена к ежедневным молитва. Уже в десятилетнем возрасте она самостоятельно читала Евангелие.
И вот революция принесла горе в семью.
Да и первая любовь Валерии оказалась неудачной. Возлюбленный был философом, последователем в семейных отношениях идеалов Соловьёва, подхваченных в своё время Блоком и Белым. Он был против брака, выступал за духовные высокие отношения… Вместо руки и сердца он предложил странствия для проповеди новых учений о любви и семье. Валерия не могла оставить больную мать, сражённую семейной трагедией, и решила выйти замуж за старого друга, давно добивавшегося её руки. Но тот вскоре оказался в ссылке. Валерия попросила развода – тем более оба знали, что любви она не испытывала.
И вот она пришла к Пришвину, который был на 27 лет старше её. Начала работу, а Михаил Михайлович вскоре записал:
«Это была женщина не воображаемая, не на бумаге, а живая, душевно-грациозная и внимательная, и я понял, что настоящие счастливые люди живут для этого, а не для книги, как я, что для этого стоит жить и что о нас говорят, потому что мы себя отдали, а о тех молчат, потому что они жили счастливо: о счастье молчат.
И вот захотелось с этого своего мрачно-высиженного трона сбежать...
Как прыжок косули в лесу, – прыгнет и не опомнишься, а в глазу это останется и потом вспоминаешь до того отчетливо, что взять в руки карандаш и нарисовать. Так вот и пребывание этой женщины в моей комнате: ничего от неё как женщины не осталось, это был прыжок. Но... как же счастливы те, кто не пишет, кто этим живёт. А и вполне возможно, что это «соблазн», что это путь не к себе, а от себя.
Как же всё произошло? Об этом мы можем узнать из дневника писателя. Михаил Михайлович рассказал о знакомстве и первых взаимных симпатиях, а затем и любви с необыкновенной откровенностью. Приведу некоторые выдержки из дневника, который весь читается как роман…
Итак, начало 1940 года. Пока всё по-прежнему…
2 января Пришвин записал:
«Установилась зима. Работа над «Неодетой весной» вошла в берега, и теперь уже наверно знаешь, что выйдет, и уже ясно видишь конец: живая ночь: «Приди!» – выражающая песню всей моей жизни».
И, конечно, несколько слов о войне, ведь войной пахло в воздухе… В тот же день в дневнике отмечено:
«Аксюша (племянница жены, ставшая домработницей у Пришщвина – Н.Ш.) ходила с Боем (собака Пришвина – Н.Ш.) на улицу, видела там много детей, играющих в войну, и сказала:
– Будет война!
И так объяснила мне. В прежнее время, бывало, старики заговорят о войне, и детям до того становится страшно, что долго не могут уснуть. Тогда старики начинают детей успокаивать: война пойдёт, но к нам не придёт, нас война побоится. Мало-мальски успокоят, и уснут дети, и всё-таки… страшно и не хочется войны.
– А теперь, – сказала Аксюша, – дети играют в войну, и так охотно, стреляют чем-то друг в друга, падают, будто раненые, их поднимают, уносят. И всё в охотку. И если детям не страшна война, то, значит, будет война».
Но думы о работе, ибо писатель не может не думать о работе.
Недавно мне прислали стихотворение, точнее вырезку из газеты с неполным текстом стихотворения. К сожалению, оторваны последнее или последние четверостишия и вместе с ними имя автора. Но достаточно прочитать первое…
Художники, писатели, поэты!
На свете войны, праздники, чума,
Но это всё лишь новые сюжеты,
Всего лишь темы будущих Дюма…
Довольно точно сказано и в какой-то степени по-Пришвински!
14 января в дневнике появилась запись:
«Мне захотелось работать немедленно и быстро над своими дневниками, чтобы месяца через три всё закончить и сдать в Музей. Нужен человек, могущий работать у меня часов 8 в день».
Пришвин имел в виду Государственный Литературный музей, сотрудники которого, зная об уникальных дневниках писателя, предложили передать в фонд музея весь архив. Пришвин поразмышлял и понял, что одному с этой работой не справится. Необходим литературный секретарь. Союз писателей рекомендовал Валерию Дмитриевну Лебедеву…
И вот наступил день 16 января… В этот день, как уже упоминалось ранее, Валерия Дмитриевна впервые появилась в квартире Пришвина.
В дневнике осталась краткая запись:
«- 43 с ветром. Устроил «смотрины» (её зовут Валерия Дмитриевна). Посмотрели на лицо – посмотрим на работу».
Несколько дней ни слова о Валерии Дмитриевне. И лишь 22 января краткая запись:
«Вчера была вторая встреча с новой сотрудницей»
И всё…
И вдруг далее, три дня подряд записи, которые нельзя не процитировать. Первые шаги пока ещё в неизвестность, первые надежды…
24 Января.
«Есть писатели, у которых чувство семьи и дома совершенно бесспорно, другие, как Лев Толстой, испытав строительство семьи, ставят в этой области человеку вопрос, третьи, как Розанов, чувство семьи трансформирует в чувство поэзии, и четвертые, как Лермонтов, являются демонами семьи, разрушителями (Гоголь), и наконец – я о себе так думаю – остаются в поисках Марьи Моревны, всегда своей недоступной невесты…»
Но вот она перед Пришвиным – Марья Моревна. Уже в первые дни знакомства Пришвин стал понимать это. Он писал:
«Я ей признался в чувстве своём, которого страшусь, прямо спросил:
– А если влюблюсь?
И она мне спокойно ответила:
– Всё зависит от формы выражения и от того человека, к кому это чувство направлено, человек должен быть умный.
Ответ замечательно точный и ясный, я очень обрадовался…
Мы с ней пробеседовали без умолку с 4 ч. до 11 в. Что же это такое? Сколько в прежнее время на Руси было прекрасных людей, сколько было в стране нашей счастья, и люди и счастье проходили мимо меня. А когда мы все стали несчастными, измученными, встречаются двое и не могут наговориться, не могут разойтись. И наверно не одни мы такие.
Валерия Дмитриевна, копаясь в моих архивах, нашла такой афоризм: «У каждого из нас есть два невольных греха, первое, это когда мы проходим мимо большого человека, считая его за маленького, и второе, когда маленького принимаем за большого». Ей афоризм этот очень понравился, и она раздумчиво сказала вслух:
– Что же делать, у меня теперь своего ничего не осталось, буду этим заниматься (работой над архивом) как своим.
40-й год начался у меня стремительным пересмотром жизни, что даже и страшно: не перед концом ли?»
Но Пришвину судьба подарила ещё долгие годы жизни – жизни и счастья. Впрочем, за счастье это нужно было ещё побороться. Он встретил женщину, которая чувствовала его, которая его понимала:
1 Февраля 1940 года.
«Пришла В. Д. = Веде = Веда и сразу, одним взглядом определила, что я со времени нашего последнего свидания духовно понизился. Она очень взволновалась и заставила меня вернуться к себе, и даже стать выше, чем я был в тот раз. Это забирание меня в руки сопровождается чувством такого счастья, какого я в жизни не знал.
– У вас была с кем-нибудь дружба? – спросила она.
– Нет, – ответил я.
– Никогда?
– Никогда, – и самому даже страшно стало.
– Как же вы жили?
– Тоской и радостью.
…Так мы отправились путешествовать в неведомую страну вечного счастья.
Пришвина волновала разница в возрасте, ведь как-никак двадцать шесть лет. Но Валерия Дмитриевна сказала: возраст тут не причём, это своего рода паспорт.
Сущность любви по-Пришвински
Запись в дневнике, датированная 5 Февраля, начинается словами: «Моё рождение (1873 г.)». А затем снова размышления в форме разговора с Валерией Дмитриевной.
«…Мне бы хотелось эту любовь мою к Вам понять, как настоящую молодую любовь, самоотверженную и бесстрашную, и такую бескорыстную. Могу ли? Я хочу понять возвышение Ваше в моих глазах, как силу жизни, которая может воскресить меня. Я хочу быть лучшим человеком и начать с Вами путешествие в неведомую страну не когда-нибудь и в чем-нибудь на поезде или в самолёте, а завтра же и, не уходя никуда. Мы обдумаем вместе радостно путь нашего путешествия, обсудим все его детали и уговоримся выполнять всё, что надо, неуклонно и строго. В Вашем существе выражено моё лучшее желание, и я готов на всякие жертвы, чтобы сделать Вам всё хорошее и тем самому выше подняться и [вырасти] в собственных глазах. Всё, о чем я говорю, вышло от Вас, и я не хочу лицемерить и спрашивать Вас о том, согласны ли Вы со мной путешествовать в неведомую страну. Это не от меня идёт, это я Вам отвечаю, что я согласен и пишу это Вам, как выражение обязательств со своей стороны. И я подписываю договор.
Автор «Корня жизни». Михаил Пришвин, в день своего рождения (23-го Января 1873 года)».
7 Февраля.
«Веда превратила мой Geburtstag (немецк – день рождения) в день именин. …Сознание, как молния, простегнуло меня сквозь всю жизнь, но она была расположена принять меня всего, каким я у неё за это время сложился. И потому никакого стыда я не почувствовал, напротив! Проще самого простого она позволила себя поцеловать, и самое главное, рассказала мне о себе всё самое сокровенное. Больше дать нечего: всё! И всё так просто и ясно, и в то же время «Geburtstag» был разгромлен до конца. (Припоминаю, что после разгрома «Geburtstag'a» я даже пролепетал в полном смущении о своём «приданом», что я не с пустыми словами пришел к ней, а принес и талант и труд всей жизни, что талант этот мой идёт взамен молодости. «А я разве этого не знаю? Я первая обо всём этом сказала и сразу пошла навстречу»).
(…)
9 Февраля.
«…9 часов в обнимку, душа к душе. Что касается работы, то раз такой...»
9 Февраля, ночь. Снова размышления, обращённые к себе:
«– Скажите же, «мастер любви», чем отличается поэзия от любви, не есть ли это одно и то же, поэзия – с точки зрения мужчины, любовь со стороны женщины? Так что мужчина всегда в существе своём поэт, женщина – всегда любовь. Радость – при встрече того и другого, боль от подмены.
Сущность любви и состоит в ожидании, «мастер любви» учит ждать.
Психология поцелуя: со стороны женщины конец ожиданию, со стороны мужчины – стремлению. Дон-Кихот должен прийти в себя исключительно лишь от поцелуя: она поцеловала, и все кончилось – проехало – началась жизнь.
Надо запомнить о том, что я признался в своей ревности, она же ответила, что верно мне это предстоит пережить. – Не вас ли, – спросил я, – придется мне ревновать?
– Нет, – ответила она, – просто, по-бальзаковски я не могу, а такого существа... на свете нет.
Не знаю, любит ли она, как мне Хочется, и я люблю ли её как Надо, но внимание наше друг к другу чрезвычайное, и жизнь духовная продвигается вперёд не на зубчик, не на два, а сразу одним поворотом рычага во всю зубчатку».
Дневниковые записи Пришвина довольно сумбурны – когда человек пишет для себя, то и не заботится о том, чтобы его понимали другие. Иной раз нужно вникать в смысл, сопоставлять описанные события, чтобы понять о чём речь. Ведь дневники часто пишутся, когда нет сил таить в себе какие-то чувства, когда хочется поведать их кому-то, а если некому в данный момент, то поведать бумаги. Пришвин не раз в своих записях жаловался на одиночество, а потому можно думать, что именно дневник от этого одиночества спасал и жизнь его скрашивал.
11 Февраля в дневнике сказано: «Сегодня еду в Загорск и пробуду там всю шестидневку. (19-го вернусь.)»
И далее:
«Какое же это счастье быть избранным: ведь много-много разных людей проходило, и напрашивалось, и, узнав своё «нет!», уходило в Лету. Но я пришёл, и мне ответили «да», и среди множества званых я один стал избранным. А сколько тоже и их проходило и прошло, и только единственная получила моё «да» и стала избранной, и мы оба избранные без вина напиваемся и блаженствуем в задушевных беседах.
Ваши письма в бисерном мешочке мне очень дороги. Когда начинаешь мыслью блуждать и согласно этому неверно придумывать, стоит только поглядеть, и этот талисман и обыкновенная жизнь в священном её выполнении становится заманчивой, и самому начинает хотеться сделать свою поэзию такой же простой и значительной, как жизнь дочери, посвященная матери, и как всё такое, настоящее».
И далее после размышлений:
«Я будто живую воду достаю из глубокого колодца её души и от этого в лице я нахожу, открываю какое-то соответствие той глубине, и лицо для меня становится прекрасным. От этого тоже лицо её в моих глазах вечно меняется, вечно волнуется, как звезда.
Я всегда чувствовал и высказывался вполне искренно, что она выше меня, и я её не стою. Соглашалась ли она с этим – не знаю, во всяком случае она ни разу не отрицала этого соотношения. В последний же раз, наконец, во время ожидания трамвая на улице Герцена, она стала вдруг очень ко мне нежной, очень даже (она ночь не спала, а я стал ей говорить о дятлах, как они усыпляют песней детей, и ещё ей сказал о будущем нашем, когда мы всем «бабам» покажем, кто мы). Что ей понравилось, какую мою песенку она себе выбрала, но когда я ей в этот раз сказал, что я просто смиренный Михаил, а она моя госпожа, то она вдруг мне ответила:
– Не говорите мне этого, мы равные люди (т. е. друг друга стоим).
Форма рассказа:
Я её провожаю. Ждём номер 26 у остановки. Прислонились к стене. Уютно: улица стала Домом. Содержание беседы: Приходит трамвай.
– Давайте пропустим!
– Давайте.
Содержание 2-й главы:
И ещё приходит трамвай, и ещё.
– Пропустим?
И как сказки Шахерезады. А конец: больше трамвая не будет. И пошли пешком…
(…)
Мне кажется, я почти в том уверен, что в скором времени она меня будет любить так же сильно, как и я её: натура такая же поэтическая и в том же нуждается...»
Любовь всегда благотворно влияет на творчество, которое становится плодотворнее, и влюблённый не может не строить замыслы новых произведений. Пришвин рассуждал о новых книгах и, конечно, в жанре любви:
«Книгу о любви, конечно, нужно написать, но только при этом всегда надо быть готовым к тому, что если станет вопрос, книга или горячий поцелуй, то без малейшего колебания бросать книгу в печку. Только при этом условии книга может удасться, и при втором – чтобы мы создавали её вместе, как живого ребёнка создают муж и жена: я – отец, она – мать. И ничего тайного моего, отдельного, – вот это будет книга, вот это будет любовь. По-моему, такого романа на свете ещё не было и такой книги, чтобы книгу вместо ребёнка родить, ещё тоже не было. Впрочем, можно и не рождать. Во всяком случае, все должно быть радостно, весело и ненавязчиво.
(…)
Смотрю на себя со стороны и ясно вижу, что это чувство моё ни на что не похоже: ни на поэтическую любовь, ни на стариковскую, ни на юношескую. Похоже или на рассвет, или на Светлое Христово Воскресенье, каким оно в детстве к нам приходило».
Из дневниковых записей не всегда даже ясно, когда Пришвин говорил со своей возлюбленной мысленно, а когда диалог происходил при встрече. Он прописывал свои мысли, прописывал переживания, а потом иногда, не всякий раз, писал письмо, по его словам, несколько сглаживая написанное в дневнике. Иногда вновь возвращался к уже написанному раньше, оценивая по-новому или заостряя своё собственное внимание на том, что вдруг оказалось наиболее важном в отношениях. Чувствуется, что его довольно долг беспокоила разница в возрасте, и он иногда называл себя стариком, а то допускал и более нелицеприятные эпитеты. Он жил своей любовью, и в дневнике своём выглядел уже совсем не шестидесятилетним человеком, а юношей, впервые испытавшим сильное и всепоглощающее чувство. Он разговаривал с возлюбленной и в дневнике, порою не передавая ей свой мысленный разговор, он писал письма, он мог беседовать часами при встрече.
«Слушаю Вас как божество, старшую, тружусь, спрашиваю благоговейно, и Вы мне отвечаете: «Трудно с Вами». И мне трудно с Вами… Но я люблю Ваше страдание, оно трогает меня, влечёт, я не мог бы расстаться с Вашей задумчивостью. И мне очень нравится Ваша улыбка. Должно быть всё-таки я Вас люблю. <Зачеркнуто: Но я хочу жить, а не разговаривать.>»
А потом вдруг вывод:
«Она убеждена наивно, идеалистически, что если мы будем с ней сидеть на диване и целыми днями говорить, то и откроем друг в друге «настоящих» людей. Но сама цель создания атмосферы без цельного гипнотического влияния: человек взят для чего-то, а когда выходит из-под влияния, то, конечно, становится тем, каким он был и понятно: ничем же материальным не закреплено влияние...> она в моих глазах становится такой большой, такой любимой, что всё обращается в радость, и такую, какой в жизни своей я не знавал».
А чувства становились всё сильнее, всё ярче, всё неколебимее. И Пришвин поверял дневнику свои самые сокровенный мысли, самые яркие признания. Он не всегда мог столь откровенно всё это высказать возлюбленной:
«Я не знаю сейчас в себе и вокруг себя такого, чему бы я мог её подчинить и сказать: «слушайся, то выше тебя». Даже Солнце! Я ведь и Солнце боготворил только за то, что оно согревало, освещало, ласкало лучами своими мою бедную душу. Но если душа моя и без того прыгает и трепещет, переполненная радостью, то зачем я буду искать себе какое-то Солнце.
Когда её не было, Солнце меня учило обращать внимание к поднимаемой им жизни и любить её. Теперь не Солнце, теперь учит меня женщина. Зачем же теперь мне нужно Солнце? Была у меня Поэзия, и я плёл свои словесные кружева и привлекал к себе сердца многих людей. Так что же, если не Солнцу, то подчинить её Поэзии?
Нельзя подчинить её и Поэзии: она выше и, напротив, я должен самую Поэзию ей подчинить.
Она выше всего в мире, и я молчу лишь о том, что выше самого мира.
Господи, помоги мне её больше любить, чтобы она питалась моей любовью и была ею здорова и радостна.
Я смотрел на её волосы каштановые, пронизанные сединками и странно, что, целуя их, думал: «Ничего, ничего, милая, теперь уже больше не будет их, этих сединок». Смысл же слов теперь разгадываю так, что вот раньше ты ведь всё мучилась и сединки росли, а теперь мы встретились, горе прошло, и они больше не станут показываться. Или может быть в это время, как тоже бывает, я почувствовал вечность в мгновении: движения в этой вечности не было, и волосы больше седеть не могли. Или и так может быть, что в этот миг любви рождалось во мне чувство бессмертия и, может быть, даже и магии: было так ведь, что это как будто во мне заключена сила остановить мгновение и больше не дать седеть волосам.
Если думать о ней, глядя ей прямо в лицо, а не как-нибудь со стороны или «по поводу», то все, что думаешь, является мыслью непременно поэтической, и тогда даже видишь сплав чувства с двух сторон: с одной – это любовь, с другой – поэзия. И хотя, конечно, нельзя поэзией заменить всю любовь, но без поэзии любви не бывает, и, значит, это любовь порождает поэзию.
Гигиена любви состоит в том, чтобы не смотреть на друга никогда со стороны и никогда не судить о нём вместе с кем-нибудь.
(…)
В чувстве любви есть и свой земной шар, летящий с огромной скоростью в бесконечном пространстве. Шар летит, а ты вовсе на это не обращаешь внимания и живёшь так, будто все происходит на плоскости.
Люблю – это значит: «Мгновенье, остановись!».
24 Февраля.
«…Я человека нахожу в ней такого, какого не было нигде, и я впервые это увидел. И оттого, когда смотрю на её лицо, то вижу прекрасное.
(…) Моя любовь к ней есть во мне такое «лучшее», какое в себе я и не подозревал никогда. Я даже в романах о такой любви не читал, о существовании такой женщины только подозревал. Это вышло оттого, что никогда не соприкасался с подлинно религиозными людьми: её любовь ко мне (едва смею так выразиться) религиозного происхождения. Она готова любить меня, но она ещё не все установила, не всё проверила и не всему поверила, что к ней от меня пришло. Наверно, я должен еще заслужить. На этом пути очень помогают мне книги и дневники: всё это написанное было путем к ней. Не понимая – она бы не пришла. Вот теперь только я начинаю понимать, для чего я писал: я звал её к себе, и она пришла.
Как бы я ни восхищался ею, что бы такого не говорил ей в глаза, всё самое лучшее, она не станет отвергать, ведь сознавала, что всё лучшее в ней есть…»
«Впервые… узнал, для чего я писал».
Пришвин с восторгом писал о своём писательском труде, но о писательском труде, пришедшим вместе с любовью, поскольку любовь прояснила многое и многое наполнила своим немеркнущим светом, оживляющим даже самую лирическую прозу. Он признавался, что по новому видит Природу… Что он стал другим..
«Настоящим писателем я стал впервые, потому что я впервые узнал, для чего я писал. И может быть в этом я единственный: все другие писатели отдают себя и ничего не получают кроме глупой славы. Я же своим писанием, своей песней привлекал к себе не славу, а любовь (человека). Таких счастливых писателей никогда не бывало на свете. Никто из них в мои годы не мог воскликнуть от чистого сердца, от радости переполняющей душу: Люблю и да будет воля Твоя».
И вот ещё одно объяснение… О нём в дневнике запись от 25 Февраля…
«Спрашивает:
– Любите?
Отвечаю:
– Люблю!
Она:
– А я этого вам не могу сказать. Со мной совершается Небывалое, и нет на свете человека, кто бы мне был так близок и кому я так открылась, как вам. Но я всё-таки не могу сказать: «люблю». Ведь у меня же долги, если я люблю, то долги сами собою уплачены. А сейчас я не чувствую в Вас того настоящего, ради кого я должна то всё бросить: я сейчас ещё вся в долгах. Но я надеюсь, что когда-нибудь вас полюблю. Но что Вы меня любите, я знаю.
(Это больше, чем я заслужил).
27 Февраля.
«Сегодня же, целуя её, я сказал:
– Вы не сомневаетесь больше в том, что я вас люблю?
– Не сомневаюсь!
– И я не сомневаюсь, что вы тоже немного меня любите.
– Немного люблю.
Я подпрыгнул от радости:
– Правда?
– Правда: скучаю без вас.
И поцеловала в самые губы.
И я сказал:
– Не совсем, но моя.
И она:
– Да.
После этого она и ушла, в то же время осталась, и голубь с нами был и прыгал у меня в груди, проснусь ночью – голубь трепещет, утром встал – голубь.
– Ну, – сказала она, – конечно, надо сделать так, чтобы другие от нас меньше страдали, но если жизнь скажет свое слово, что надо...
– Если будет надо, я возьму вашу руку, выйду из своего дома и больше не вернусь. Я это могу.
Она вспомнила, что всё главное у нас вышло от дневников: в них она нашла настоящее, собственное своё, выраженное моими словами. И вот отчего, а не потому что боюсь, не отдам никогда я эти тетрадки в Музей: это не мои тетрадки, это наши. И так всё пошло переделываться в наше. Самое главное – это надо поскорее устроить ей возможность более спокойно и уверенно жить, иначе просто совестно разводить романы...
Весь смысл внутренний наших бесед, догадок в том, что жизнь есть роман… Она… всё ещё не совсем уверена во мне, всё спрашивает, допытывается, правда ли я её полюбил не на жизнь, а на смерть...
Я где-то в дневнике записал, как страдает глухарь в своей любовной песне, и потом, указав, что все животные переживают любовь, как страдание, указал на человека: только человек сделал из любви себе «удовольствие». Напомнив мне это, она сказала о наших бессонных ночах, разных других мучениях и сказала:
– Хорошее удовольствие!
28 Февраля.
«Ни разу за 30 лет не поцеловал жену в губы со страстью, ни одной ночи не проспал с ней и ни одного часу не провёл с ней в постели: всегда на 5 минут – и бежать. Близко к любви были поцелуи «Невесты» (2 недели) и больше ничего. Так что можно сказать: никакой любви у меня в жизни не было. Вся моя любовь перешла в поэзию, которая обволокла всего меня и закрыла в уединении. Я почти ребёнок, почти целомудренный. И сам этого не знал, удовлетворяясь разрядкой смертельной тоски или опьяняясь радостью.
И ещё прошло бы, может быть, немного времени, и я бы умер, не познав вовсе силы, которая движет всеми людьми. Но вот мы встретились...
Вчера я уверял её опять, что люблю и люблю, что если останется последний кусок хлеба, я его ей отдам, что если она будет больна, я не буду отходить от неё, что...
Много всего такого я назвал, и она мне ответила:
– Но ведь все же делают так.
И я ей:
– А это же мне и хочется: как всё. Об этом же я и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, а быть как все хорошие люди.
29 Февраля.
Объяснение с Аксюшей до конца и её готовность идти к Павловне на переговоры о том, что М. М. жизнь свою меняет. Теперь остаётся слово за Валерией.
Павловна – жена Пришвина. Настала пора объявить ей о решении. О необходимости развода…
1 Марта.
«Написал для серии «Фацелия» рассказ «Любовь», может быть самое замечательное из всего, что я написал.
Валерия не приходила: мать больна. В отношениях к В. прибавилось много ясности и спокойствия. Теперь надо лишь сдерживать себя и ждать».
2 Марта.
«…В этот вечер из моего рассказа «Любовь» ей вдруг открылось, что я не только её понимаю, но что через меня и она себя сразу поняла. Это было так радостно, что целовали друг друга, и она, целуя, говорила: мы подходим к настоящей любви, я начинаю верить, – мы к ней придём».
И снов запись:
«Вечерело. Мы забились в угол дивана, и я стал слушать, как билось её сердце: не симфония, а весь мир как симфония. И вот, один за другим и нога...
– Подождём, – сказала она.
И я послушался. И вместо того мы стали обмениваться словами: на той осинке, на этой почве вырастет слово.
– Ну, и что же? – сказала она. – Вот вы ласкаете мою ногу, целуете грудь, и вам ничего не делается? Поймите же, что ведь это же всё, и грудь Психеи, и нога газели, и всё такое, всё че-пу-ха!
– А что же не чепуха? – спросил я.
– У вас редкий ум, – сказала она, – вы сейчас единственный, с кем я не считаю себя выше, и у вас сердце, какое у вас сердце! И вы единственный, кому я открылась вся и кого я желаю. И всё-таки я не вся с вами. Если вы догадаетесь о том, что не чепуха, я отдам вам всю жизнь: отгадаете?»
5 марта 1940 года:
«Потенциал любви. Откуда что берётся! И физическая и душевная дряблость миновали, чувствую себя сильнее, чем в молодости».
12 Марта.
И снова Пришвин писал о любимой:
«Какая-то неудовлетворимая женщина, вроде русалки: щекочет, а взять нельзя, И не она не дается, а как-то сам не берешь: заманивает дальше.
А, в сущности, оно и должно так быть, если уж очень хочется любить и с желанием своим забегаешь вперёд.
Для оздоровления и жизни надо просто начисто бросить эту любовь, а делать что-нибудь чисто практическое, благодаря чему можно создать близость и привязанность, из которых сама собой вырастет, если мы достойны, настоящая и долгая любовь.
7 Марта.
«Прочитал Ляле «весну света» и получил награду: «Нет, нет, я вас полюблю, не бросайте меня!»
(…)
Чувство полной уверенности, что в мою жизнь послан ангел-хранитель с бесконечным содержанием внутренним и неустанным стремлением вперед. И самое удивительное, что сама она лучше меня это сознает.
8 марта 1940 года 67-летний Пришвин записал слова своей 40-летней возлюбленной:
«Её задушевная мысль – это поэтическое оформление эротических отношений, что для выполнения акта любви нужен тот же талант, как для поэмы. На свете мало таких озорниц, и как раз мне такая нужна».
10 марта:
«Самое большое, что я до сих пор получил от Валерии – это свободу в отношении «физического» отношения к женщине, т. е. что при духовном сближении стыд исчезает и, главное, уничтожается грань между духовным и плотским. Раньше мне казалось, что это возможно лишь при сближении с примитивными женщинами, где «духовное сознание» становится ненужным: «пантеизм»: она – самка (честная, хорошая), а в духовной деятельности, как писатель, например, я один: ей – кухня и семья, мне – кабинет. А теперь мы с ней равные, и мне думается, что вот именно вследствие этого равенства, постоянного обмена и происходит рождение чувства единства духовного и телесного».
Между тем, отношения развивались. Предложение сделано. Теперь необходимо идти к матери Валерии, просить руки.
До 10-го Марта она не говорила мне ни д«13-е Марта… вышло знаменательным днём. Ляля сожгла все свои корабли, все долги, вся жалость полетела к чертям. Любовь охватила её всю насквозь, и все преграды оказались фанерными: всё рушится. Аксюша (домработница) стала первою жертвой: мы объявили за ужином, что мы муж и жена.
…Завтра иду к Наталье Аркадьевне, матери Л., во всем повинюсь и попрошу её благословения.
Ляля рассказывала, что когда матери призналась, та её спросила, думала ли она о возрасте, что если выйдет какой-нибудь новый «перевал», то она-то по молодости вынесет, а ему-то конец. Л. ответила, что думала: что это любовь её последняя и в ней всё.
Но снова, даже после фактического согласия матери, ни да, ни нет:
«…её можно было целовать – это не да, «любишь?», она отвечала «нет», но и это не было «нет»: жди же, она разъясняла, что «нет» относится к её личному, глубокому, небесному пониманию земной любви, а с точки зрения земной любви, то отчего же, она почти готова...»
Понимая, что необходимо побыть вдвоём, без посторонних глаз, без всяких помех, Пришвин предложил Валерии Дмитриевне поехать в дом отдыха – остановил выбор на Подмосковном Доме творчества «Малеевка». Жить там предстояло в одной комнате!..
Он предупредил об этом, и согласие было получено.
В тот же день сделал очередную запись?
Я могу её любить до тех пор, пока в ней будет раскрываться для меня всё новое и новое содержание. И мне кажется, что это будет, что она глубока без конца... Это она и сама сознает, она уверена в этом и в своё время говорила мне, что не может любить меня: она для меня неисчерпаема, а я – исчерпаем. «Я вас любить не могу», – говорила она тогда. Но почему же теперь повторяет «люблю»? Это надо так раскрыть: стихийно она и тогда любила меня, но только не считала это любовью. А когда ей стало ясно, что за своё чувство можно постоять, можно не посмотреть на страдания её близких, что она имеет право на любовь и что без этого права была бы жизнь бессмысленной, то тут она и сказала «люблю».
Сколько раз я повторял в своих писаниях, что я счастлив. И они теперь меня об этом допрашивают, не понимая того, что своим заявлением «я – счастлив», я отказываюсь от дальнейших претензий на личное счастье, что я в нем больше не заинтересован, я ничего не домогаюсь, мне развиваться в счастье не надо: я достаточно счастлив. Отрекаясь от этого личного счастья, я движусь духовно в творчество: мое творчество и есть замена моего «счастья»: там все кончено, все стоит на месте, я «счастлив»; здесь в поэзии все движется... Я самый юный писатель, юноша, царь Берендей, рождается сказка вместо жизни, вместо личной жизни – сказка для всех.
И вот тогда, при отказе от себя, возникает любовь ко всякой твари. Что же, разве это не путь человеческий, прекрасный? Скольким тысячам я указал путь любви. Но почему же пришла она, и то стало болотом, и все мои зайцы поскакали к ней, и птицы полетели, и все туда, туда! И мне стало все равно куда ехать, на север, на юг, везде хорошо с ней: она причина радости и на севере, на юге.
21 апреля 1940 года он подал в Литфонд заявление на две путёвки в Малеевку.
И вот тот же день записал:
«Свет весны всю душу просвечивает и всё, что за душою – и рай, и за раем, дальше, в такую глубину проникают весенние лучи, где одни святые живут...
Так значит, святые-то люди от света происходят, и в начале всего, там где-то, за раем только свет, и свет, и свет.
...и любовь мою никто не может истребить, потому что любовь моя – свет. Как я люблю, какой это свет! Я иду в этом свете весны, и мне вспоминается почему-то свет, просиявший в подвале сапожника, хорошего человека, приютившего Ангела. Когда просиял Ангел, просиял и сапожник.
Огромное большинство записей мгновенны и так неожиданны для сознания в своём явлении, что писатель еще не успел излукавиться, как это бывает почти всегда в крупном произведении. Миниатюра, как искреннее...
23 Апреля.
«Ночь любви, на которую не всякого и молодого-то хватит, дала мне только счастье, и утром я встал бодрый и бесконечно благодарный моей подруге».
Если, лежа возле Ляли, с её рукой под головой, уснуть невинным сном ребёнка и потом открыть глаза, то окажется, что она не спит, а глядит на тебя с глубокой нежностью и счастьем…
…Есть во всем образе Ляли что-то ребячье, как у меня в такой же степени мальчишеское, и в этом «будьте как дети» мы находим себе соединение той любви и другой.
28 апреля
«…начинается какая-то новая фаза моего романа: спокойствие брачных отношений в собственном смысле слова, рост потребности закрепить свои позиции в более глубоких очагах её души, ясность зрения в сторону необходимости самого дела любви, какой-то черной работы для этого.
Ляля решила завтра взяться за работу – и хорошо».
18 Мая.
«Вчерашний день надо понимать, как предупреждение. Ляля клялась при матери и мне клялась здоровьем матери, что теперь навсегда её опыты кончены, что я буду единственным, кому она будет принадлежать… Но я, лежа с ней в постели, просил её не связывать себя клятвой, уверял её, что при её связанности она потеряет лучшее свойство женщины, свою изменчивость. И пусть она несвязанная, вечно изменчивая, предоставит мне самому позаботиться о том, чтобы уберечь её от измены, худшего, что только есть в человеке и женщине.
– Лесной крест, - шептал я ей, неустанно целуя, - есть твое суеверие, твой страх перед твоим величайшим долгом быть собой, утверждаться в себе, быть вечно изменчивой и не изменять
Размышления о любви, преданности и верности составляют лучшие страницы дневника:
«Она предложила «откровение помыслов», что взял на себя, и она иначе ведь не может утвердиться в мысли о моём постоянстве, как мужа. Подумав об этом, я сказал, что с моей стороны помыслы все мои я ей открываю ежедневно без обета: зачем мне обет, зачем крест и венец, если я люблю её и если в живом чувстве всё это и содержится. Точно так же я верю, что она меня любит, и я слабостью, страхом перед самим собой считаю, что она хочет прибегнуть для охраны своего чувства к чему-то внешнему. Так я и свел все ко вчерашнему разговору об измене и об изменчивости.
– Нечего клясться и обещаться, – сказал я, – если мы будем друг друга любить, то само собой будем открывать друг другу свои помыслы. А если ты разлюбишь меня и закроешься, то ответ за твою измену я беру на себя. Будь спокойна и бесстрашна, я буду охранять наше чувство, я беру это на себя, и если изменишь – я за это отвечу.
Свободная любовь без обетов и клятв возможна лишь между равными, для неравных положен брак – как неподвижная форма. Но благословения на брак, на любовь, на откровение помыслов испрашивать... и мы сегодня ночью пойдём к нашему кресту КБ и там в лесу вместе помолимся».
О своей борьбе за любовь, борьбе за счастье Пришвин писал:
«Закончился период внешней борьбы и начинается внутреннее строительство. Бывает, теперь берёт оторопь, спрашиваешь в тревоге себя: а что если это чувство станет когда-нибудь остывать и вместо того, как теперь всё складывается по нашему сходству, всё будет разлагаться по нашим различиям? Я спросил её сегодня об этом и она:
– Не хочу думать, отбрасываю. Если мы не остановимся, мы никогда не перестанем друг друга любить. – Да и намучились мы, – сказал я, – довольно намучились, чтобы искать чего-нибудь на стороне».
Дневник как исповедь
Удивительные откровения Пришвина, его исповедь просто ещё до сей поры не оценены должным образом. Мы знаем «Исповедь» Жана Жака Руссо и восхищаемся ею… Это, считается классикой. Но мы читаем Руссо в переводе, а при переводе, если даже не случается потери в «изящной словесности», то, в любом случае, это уже не совсем Руссо, а отчасти переводчик. К тому же можно привести тысячи примеров, когда переводные произведения иностранных авторов при переводе на «великий и могучий Русский язык» – блистательное определение Тургенева – приобретают значительно больше, нежели теряют. Да и теряют ли что-либо вообще? Очень сомнительно, что теряют.
А здесь перед нами дневники нашего, родного, русского писателя. И дневники, повторяю, достойные самой пронзительной и откровенной исповеди.
Пришвин в постоянном поиске. Каждый день – новые открытия, открытия в великом чувстве любви, открытия в отношениях с чудом чудным – с женщиной! Он не стесняется сцен нежности, не стесняется своих действий и мыслей своих:
«Ложась в кровать перед сном, не менее часу, обняв друг друга, вплотную (первый раз понял, что значит в-плоть-ную), мы не менее часу точно так же прислоняемся и душа к душе. В этот раз мы путешествовали по Кавказу, приехали по Военно-Осетинской дороге к Сурамскому перевалу...»
Мечты… Они мечтали, словно дети. Они были влюблены, словно дети. И он восхищался ею, восхищался всем, что исходило от неё…
«В своих обнажениях тела Ляля совсем ничего не стыдится и в то же время она не «бесстыдная». Дело в том, что она показывается не с целью завлечения, а как бы предупреждает: бери, если нравится, но помни, что это ещё не любовь... Возьми, но я жду не этого».
Чего же она ждёт? Быть может, ответ на этот вопрос, отчасти, содержится в записи: «16 Июня. Троица».
Пришвин размышлял:
«Такое движение вперёд, такое сближенье, такая любовь: разве каких-нибудь пар десять сейчас любят... Но бывает изредка, будто дунет кто-то на любовь, и туман рассеется, и нет ничего. Тогда тревожно спрашиваем мы: «Любишь ли ты ещё меня?» И уверяем и доверяемся, и опять приходит новая волна и сменяется новой. Как будто цветистый поток бежит, уходит и вечно сменяется новой водой».
И далее:
«…чудо уже в том, что до 40 лет в женщине могла сохраниться девочка Ляля. Эта сохранность детства и есть источник её привлекательности и свежести. Напротив, практичность женщины нас отталкивает...»
Пришвин признался:
«Надо очень помнить, однако, что моё разбирательство жизни Ляли имеет не литературную цель (хотя цель эта не исключается), а цель самой жизни моей…»
То есть дневник – не ради дневника, не ради того, чтобы по-писательски сделать зарисовки, которые – некоторые из которых – потом могут стать основой или просто небольшим толчком для рассказа, повести… Да хотя бы просто небольшой миниатюры. Нет, его любовь требует другого – он созерцает любимую и отражает это восторженное созерцание на бумаге, он разговаривает о ней с самим собой, спорит с самим собой и только ради себя, ради себя рисует любимый образ.
2 января 1941 года Пришвин записал:
«Для прочного брака необходимо вечное движение любящих в мир, где оба ещё не бывали и отчего они сами открываются друг другу новыми сторонами. Такой брак можно представить себе только как движение вокруг абсолютно неподвижной точки внутри и с вечной переменой извне».
13 января 1941 года:
«Когда люди живут в любви, то не замечают наступления старости, и если даже заметят морщину, то не придают ей значения: не в этом дело. Итак, если бы все люди любили друг друга, то вовсе бы и не занимались косметикой».
И постоянно думает, думает, думает, постоянно по иске ответов на самые различные вопросы, вопросы жизненные, вопросы, которые волнуют многих, особенно влюблённых и особенно тех, кто ищет любовь, но не может найти.
«И всё так просто: если хочешь, чтобы тебя полюбили – полюби сам. (Но другой говорит: я полюблю, если меня полюбят)».
Сколько шуток по поводу вопросов «любишь не любишь». Он и здесь ищет ответ. Почему же люди так часто спрашивают об этом? Сомнения?
«Мы… в молчании прошли по тропинке, удивились красивой форме её и всех тропинок, выбитых человеческой ногой. Переходя овражек, она повернула моё лицо к себе, спросила:
– Скажи, что ты любишь меня.
– Люблю, но скажи мне, что за этим вопросом скрывается, ведь он порождён сомнением?
– Это возникло, когда ты говорил, что я не мешаю твоему одиночеству. Я возревновала тебя к твоему одиночеству».
Он размышляет о стыдливости и ложной стыдливости, о том, что притягательная сила двух любящих душ воспламеняет притяжение любящих тел:
«Нет ничего хуже того «стыдно» условного, через которое воспитывается страсть к запретному телу: именно тем, что худо, приучают к безликому удовлетворению похоти! Приучают к тому, чтобы только дорваться, а там под прикрытием плоти всё равно был бы хоть кто. Из этого и создается проституция: обыкновенная «любовь» за деньги. Ляля не имеет в себе того «стыда» и в короткое время воспитала меня: я теперь больше уже не чувствую той отдельности своей от женского тела, в которой разгорается плоть. Напротив, мне удавалось для удовлетворения добиться через близость тела прикосновенности к душе, чтобы плоть моя не выходила из меня, а растворялась в моей крови. За счёт этого растворения получается постоянное любовное состояние, постоянная мысль обо всем через друга (от этого получается не удовлетворение, а со-творение, т. е. творчество в сообществе с Целым)».
«Любовь и поэзия – это одно и то же. Размножение без любви – это как у животных, а если к этому поэзия – вот и любовь. У религиозных людей… эта любовь, именно эта – есть грех. И тоже они не любят и не понимают поэзии».
Безусловно, лучшие страницы дневников Михаила Михайловича Пришвина посвящены встрече с Валерией Дмитриевной, женитьбе на ней и счастливому супружеству. Любовь к Валерии Дмитриевне всколыхнула писателя, который уже начинал считать себя стариком – как-никак шестьдесят семь лет. И вот он стал снова, словно юноша, но вспоминал юность всё-таки опираясь на свой жизненный путь и размышлял с высоты своего опыта.
Он испытал многое… Есть размышления такого характера:
«В своё время я был рядовым марксистом, пытался делать черновую работу революционера и твёрдо верил, что изменение внешних условий (материальных) жизни людей к лучшему, непременно приведёт их к душевному благополучию... Когда же пришла общая революция, и я услышал, что моя родная идея о незначительности личности человека в истории в сравнении с великой силой экономической необходимости стала общим достоянием, и этому научают даже в деревенских школах детей, то я спросил себя: «Чем же ты, Михаил, можешь быть полезен этому новому обществу и кто ты сам по себе?»
Так вопрос о роли личности в истории предстал передо мной не как догмат веры, а как личное переживание. Мои сочинения являются попыткой определиться самому себе как личности в истории, а не просто как действующей запасной части в механизме государства и общества... Так разбираясь, я открыл в себе талант писать. И мне открылось, что в каждом из нас есть какой-нибудь талант, и в каждом этом таланте скрывается, как нравственное требование к себе самому, вопрос о роли личности в истории».
Он выбрал не революционную борьбу, не политику – он выбрал художественную прозу, причём, окунулся в мир живой Природы.
Современники рассказывали, что у Пришвина была встреча со Сталиным, и Сталин задал вопрос о творческих планах писателя и о том, есть ли в этих планах какие-то задумки о произведениях, посвящённых рабочему классу, крестьянству – одним словом, строительству социализма в СССР.
Пришвин стал рассказывать о своём увлечении природой, о книгах, уже написанных и задуманных.
Сталин слушал внимательно, а затем с улыбкой сказал:
– Ладно! Пишите уж про своих птичек...»
И Пришвин писал о Природе, писал и о птичках и о животных… Но он писал и о любви:
«Итак, всякая любовь есть связь, но не всякая связь есть любовь.
Истинная любовь – есть нравственное творчество. Можно закончить так, чтолюбовь есть одна – как нравственное творчество, а любовь, как только связьне надо называть любовью, а просто связью. Вот почему и вошло в нас это олюбви, что она проходит: потому что любовь как творчество подменяласьпостепенно любовью-связью, точно так же, как культура вытесняласьцивилизацией».
--
Николай Шахмагонов
Восьмая глава детективного романа «Плата за игру»
Полина Трофимова. Мария Шестакова
«Ты самое яркое впечатление жизни…»
«Может на одноклассниках? – подумала она. – Хотя, конечно, сайт теряет популярность. Расцвет в прошлом, но так ведь он, как и я сама, мог когда-то раньше зарегистрироваться там, да и остаться. Друзьями-то оброс, наверное».
Она давно не выходила на сайт, и туда уже не могла попасть без пароля. Потребовалось ещё какое-то время отыскать пароль, который хоть и записала когда-то, но уж не помнила куда.
Наконец, нашла в старой записанной книжке.
И надо же!? Разве не чудо!? Андрей нашёлся сразу. Да, она узнала его по фотографии. Совпала и дата рождения. Мало того, светился огонёчек. Он говорил, что Андрей на сайте.
Она быстро нажала: «Написать сообщение». И вот тут растерялась. Что же, что написать? Как начать письмо? Что произошло между Андреем и Аней? Подруга так и не сказала, что, но дала понять, что они давно уже не вместе.
«А, напишу прямо, напишу, как есть!»
Набрала:
«Здравствуй, Андрей! Ты наверно удивился, что я опять появилась в твоей жизни и решила написать тебе. Я теперь свободна. Я – вдова. Начинаю новую жизнь. Как всё сложится, не знаю? Старшая дочь за границей. Младшая в Москве учится на 2-ом курсе. Пиши, если ещё помнишь...»
Написала и остановилась – никак не могла отправить письмо. Думала, думала, но ничего не могла придумать.
А мысли вертелись вокруг, да около.
«Вот тебе и счастливая мужняя жена. Столько лет счастливая, в кавычках счастливая, в кавычках».
Вспомнился сравнительно недавний эпизод.
Вадим был в командировке, в Чехии. Должен был прилететь как раз в тот день. Лора ждала его, приготовила много вкусного. Готовить она умела. Даже пироги печь, как пекли бабушка, мама…
Ближе к полудню раздался звонок. Она взяла трубку и услышала:
– Ну что, дура рогатая! Твой-то в Чехии с полюбовницей своей был. И сегодня они, голубки-то, прилетают.
В трубке послышались гудки. Лора положила её и опустилась на стул, растерянно озираясь. Вот уж, всё готово почти к встрече. Любила или не любила, но женой была примерной, с тех самых пор, как оборвался роман с Андреем.
И вдруг, как спохватилась.
Быстро оделась, заперла квартиру и побежала к машине. Потом раздумала садиться за руль в таком состоянии, поймала такси и в Шереметьево.
Купила цветы, специально купила. Встала у зала, через который проходили прибывающие пассажиры.
Приехала рано. Прибыл первый рейс из Праги, не тот, что нужен, а всё же она встала в сторонку и просмотрела всех пассажиров. Мало ли? Кто звонил? Может, специально зачем-то дезориентировали? Но, с другой стороны, зачем? Она ж никогда прежде не встречала Вадима. Чего ж опасаться?
Сходила на платную стоянку машин. Его машину узнала сразу. Там она дожидалась, родимая, там, на месте.
Снова приготовилась ждать. На неё даже внимание обратили. Кто-то из спецслужб, видимо. Пришлось отойти в сторонку.
Но вот и нужный рейс. И вот они, голубки, как по заказу.
Шли себе, переговаривались. Он вёз за собой здоровый чемодан. Она везла поменьше.
И Лора выработала план. Она пошла навстречу, протянула букет и так, как давно уже не говорила, ласково, сказала:
– Ну, здравствуй, любимый. Я так соскучилась.
Немая сцена – не передать.
Он, как калач давно уж тёртый, опомнился первым. Засуетился:
– Ой, девочки, ой! Я мигом! Стойте здесь. Я сейчас за машиной. Подвезём мою коллегу и домой.
Решил вывернуться. Да ведь и не знал он о звонке-предупреждении. Могло удивить лишь то, что Лора встретила его.
Он оставил их у дверей, чтобы не мёрзли на улице. Был март, погода стояла промозглая.
Но только Вадим ушёл, Лора повернулась к его попутчице, которая уж решила, наверное, что всё обойдётся. Оценивающе оглядела её. Сразу заметила, что та постарше, причём даже не на год и не на два. Так, с виду.
Ну и выдала так, как и от себя-то не ожидала, за всё своё – за всех, кто был у него прежде, да авансом за тех, кто будет в будущем.
– Ну что… Прокатились. Дай-ка погляжу. Ну… ты ему-то в мамы годишься, а мне и в бабушки.
Это было преувеличением. Лора с Вадимом были ровесниками. Но тут уж не до уточнений.
Женщина стояла, растерянно глядя на Лору и, видимо, не ведая, что сказать.
– Вот что, подруга хорошая, кошка драная, дуй-ка отсюда, пока цела, а то распишу твою физиономию, не хуже Врубеля…
Потом не могла понять, почему назвала Врубеля. Видно, что будет грозно так, показалось. Не ответила и на вопрос сама себе, «расписала» или не «расписала» бы физиономию. Скорее нет, чем да. Но уж, видно, очень грозным был вид у неё, загнанной в угол, подобно обиженному котёнку. И этот котёнок в последний момент превратился в тигра.
Женщина подхватила свой чемодан и поспешила улизнуть с поля боя подобру-поздорову.
А вскоре подошёл Вадим. Он удивлённо осмотрелся, но Лора опередила его:
– Твоя коллега сказала, что доберётся сама, чтоб не стеснять нас.
Было желание устроить скандал, накричать, но… Она всё чаще стала проявлять железную выдержку, понимая – ничего уже не изменишь. И как-то надо приспосабливаться к жизни.
И вот… Всё кончено. Она сидела одна перед компьютером и думала, отправлять написанное или не отправлять.
И набравшись духу, отправила.
Отправила, и словно гора с плеч.
Ждала, ждала с волнением. И дождалась: показалось падающее пёрышко. Значит, ей пишут ответ. Но какой ответ – вот сейчас ответит холодно, ответит грубо… Нет, грубо не ответит. Не таков. Но уничижительно-безразлично может. А это лучше ли?
Ответ высветился неожиданно, появился из небытия:
«Милая!.. Странный вопрос... Как же я могу тебя забыть? А что случилось? Или пока не время рассказывать? Ну а тебя помню, помню и знакомство наше и то чудесное лето, и всё, всё, самое лучшее…»
У неё защемило сердце от тоски по тому, что могло быть и чего не случилось. Она ответила тут же и ответила, не сдерживая себя:
«Мой любимый! Спасибо тебе за доброе отношение. Всё, что со мной случилось достойно детектива. Хочу позвонить, но я не знаю твой телефон. А свой дать пока не могу. Не доверяю соц. сетям. Очень всё у меня сложно. Я же не работала. А сейчас надо куда-то устраиваться. Но это не главное».
А потом всё-таки написала, что случилось с мужем… И сделала вывод:
«Оказалось, он сам выбрал решение! Даже в Интернете кто-то написал – «сильный поступок слабого человека!»
Он задал вопрос:
«Но что же к тому привело?»
Лора коротко намекнула:
«Есть версия, что виноваты карты. Оказывается, он летал в Минск, там казино официально не запрещены. Утром туда, а вечером обратно, вроде как с работы вернулся».
Андрей ответил:
«Да, вот карты это, конечно, страшное дело. Сколько людей погубили…».
Лора уточнила:
«Короче вопросов много и домыслов. Что там на самом деле с ним случилось, до конца так и не понятно. Друзья то ли на самом деле не знают, то ли не хотят говорить. Но я до конца не знала, что так все плачевно кончится, а то бы ждать не стала».
Она не уточнила, чего бы не стала ждать, но всё же дала понять, что мысли о разводе появились у неё давно, да только вот что-то сдерживало их.
Лора не стала развивать тему развода. Могло показаться, что она написала с определённой целью. Но она написала, потому что не могла не написать. Снова вернулась к мыслям о случившемся с Вадимом:
«И ещё, наверное, (я так думаю) играл в подпольных казино – они тоже есть, хотя с ними и борются. Нам уже пришлось первую дачу продать – долги. Потом однокомнатную квартиру. Правда, он потом построил коттедж. Но сейчас и его нет. Больше года назад заложил его. А я и не подозревала – всё лето там огородом занималась. Даже не догадывалась, что это уже не моё. У него в паспорте не было штампа о браке – в милиции при обмене не поставили вот он и воспользовался. Совершал сделки, как холостой, иначе бы пришлось моего согласия спрашивать».
Он согласился с тем, что тема уникальна:
«Действительно, сюжет для небольшого романа. И кстати, полезного, поскольку, увы, немало таких случаев».
Она с горечью призналась:
«Да, я только теперь поняла, какая была доверчивая и беспечная. Верила… Вот я и говорю, что сюжет просто замечательный. Подробности выдумывать не надо, я в деталях всё расскажу...»
Он удивился:
«Ты что, хочешь, чтобы я написал? Я ж не по той части…»
«Да, по той части, о которой упомянул, у меня у самой столько вопросов. Ведь я так и не узнала, как всё вышло в то далёкое лето. И как ты жутко рисковал. Ради меня. И не объяснила тебе много того, что объяснить хотела».
А между тем, было уже далеко за полночь. Ведь не только на письмо и на пересылку сообщений уходило какое-то время. Лора же не знала, может Андрею завтра рано на работу. Она написала:
«Хорошая у нас сегодня с тобой переписка получилась. А то я совсем раскисла. А сейчас время пролетело незаметно. Ты уже наверно спишь в это время?»
«За это не беспокойся».
Она читала, но нет-нет, да начинала думать о своём, о том, что ещё не переболело. И одновременно всё же испытывала неловкость. Только произошла трагедия, а она уже пишет и кому пишет, некогда близкому человеку, теперь она бы сказала, что и родному. И она прибавила к уже написанному:
«Да. Я была хорошей женой. Упрекнуть себя не в чем. Не моя вина, что с ним произошло. У тебя хорошая память на детали. Я тоже помню многое. Вот так Андрюшенька, была хорошей женой, да это не нужно было. Но, я не могу не признаться, что ты и только ты моё самое яркое впечатление от жизни. Одно лето – вся жизнь»
Написав это, Лора поспешно выключила компьютер.
Андрей попытался что-то ответить, но огонёк возле её имени на Одноклассниках погас.
Он сидел и думал, думал о только что случившемся.
Думал ли он о ней, помнил ли? Ведь действительно, одно, только одно лето и вся жизнь. И он снова вспомнил то необыкновенное лето, вспомнил её внезапный отъезд в санаторий и неожиданный звонок Анны.
Он не мог заснуть. Нахлынули воспоминания…
(о которых мы расскажем в следующей главе…)
Битва за Крым
Роман публикую по просьбе админа , т.к. Николай Константинов еще не прошел регистрацию на нашем сайте.
С ув. Hymnazix
Николай Константинов
БИТВА ЗА КРЫМ. Исторический роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА
Глава первая
Депеша Князя Потёмкина
Императрица Екатерина Алексеевна беседовала с Великим Князем Павлом Петровичем, когда вошёл дежурный генерал-адъютант и доложил, что прибыл канцлер Безбородко*.
– Проси, – повелела Государыня.
Безбородко ступил в кабинет, поклонился и поспешил сообщить:
– Прибыл посол из Грузии. Царь Карталинский челом бьёт… Пишет, что одолели его турки. Защиты просит, под Вашу руку могучую просится, Ваше Величество…
– Проси посла. Пусть сам заявит просьбу.
Посол, соблюдая ритуал, произносил необходимые фразы, затем долго кланялся, пока Императрица не прервала эти поклоны, повелев:
– Ну, говори, что привело тебя.
Посол заговорил быстро, с жаром, и переводчик едва переводить успевал:
– Говорит, турки данью замучили… Платить им дань приходится разную, но очень тяжело платить дань отроками и отроковицами, которых вырывают из домов своих, от родителей и увозят в полон. Плач стоит по всей Грузии. И защитить её некому.
– Вот оно как, – покачав головой, молвила Государыня. – Так чего же хочет ваш Царь Ираклий?
Переводчик не успел перевести вопрос, как ответил посол, видно, разумевший по-русски, и пришлось сразу переводить этот его ответ:
* Александр Андреевич Безбородко (1747 – 6 (17).4.1799, Русский государственный деятель. Происходил из украинской казачьей старшины. В 1765 году начал службу в канцелярии генерал-губернатора Украины П.А.Румянцева. С 1775 года секретарь Екатерины Второй, составитель манифестов и многих друг их документов (до 1792 года). С 1780 член Коллегии иностранных дел, с февраля 1784 года фактически возглавлял её. С конца. С конца 80-х гг. до 1792 года был ежедневным докладчиком Екатерины Второй по важнейшим вопросам. Принимал участие в подготовке и заключении главнейших международных актов России последней четверти XVIII века, добился признания Турцией присоединения Крыма к России (1783), подписал выгодный для России Ясский мирный договор 1791 года с Турцией, конвенцию о третьем разделе Польши (1795) и другие. Безбородко был крупным дипломатом, однако, не отличался самостоятельностью и инициативой. После смерти Екатерины Второй сохранил руководящее положение в Коллегии иностранных дел, в 1797 году получил звание канцлера и титул светлейшего князя.
– Под руку России хотят? – переспросила Государыня. – Ну что, быть по сему… Надо спасать единоверцев от османского ига. Пиши, князь, Андрей Андреевич, – повернулась она к Безбородко. – Указ пиши… От давнего времени, Всероссийская Императрица. По единоверию с грузинскими народами, служила защитою, помощью и убежищем тем народам и светлейшим владетелем их против угнетений, коим они от соседей своих подвержены были… В настоящее время Императрица желает избавить эти единоверные нам народы от ига, рабства и позорной дани отроками и отроковицами, которую некоторые из сих народов давать обязаны были, – и потому Россия, снисходя просьбе царя Карталинского и Кахетинского, принимает его, и со всеми его царствами и областями под своё покровительство.
Наступила тишина, и в тишине звонко прозвучал голос Великого Князя:
– Не след бы нам, Матушка, простирать пределы Державы на неспокойные области Кавказа. Нам бы внутри порядок навести, да людей достаточными сделать. А что ж этих-то на шею к себе взваливать? Они ж добром не помянут, а за добро злом сочтутся…
– Что ты, право, Великий Князь?! Не дело говоришь…
– Дело, Матушка, дело, – возразил Павел Петрович. – Не след нам за их дела кровью солдат русских расплачиваться. Да и благодарности от них не дождёшься.
– Ступай, князь, ступай к себе. Не мешай, – слегка нахмурившись, велела Государыня, прислушиваясь к горячему ропоту посла, видно, понявшему, что говорил Наследник Престола.
Но тут дежурный генерал-адъютант вновь появился на пороге и сообщил о прибытии курьера от князя Потёмкина.
– Давай же, давай немедля депешу, – молвила Государыня, а собравшимся сказала: – Ступайте, ступайте… Все свободны.
Но, начав читать, задержала Безбородко, не успевшего выйти.
– Вот, князь, это и по твоей части… Слушай, слушай… Или лучше читай ка сам, а я послушаю. Снова о полуострове Таврическом пишет князь. Читай…
– Князь просит ускорить решение Крымского вопроса, – пробежав глазами первые строки, сказал Безбородко и начал, не спеша, читать письмо: – Я всё, Всемилостивейшая Государыня, напоминаю о делах, как они есть и где Вам вся нужна ваша прозорливость, дабы поставить могущие быть обстоятельства в Вашей власти. Ест ли же не захватите ныне, то будет время, когда всё то, что ныне получим даром, станем доставать дорогою ценою. Извольте рассмотреть следующее. Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по Бугу или со стороны Кубанской – в обоих сих случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен: для того, что не допустит их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите ж теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубани сверх частных крепостей, снабжённых войсками, многочисленное Войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумнительна. Мореплавание по Чёрному морю свободное. А то, извольте рассудить, что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить ещё труднее. Ещё вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдалённых пунктах.
– Дельно, дельно, – удовлетворённо проговорила Государыня. – Продолжай же, продолжай.
– Всемилостивейшая Государыня! Неограниченное моё усердие к Вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрёл: Франция взяла Корсику; цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет страны в Европе, чтобы не поделили между собою Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит. Удар сильный – да кому? Туркам: это вас ещё больше обязывает. Поверьте, что Вы сим приобретением безсмертную славу получите и такую, какой ни один Государь в России ещё не имел. Сия слава проложит дорогу к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Чёрном море. От вас зависеть будет запирать ход туркам и кормить их или морить с голоду.
Безбородко сделал паузу, дух перевёл. Государыня слушала молча, слегка сощурившись.
Канцлер продолжил:
– Хану пожалуйте в Персии, что хотите, – он будет рад. Вам он Крым поднесёт нынешнюю зиму, и жители охотно принесут о сём просьбу. Сколько славно приобретение, столько Вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот, она могла, да не хотела или упустила. Есть ли твоя Держава – кротость, то нужен в России рай. Таврический Херсон! из тебя истекло к нам благочестие: смотри, как Екатерина Великая паки (снова – ред.) вносит в тебя кротость христианского правления!
– Что скажешь, Александр Андреич? – спросила Государыня.
– Князь прав. Час наступил. Он верно говорит, что турки уже сами нарушают договор, а потому дают право и России нарушить его. Порта вмешивалась в Крымские дела под предлогом того, что султан имеет духовную власть над мусульманами. Да и главные наши соперники на Ближнем Востоке заняты войной друг с другом. Шагин-Гирей не зря тяготеет к нам. Турки поддерживают его противников и даже эскадру недавно направляли в Ахтиарскую гавань. Недаром хан готов эту гавань уступить России. Флота своего у него ведь нет. Но и здесь князь прав. Не следует говорить об одной только гавани, когда время пришло взять под руку России весь полуостров.
-_-_-
* Здесь и далее, в аналогичных случаях, автор умышленно пишет приставку «без», вместо «бес», согласно старому Русскому и Древнеславянскому правописанию, изменённому бесноватыми реформаторами, образца 17 года.
_-_-
– А что же хан? Действительно ли хочет под нашу руку? – спросила Государыня.
– Что же касается хана, которому Потёмкин предлагает пожаловать земли в Персии, то о желании его ведомо из письма генерала Самойлова. Из того, что прислал осенью прошлого (1782) года: намерение ханово – есть таковое, чтобы будущей зимою, а не далее весны, просить Всемилостивую Государыню, чтобы она изволила принять его в подданство своё.
– Что так? Припекло?
– Хан сам сообщил князю Григорию Александровичу, что хотел бы получить себе земли в одной из персидских провинций. Припекло! Оставаться в Крыму опасно ему.
Действительно, в письме, датированным 18 октября 1782 гола хан Шагин Гирей писал Григорию Александровичу Потёмкину об успешных действиях генерал-майора Самойлова, вошедшего с войсками в перекопскую крепость для подавления восстания против хана. Шагин-Гирей был в восторге от твёрдой дисциплины русских войск, которые не чинят «обид и притеснений его подданным», а точно и чётко выполняют поставленную задачу по борьбе с мятежниками.
Государыня, подумав, заговорила тоном повелительным:
– Что ж, вижу, что возникла настоятельная необходимость присоединить полуостров к России, дабы он пиши, пиши… «не гнездом разбойников и мятежников на времена грядущие оказался, но прямо обращён был на пользу государства нашего в замену и награждение осмилетнего беспокойства, вопреки нашему миру понесённого, и знатных иждивений на охранение целости мирных договоров употреблённых».
Прервалась, немного помолчала и завершила своё повеление:
– Ну а произведение в действие столь великих и важных предприятий возлагается на Григория Александровича Потёмкина.
И уже завершая разговор, Императрица неожиданно изрекла:
– Надобен мне молодой, энергичный и преданный Престолу офицер для действ весьма и весьма важных… Срочно нужен. Такой офицер, что б тайну хранить умел, и чтоб можно было на него вполне положиться.
Глава вторая
Вызов к Государыни
В Зимний Дворец подполковника Жадовского вызвали из дому. Курьер вручил депешу и на словах передал, что дело срочное. Домочадцы заволновались, а когда выяснилось, что его вызывает сама Государыня, особенно обеспокоилась супругу, Наталия Васильевна, женщина своенравная и весьма ревнивая.
Она не чуралась света и была в курсе всех сплетен и дворцовых интриг, а потому сразу сделала вывод, что Государыня положила глаз на её супруга, статного красавца, за которым, как уже давно поняла Наталья Васильевна, нужен глаз да глаз.
– Беги, беги скорее, – раздражённо заговорила она. – Вон как глаза загорелись. Ждёт тебя Государыня. Приголубит, приласкает…
– Оставь, – сказал подполковник. – В любовники так не вызывают и не назначают, да и вообще пора бы эти сплетни прекратить. Гроша ломаного не стоят. И откуда только берутся этакие выдумки. Государыня Державу поднимает с колен, какие приращения делает!
– Сейчас и тебя прирастит, – не сдавалась супруга.
Но Жадовский быстро собрался и поспешил на выезд.
Это был хоть и молодой, но уже прошедший закалку в боях офицер. На театр турецкой войны он попал после окончания кадетского корпуса. Тогда по распоряжению Государыни на пополнение армии Румянцева были направлены двенадцать поручиков. Румянцев сам просил Государыню об этом пополнении, а потому лично встретился с прибывшими в армию офицерами и долго беседовал сначала со всеми вместе, а затем и с каждым в отдельности. Говорили, что после этих бесед Петр Александрович написал Императрице письмо, в котором благодарил её за присылку в армию вместо двенадцати поручиков двенадцати фельдмаршалов, настолько порадовала его и по-хорошему изумила подготовка молодых офицеров.
И вот теперь ему предстояла встреча с самой Государыней…
Глава третья.
Князь Потёмкин слушал доклад офицера, прибывшего из Константинополя от русского посла Булгакова. Тот сообщал последние данные об обстановке при дворе султана и всё, что удалось нового узнать о положении в Крыму.
– Крымский хан не зря боится султана. Понимает, что если мы не окажем ему помощь, если не возьмём под свою защиту, дни его сочтены. И султана только мы сдерживаем. А иначе – разговор короткий: удавка на шею и всего делов, – говорил офицер.
– Я уже отписал Государыне, – молвил Потёмкин. – Будем действовать. – Что ещё просил передать Василий Яковлевич?
– Вот этот пакет. Там список с весьма любопытной книги и письмо Вашей Светлости.
– Давай… Познакомлюсь на досуге.
Офицер ушёл. Потёмкин плотно затворил дверь в кабинет и сел за массивный стол. Много лет он не изменял один раз и навсегда заведённой привычке. В обычные дни, когда не случалось ничего экстремального, распорядок был жёстким. Вставал он рано и тут же вызывал для доклада своего неизменного секретаря Василия Степановича Попова. Тут же принимал решения и отдавал распоряжения по докладу. Затем на целый час садился в холодную ванну, после которой завтракал, причём, более чем скромно. Обычно на завтрак подавали чашечку шоколада и рюмку ликёра.
Когда дела спорились, и настроение было хорошим, князь повелевал музыкантам исполнить какую-либо кантату или просил певцов спеть одну из его любимых песен. Если же обстановка была напряжённой, а на счету каждая минута, князь сразу брался за работу, и никто, кроме Василия Степановича Попова, не смел безпокоить его.
После завтрака Потемкин приступал к работе. Обычно первым заходил к нему в кабинет всё тот же Василий Степанович Попов. Он представлял князю бумаги, поступившие за минувшие сутки. Затем следовали доклады статс-секретаря, лейб-медика. Лейб-медик делал подробный обзор состояния медицинского обеспечения войск. Только после этого дело доходило до представителей дипломатического корпуса.
И, наконец, наступал период, когда Потёмкин оставался в кабинете один. Не менее часа в день он посвящал раздумьям. На большом письменном столе были разложены бумага, карандаши, «пруток серебра», пилочка и разноцветные драгоценные камешки. Все эти предметы помогали сосредоточивать мысли на чем-то особенно важном. Он раскладывал перед собою на столе камешки, передвигал их, составляя геометрические фигуры. Брал пилочку и обтачивал «пруток серебра». Когда приходило какое-то важное решение, он звал Попова и приказывал немедленно принять его к исполнению.
Вот и в том день, оставшись один, он удобно устроился за столом и вскрыл пакет, доставленный от Булгакова. В пакете был объёмистая пачка листков, исписанных непонятным языком и письмо Булгакова.
«Есть здесь старинная книга, содержащая пророчества о жребии Турецкой империи, называемая Агафангелос. В течение прошедшей войны великой она между греками наделала шум. Порта употребила все способы к искоренению её, и под суровою казнию запретила подданным своим иметь её и говорить о ней, так что, несмотря на мои старания, ныне не мог я достать печатного экземпляра, а достал только, да и то с трудом, выписку. Писана она, сказывают, таким таинственным слогом, что здесь нет человека, который бы мог её перевесть, и самые учёные в Фанаре греки ответствовали мне, что один только преосвещенный Евгений в состоянии её разуметь и на другой язык переложить… Может быть, действительно достоин он быть прочтён… Ежели угодно будет Вашей Светлости приказать оный список перевести, то осмелюсь всепокорнейше просить пожаловать приказать доставить мне копию; ибо я только по словесному некоторых мест переводу содержание сей, по здешнему мнению, безценной, книги знаю».
– Любопытно, – проговорил князь, листая список. – Кто же это сможет прочесть? И о чём речь? Прорицания о грядущем?
Много у России врагов, но Османская империя – враг особый. Западные страны не менее, а порой и более жестокие совершали походы на Русь, причём, стремились нанести удар исподтишка. Но Османской империи суждено было нанести удар не столько России, сколько апостольской вере Христовой, разгромив Византию и захватив Константинополь.
«А не настали ли пора вернуть Константинополь? Не настали ли пора водрузить на Святой Софии крест Православный?! – размышлял Потёмкин. – Крым – только начало… Конечная цель – Константинополь».
Эти мысли занимали его давно, и недаром он настраивал Государыню на невероятный, на первый взгляд, Греческий проект. Выбить турок из Константинополя и вернуть Святую Софию в лоно апостольской веры христовой – разве не достойная цель?!
Но сначала надо было присоединить Крым и окончательно выйти в Чёрное море!
(Продолжение следует)