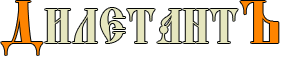Достояние народа
Смешная,нет страшная, нет всё же маленько смешная история
В истории, которую я вам сегодня хочу рассказать будет несколько невинных трупов и один дебил, впоследствии тоже труп. Вообщем то, с первого взгляда не очень смешно всё выглядит. Но, как хотите, а иначе как к разряду "чёрного юмора" отнести этот случай нельзя. А случился он под самый занавес правления Брежнева. Летом 1982 года. В Минске
Жили в Минске два брата Нехаевы. Старший и младший. По старинной традиции надо бы сказать дескать, старший умный был детина, младший вовсе был дурак.
В данном случае традиция оказалась нарушенной. Нет, младшенький и вправду был дурак, да ещё какой. Но и старшего умным никак не назовёшь.
Но внешне старший, его звали Александр, выглядел конечно поумней младшего. Старший окончил химфак и занимался химическими науками на кафедре Белорусского государственного университета.
А вот младший, которого звали Валерий, был не столь успешен. Более того, как говорит о нём Википедия "был замкнут и забит".
Поэтому он работал в Минском театре оперы и балета. К началу описываемых событий исполнилось Валере 32 годика. Срок вполне достаточный, чтобы поумнеть даже работая в Минском театре оперы и балета. Вместо этого он стал, по воспоминаниям выживших после совместной с ним работы, "очень принципиальным"
И вот летом 1982 года на Валеру один рабочий сцены взял и уронил декорацию. Кажется он не имел в виду именно Валеру и его принципиальность. Просто так вышло. Так бывает в театрах.
Что в подобных случаях сделал бы менее принципиальный пострадавший? Ну обматерил бы уронителя. Ну, на худой конец, затрещину бы ему отвесил.
Валера решил обидчика...отравить. Из принципа.
Но где взять яду? Да как же где, ведь есть же брат-химик. Родная кровь, нешто не поможет поруганную честь брата защитить? И Валера обратился к старшему брату.
Представляете, но того эта просьба ничуть не шокировала и, даже, не сильно удивила. Он пошёл к знакомой продавщице в магазин химреактивов и та, из под полы, продала ему ядовитейшую штуку-талий. Александр отдал яд Валерию. Мсти братишка за свою честь и достоинство.
Братишка купил в магазине газированный напиток "Байкал", влил в него лошадиную дозу талия и поставил в рабочий шкафчик обидчика. Типа подарок от неизвестного доброжелателя. Весь день Валерий радостно предвкушал, как подлый оскорбитель утолит жажду и начнёт корчится в муках. Потом помрёт и уже никогда и ни на кого не сможет уронить декорацию.
Но случился облом. Три других рабочих сцены взломали шкафчик коллеги и , помимо прочего, стырили оттуда "Байкал". И выпили. Яду хватило на всех троих. Теряющих волосы и стремительно слепнущих их увезли на "скорой"
"Ну, что за страна, ворьё на ворье" огорчённо подумал Валерий и снова пошёл к старшему брату. За новой порцией яда. Тот опять направился к знакомой продавщице и она вновь выдала ему талия.
На этот раз Валерий придумал план коварней. Он подлил талий в бутылку шампанского. А бутылку опять поставил в заветный шкафчик. Валерий расчитывал, что уж шампанское то обидчик точно не бросит без присмотра, а выпьет тут же. Из горла.
И вновь осечка! Обидчик, как выяснилось, не любил шампанское. Обнаружив у себя в рабочем шкафчике этот новогодний напиток, он от всей души попотчевал им двух своих товарищей по работе. Дальше вы знаете. Их увезли на "скорой". К вечеру один из них скончался в больнице.
Таким образом Минский театр оперы и балета за два дня лишился пятерых рабочих сцены. Где нибудь на Бродвее такую ничтожную убыль рабочих сцены и не заметили бы небось, но для Минского театра оперы и балета это было много. И в театре появляется милиция, крайне удивлённая пятью тяжёлыми и, явно умышленными, отравлениями за два дня во ввереном ей городе.
Последний раз похожее происходило во времена Цезаря Борджио и то не в Минске, а в Риме. Вот милиция и заинтересовалась.
Валера же, хоть и был огорчён новой неудачей, но рук не опустил и не сдался. А быстренько побежал к старшему брату за новой порцией яда. Вы будете смеяться, но он её получил.
Собственно этот яд Валере надо было бы уже принять самому. Потому, что милиция, работая в театре, уже установила, что источником отравы были напитки таинственным образом появляющиеся в шкафчике одного из рабочих сцены и вот вот должна была выйти на след Валеры.
А Валера, тем временем, решил действовать более прицельно. Точечно, так сказать. Он купил две бутылки хорошего грузинского вина. Влил в них яд и поставил бутылки под дверь квартиры где жил его оскорбитель. И, потирая руки, пошёл домой. Уж теперь то, по его мнению, оскорбителю деваться будет некуда. Обнаружив у себя под дверью целых две бутылки хорошего вина, тот не сможет поступить иначе, как взять их домой и выпить. Но видно злой рок преследовал Валеру. Даже такой безукоризненно логичный и дьявольски коварный план провалился.
Дело в том, что Валера не учёл, что в этом же подъезде проживала молодая девушка Наташа - студентка Минского строительного института. А у Наташи была мама. Эта мама, возвращаясь с работы, увидела на лестничной клетке две бутылки вина и взяла их себе. У её любимой дочки Наташи сегодня был радостный день, они с друзьями получили дипломы об окончании ВУЗа и собирались отпраздновать это дело. Вот мама и подарила Наташе на праздник две бутылки вина. Найденного на лестничной площадке. Ну не сильно умней братьев Нихаевых эта мама, видно, была.
Дочка сказала:
- Ой спасибо, мамочка - и побежала к друзьям
Друзья сказали:
- Ой спасибо, Наташа - и выпили вино.
К вечеру двое из них, молодые 26 летние парни, скончались в больнице.
В это время милиция уже допрашивала Валерия. Тот не стал запираться, а сразу во всём признался.
Его приговорили к расстрелу и приговор привели в исполнение.
Великоразумный старший брат Александр получил пять лет тюрьмы. Но это не конец истории. Милиция арестовала и продавщицу, щедро снабжавшую Александра талием. Когда полезли в торговые документы, с целью выяснить, откуда в магазине взялся неучтённый яд, с удивлением выяснили, что по отчётам всё в ажуре и никакой неучтёнки там и не ночевало.
Так были вскрыты крупные хищения в этой торговой точке и за решёткой оказались директор магазина и руководство ТОРГа Но и это ещё не конец истории.
Конец её наступил в 1987 году. Один из выживших рабочих, отведавших "Байкалу" тяжело болел от последствий отравления. Не в силах далее терпеть он покончил с собой. Застрелился из самодельного пистолета.
А пистолет он сделал из...мясорубки.
Хороший, наверно, был рабочий
"Лучше замуж за кучера, чем за Наполеона…"
"Лучше замуж за кучера, чем за Наполеона…"
Глава из книги "Любовные драмы у трона Романовых"
Казалось бы, императору было просто необходимо выдать свою сестру Екатерину Павловну за кого угодно, только бы обезопасить свой трон, да и свою жизнь – тоже. Вряд ли он мог считать, что Катиш, несомненно, желая занять престол, хочет его погибели. Но логика дворцового переворота неумолима. Он ведь тоже не желал смерти своего отца Павла Петровича, он ведь даже просил заговорщиков пообещать ему, что свергаемого Императора оставят в здравии. Но верил ли в то, что они выполнят обещание?
Конечно, он, хоть и сын своего отца по крови, сыном его по духу не был. И отваги не хватало, и твёрдости, да и порядочности тоже. Он, конечно, не признавался себе в том, что, мягко говоря, недостаточно храбр. Но разве мог забыть, как вдень Аустерлицкого сражения в панике бежал с поля брани, и как адъютанты нашли его, рыдающего, в разорванном мундире и с пораненным при падении с коня лицом далеко в тылу.
Это было известно не только ему самому, это было широко известно в обществе, и недаром впоследствии Александр Сергеевич Пушкин, который «подсвистывал ему до гроба», хоть и мнимого, написал...
Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Аустерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал…
В 1807 году до священной памяти Двенадцатого года было ещё далеко, но Императору было немало причин дрожать на протяжении всех лет, начиная с той страшной ночи с 11 на 12 марта, и вплоть до событий, последовавших за Тильзитским мирным договором.
Возмущённое его поведением русское общество не ведало, кто он на самом деле. Трудно представить себе, как бы развернулись события, если бы это стало известно.
Одним из первых, если не первым, просил руки Екатерины Павловны Император Наполеон. Окончательно решив развестись с Жозефиной, он сразу определил, что выгоднее всего ему породниться с Россией.
Разговоры о сватовстве начались ещё во время мирных переговоров в Тильзите. Но они представляли собой разве что разведку боем.
Ну а потом было у Екатерины Павловны «златое лето», сменившееся «златой осенью» с Багратионом. И вдруг в 1808 году сватовство нависло над ней уже со всею серьёзностью. В Санкт-Петербург приехали сваты из Парижа.
Император не слишком радовался этому событию, поскольку сватовство с Наполеоном, с которым они всего лишь год назад вели мирные переговоры, заключились Тильзитский мир, ставило его в весьма сложное положение. Они клялись в вечной дружбе, назывались братьями, но брататься с Бонапартом Александр не мог. Не потому что этого, скорее всего, и не хотел. И не только потому, что Аустерлицкий позор Александра навсегда разрубил возможность искренней дружбы. Он за год, прошедший с заключения мирного договора, успел убедиться в неприятии обществом политики сближения с Францией.
На первый взгляд может показаться непонятным, почему это на рубеже веков русско-французский союз был благом для России, а в 1807 стал позором. Сближение с Францией при Павле Первом происходило на фоне предательства союзниками русских интересов. В 1807 году союзники вели себя нисколько не лучше. Но тогда союз был бы почти равным, со значительным приоритетом России, поскольку Суворов в двух своих знаменитых походах разбил всех без исключения французских полководцев. А неудачи русских войск в Швейцарии не имели серьёзного значения. Теперь всё было с точностью до наоборот. Союз устанавливался на фоне Аустерлица и Фридланда.
Так может быть брачный союз Наполеона и великой княгини Екатерины Павловны мог поправить дело?
Тем не менее, и Александр в глубине души не хотел его, хотя и ссылался на то, что окончательное слово должно быть за Марией Фёдоровной.
Она же прямо заявила в письме Александру:
«…Вы знаете, что счастье, радость и спокойствие моей жизни зависят от присутствия Като. Она мое дитя, мой друг, моя подруга, отрада моих дней: мое личное счастье рушится, если она уйдёт от меня, но так как она думает, что найдёт счастье своё в этом браке, и так как я надеюсь тоже на это, я забываю себя и думаю только о Като».
Конечно, она понимала, что замужество неизбежно, а потому высказала такие свои мысли по этому поводу: «Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, надо только, чтобы её супруг имел сердечные качества»,
Наполеон сердечных качеств не имел, как теперь говорят, по определению. Откуда они у корсиканского чудовища? Честь и славу у него отождествлялись с грабежом и разбоем.В своём приказе войскам перед походом в Италию он провозгласил: «Я вас поведу в самые плодородные долины мира, богатые провинции, большие города будут в вашей власти, вы там найдёте честь, славу, богатство».
Мария Фёдоровна пришла в ужас от одного только известия о сватовстве корсиканского чудовища к Екатерине Павловне. Ну а сама Катиш ответила категорично: «Я скорее выйду замуж за последнего русского истопника, чем за этого безродного тирана – корсиканца».
Мария Фёдоровна тоже считала Наполеона исчадием зла. Ну а Катиш просто презирала его, называя безродным тираном и корсиканским чудовищем.
Конечно, пропаганда делала своё дело. Из Бонапарта лепили великого, но действовали сказки только на широкие круги обывателей. И Марии Фёдоровне, и Екатерине Павловне, да и, конечно, Императору было известно истинное лицо этого узурпатора. Пора, вкратце, поведать его истории…
Прежде всего, сразу отмечу, обращаясь к наполеонолюбцам, коих, увы, у нас немало, что не я нарёк «корсиканское чудовище» замухрышкой. Так его назвали французские генералы Ожеро, Массена и Серюрье. А за какие «подвиги», расскажу далее. Ну а теперь о том, с чего начались сказки и о том, кого впоследствии сами же его соотечественники назвали «французским Гитлером»
Наверное, многие слышали сказки про Тулон, про тулонский мост, про подвиг молодого Бонапарта.
Суть сказки такова: сражаясь на стороне якобинцев, Наполеон отличился в бою за Тулон, за что получил чин бригадного генерала в 24 года. И вот, несмотря на то, что тулонский «подвиг» давно уже оспорен историками, богоборцы-наполеонолюбцы продолжают им восхищаться. Пора взглянуть на сии деяния объективно, на основании документов той грозной и кровавой эпохи.
Невероятный взлёт после Тулона. В чем причина? За что такие почести? А очень просто – тёмные силы избрали Наполеона в исполнители своей воли, а потому началось накачивание его авторитета.
Была сочинена версия, что «генеральный план» атаки форта Эгийетт, господствующий над рейдом Тулона, принадлежит именно Наполеону. Однако письмо самого Бонапарта, отправленное из Тулона, свидетельствует об ином.
Наполеон писал:
«Граждане представители! С поля славы, хотя в крови и в крови изменников, возвещаю вам с радостью, что Франция отмщена. Ни возраст, ни пол не находили пощады. Те, которые были только ранены пушками революции, умерщвлены мечом вольности и штыком равенства. Поклон и почтение. Брут Бонапарт, гражданин Санкюлот».
Вот в чём, на самом деле заключался лозунг о равенстве, вольности и братстве, пропагандируемый якобинцами. Он означал равенство всех, кроме шайки революционеров. То есть равенство всех перед пушками и штыками этих самых революционеров.
Это страшное донесение Наполеон написал прямо на банкете, состоявшемся по случаю победы над тулонскими безоружными рабочими, которых сначала заманили на Марсово поле под предлогом переписи на работу, а затем перестреляли и перекололи. Три тысячи безвинных жертв на совести «гения» и «благодетеля», коим привыкли выставлять Наполеона не только зарубежные, но и некоторые российские историки, принадлежащие к так называемому ордену русской интеллигенции.
Огюстен Робеспьер, брат кровавого Робеспьера, палача Франции, восхищался жестокостью Наполеона. Он был рядом с палачом, истребившим около трёх тысяч тулонцев. Его восторженное донесение в Париж и принесло чин бригадного генерала будущему тирану Европы.
Благодаря лжеисторикам Наполеон не стал именоваться кровавым, а людьми безграмотными почитается гением. В то время как Николай Второй, неповинный ни в событиях кровавого воскресенья, ни в Ленском расстреле, проводниками кулачного права, проводимого под видом «диктатуры пролетариата» был бессовестно именован кровавым. Между тем кумир этих проводников кулачного права Троцкий организовал в Крыму свой Тулон после разгрома Врангеля, когда были выявлены и собраны русские офицеры, поверившие Советскому правительству и оставшиеся в России, и умерщвлены многими и многими десятками тысяч самым жестоким образом. Ледоруб, опустившийся на голову Троцкого, когда пришло время, стал заслуженным ответом Провидения на его жестокие деяния и изуверства.
После «удачного» тулонского взлёта Наполеона ожидали серьёзные неприятности. Революция, замешанная на подлости и бесчестье, споткнулась. Якобинцев свергли так называемые термидорианцы. А, как известно, революционеры разных кланов всегда жестоко пожирали друг друга.
Бонапарт оказался за решёткой вместе с его не в меру распоясавшейся шайкой убийц. И тогда он, не задумываясь, предложил свои услуги термидорианцам. Им нужны были люди, на штыках которых можно было удержаться во власти. Наполеону предложили пост командира бригады, но «молодому дарованию» этого показалось мало. Он начал конфликтовать с командованием, требуя более высокой должности, за что был уволен. Но ведь не казнён! Предательские и зачастую лживые показания на бывших соратников спасли жизнь. Бонапарт возвратился к коммерческой деятельности, торговал домами. Дело шло из рук вон плохо, и достаток его был невелик.
Между тем, начался новый виток борьбы за власть в истерзанной революционными бесчинствами Франции. Директория вынуждена была отстаивать свою власть. Против неё выступали так называемые роялисты, сумевшие взбунтовать парижан и призвать их к оружию. Так уж всегда случалось, что простые люди, легко обманываемые «борцами за свободу и равенство», натыкались на орудие той самой свободы – беспощадный революционный штык.
Узнав о готовящемся восстании роялистов, термидорианцы наделили чрезвычайными полномочиями некоего Барраса, участника кровавой резни в Тулоне. Тот сразу вспомнил о 24-летнем Бонапарте, таком же изменнике и садисте, как и он сам. Баррас сдружился с ним. Бонапарт даже успел оказать ему услугу: Баррас сбагрил молодому, но весьма уродливому коротышке-Бонапарту опостылевшую любовницу – вдову казнённого якобинцами генерала Богарне.
Это была дама уже не первой свежести, причём, старше Наполеона на шесть лет. Полное имя её Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери или Роз. Наполеону трудно было запомнить весь этот длинный словесный ряд, напоминающий отдельные клички, и он стал звать её Жозефиной. Родом она была с небольшого острова Мартиника, о котором в начале ХХ века была сложена легенда о гибели всего живого на острове, которая… является тщательно скрываемой правдой. Впоследствии, когда Наполеон провозгласил себя императором Франции, она стала рассказывать, будто в детстве гадалка напророчила ей высокое положение, которое «выше, чем королева».
Первый раз она вышла замуж ещё в 1779 году за виконта Александра де Богарне. Было ей тогда всего шестнадцать лет. От Багарне она родила сына и дочь. Сын знаменит тем, что участвуя в нашествии на Россию, после Бородинского сражения занял Сторожевский монастырь, где ночью явился ему святой преподобный Савва Сторожевский и потребовал, чтобы всё награбленное было немедленно возвращено монастырю. Савва Сторожевский обещал, что если это его повеление будет исполнено, Евгений Богарне вернётся живым из России, умрёт своей смертью, а потомки его в грядущем посетят Москву и побывают в монастыре. Богарне приказал немедленно возвратить монастырю всё, что было оттуда украдено, и выставил караулы. Пророчество исполнилось…
Детей Жозефина воспитывала одна, потому что уже через шесть лет после замужества развелась с мужем.
Но когда в 1789 году началась революция, и Александр Богарне сделался депутатом Генеральных штатов, Жозефина использовала высокое положение бывшего супруга и вернулась в высший свет.
Александр Богарне был, быть может, единственным нормальным политиком из оголтелой революционной банды. Он выступал против репрессий королевской семьи, поддерживал третье сословие, сражался с интервентами, пытавшимися возвратить королевскую власть во Франции.
В 1794 году генерал Богарне стал командующим Рейнской армией, но вскоре началось изгнание из армии дворян, и он поспешил уйти в отставку. Это не спасло. Закончилось всё доносом, арестом и гильотиной. Приговорили в смертной казни и Жозефину. Но тут случился новый переворот, и казнены уже были Робеспьер и его маниакальные сообщники.
Тут-то и стала Жозефина любовницей Барраса. Словом, у возрождающегося французского трона любовных драм и приключений было предостаточно.
Знакомство с Бонапартом произошло в 1795 году. Тогда-то Баррас и смог избавиться от своей не в меру расточительной любовницы, которая была ему уже в тягость. В марте Наполеон, взвесивший все выгоды от возможного брака с Жозефиной, сделал ей предложение, и после бракосочетания усыновил её детей. Всё это избавило Барраса от неприятностей, которые уже назревали из-за этой связи. За столь деликатную услугу Бонапарт был вознаграждён чином командующего войсками, призванными в Париж для подавления восстания рабочих.
В своих воспоминаниях, которые он писал в ссылке, Наполеон отметил:
«Моя женитьба на мадам де Богарне позволила мне установить контакт с целой партией, необходимой для установления «национального единения» – одного из принципиальных и чрезвычайно важных пунктов моей администрации. Без моей жены я не мог бы достичь взаимопонимания с этой партией».
Очередным шагом по карьерной лестнице было назначение на подавление восстания в Париже.
Ничего святого в этом человеке не было – лишь ожесточённое желание убивать. Он продумал всё с жестокостью и коварством. Заранее расставил на улицах Парижа пушки и замаскировал их до времени. А когда горожане, рабочие, ремесленники вышли на улицы, расстрелял их в упор. Реки крови текли по узким Парижским улицам, по которым обычно в восемнадцатом веке ещё текли другие ручейки от опрокидываемых в окна ночных ваз. У просвещённой Европы в ту пору туалетов ещё не было – не изобрели..
Жестокость Бонапарта потрясла Европу. Огнём в упор он превратил в кровавое месиво тысячи парижан, обманутых сначала якобинцами, затем термидорианцами, а теперь и роялистами.
Директория не скупилась на награды. Бонапарт получил солидное денежное вознаграждение, но пока ещё не разбогател, а лишь ещё более распалил свою алчность. Уже тогда он понял, что состояние легче нажить, ограбив не свой, а какой-то другой народ, ибо народ Франции был уже ограблен шайками революционеров, сменявшими одна другую.
Стало быть, нажиться можно лишь путём агрессии. Осталось только убедить в том своих покровителей. Помогла сожительница, та самая, бывшая любовница Барраса Жозефина Богарне, тоже не отличавшаяся высокой нравственностью. Она попросила Барраса назначить Бонапарта командующим Итальянской армией.
И вот 12 марта 1796 года будущий миллионер отправился в путь за первыми серьёзными капиталами. Тогда же Екатерина Великая обратила серьёзное внимание на новоявленного грабителя и убийцу.
Весьма характерен первый приказ Наполеона по армии. Принципов, изложенных в нём, Наполеон затем придерживался всю свою жизнь.
«Я вас поведу в самые плодородные на свете равнины! В вашей власти будут богатые провинции, большие города! Вы там найдёте честь, славу и богатство!»
Наполеон отождествлял такие несопоставимые понятия как честь и богатство. Ведь богатство можно было «найти» лишь одним путём – путём мародерства. Грабежи поощрялись в армии – вот одна из причин её быстрого развала и деморализации после Бородинского сражения.
Но пока был успех, была и дисциплина. В походе в «богатые провинции» Италии, Наполеон разбил сначала сардинцев, затем австрийцев, пленил войска папы римского и приступил к главному своему делу – обложил все захваченные «большие города» контрибуцией, значительную часть которой забрал лично себе. Впрочем, контрибуция была столь велика, что поправила финансовое положение Франции и укрепила влияние Наполеона в правительстве, где, естественно, закрыли глаза на то, что сам он сказочно разбогател. Ну а как иначе… Не было у правительства ограбленной им же Франции ни гроша, а вдруг – алтын…
Далее начались грабежи музеев. А грабить было что: шедевры искусства, драгоценности, старинные книги… куда всё это подевалось? Кому досталось? Сначала всё бесследно исчезло, но потом, постепенно, стало всплывать в богатейших домах французских толстосумов.
Вот один только факт…
До начала кампании Наполеон был небогат, а вернувшись во Францию после похода, разместил в банках баснословные средства. В 1799 году у него было в различных банках на счетах 30 миллионов франков – сумма баснословная. Вот таков революционер…
Награбленные миллионы ещё более сблизили его с крупной буржуазией, которая уже имела значительное влияние в Директории, но пока не обладала всей полнотой власти. Впрочем, разногласия ещё не были принципиальными. В главном буржуазия Франции была едина. На первый план выдвинулась борьба с крупными соперниками на международном рынке и, прежде всего, с Англией. В Италии, куда Жозефина выехала в сопровождении адъютанта Наполеона и своего любовника, измена открылась.
Наполеон простил жену, потому что важнее было делать карьеру. Измены продолжались, однако безродный коротышка вынужден был их прощать. Единственным утешением для него было то, что и он завёл
Двадцатилетнюю любовницу Маргариту-Полину Бель-Иль, которая была женой офицеры его армии. Лиха беда начало. Неверность жены подтолкнула к постоянным любовным связям.
А вот теперь представим, каково было бы Екатерине Павловне, если бы она вышла замуж за Наполеона? Её цельная натура, чувство собственного достоинство, её принципиальность не позволили бы мириться, не только с циничностью, лицемерием и алчностью мужа, но и с его неверностью. Позже мы ещё коснёмся её отношения к этому важному семейному вопросу.
Ну а цинизм Наполеона не только ей, многим бы в России мог показаться чем-то отвратительным. В России измены не прощались. Они обычно заканчивались в лучшем случае разводами, в худшем – дуэлями, хотя и после наказания совратителя развод был неминуем.
Конечно, залётные инородцы вносили некоторые европейские принципы в этот вопрос, но делали это именно те, кто явился Россию «на ловлю счастья и чинов». К примеру, «остзейское чудовище» Беннигсен, которому, по отзыву современников, просто нельзя было изменять – настолько он был отвратителен, – узнав о том, что четвёртая жена – первые три просто сбежали – наставила ему рога с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, просто «невзлюбил Кутузова», ну и отомстил в канун Бородинского сражения. Он помешал полнейшему разгрому наполеоновской «великой» банды, выведя из Утицкого леса скрытый там резерв, который был предназначен для «гибельного» удара по французам, когда они увязнут на Семёновских (Багратионовых) флешах. Я взял в кавычки словом «гибельного», потому что это определение принадлежит талантливому французскому полководцу и военачальнику маршалу Бертье, виновнику всех побед «безродного корсиканца». Бертье признал, что появление к концу боя за Семёновские флеши «скрытого отряда, по плану Кутузова, на фланге и в тылу», было бы «для французов гибельно».
Чтобы лучше понять подлость Беннигсена, конечно, не только по отношению к Кутузову, но и к приютившей и вскормившей это чудовище России, представьте себе, как могла окончиться Куликовская битва, если бы нашёлся в окружении Дмитрия Иоанновича вот этакий предатель, который заранее бы вывел из Дубравы засадный полк?
Так кто же он, «безродный» женишок, получивший от ворот поворот?
Несмотря на столь желанное для французов дозволение грабить, не все офицеры Итальянской армии заметили появление парижского генерала. Боевые командиры считали его выскочкой, поскольку сразу определили, что в военном деле он полнейший профан. Конечно, расставить пушки на узких парижских улицах, что бы превратить в кровавое месиво тысячи парижан, он сумел. А вот как воевать с вооруженным противником, не ведал. Ну а такое неведение закалённые в боях воины сразу подмечают.
Неопрятный, обтрёпанный, пузатый и коротконогий человечек не мог не вызывать отвращения у истых военных. Генералы Ожеро, Массена и Серюрье наградили Наполеона кличкой «замухрышка», которая приклеилась надолго. Да и как иначе было назвать угреватого, уродливого мужчинку, начинавшего свою командную деятельность на высоком посту с необыкновенным апломбом, да ещё неспособного удержать собственную супругу от любовных похождений. Была и приставка к кличке «замухрышка-рогоносец».
Но вот что удивительно! Едва начались боевые действия Итальянской армии, как вся Европа услышала о блистательных её победах. Откуда же мог взяться военный талант у 27-летнего генерала, продемонстрировавшего пока лишь умение расстреливать безоружных горожан?
На этот вопрос чётко и аргументированно отвечает русский историк Вячеслав Сергеевич Лопатин. Среди тонн лживых реляций, хранящихся в архивах, он разглядел свидетельства о том, кто принёс победы, записанные на Наполеона:
«Историки почти не упоминают, что вместе с Бонапартом в главную квартиру армии в Ницце прибыл человек, которого хорошо знали в военных кругах и особенно в Итальянской армии. Восемнадцать месяцев он готовил армию к походу и разрабатывал планы кампаний. Один из этих планов лёг в основу похода 1796 года, другой – прорыв через Сен-Бернар – был использован в 1800 году.
Сын военного, служившего при королевском дворе в Версале, блестящий инженер-картограф, участник войны за независимость северо-американских колоний Луи-Александр Бертье накануне революции был тридцатишестилетним полковником королевской армии, кавалером ордена св. Людовика и входил в небольшой корпус офицеров генерального штаба, созданного незадолго до того.
В бурные революционные годы Бертье служил начальником штаба у Лафайета и Ликнера, у якобинских генералов-комиссаров Ронсена и Россиньюля, у Келлермана и Шеррера. Известный своими роялистскими симпатиями, он чудом уцелел в годы террора, хотя ему пришлось покинуть армию уже в чине бригадного генерала.
Некоторые его начальники погибли на гильотине, другие были репрессированы, но все они оставили восторженные отзывы о выдающихся талантах Бертье.
Замечательно, что Карно, подписывая приказ о назначении Бонапарта командующим Итальянской армией, тем же числом – 2 марта – пометил приказ о назначении начальником штаба этой армии Бертье. Руководитель Директории, ответственный за ведение войны, не мог доверить столь важный пост никому не известному Бонапарту, ставленнику Барраса, не подкрепив его профессиональным военным высшей пробы».
Есть старинная пословица – «на воре и шапка горит». Безусловно, Наполеон знал, что в Италии в 1796 году он ещё не пользовался авторитетом. Подчинённые ему командиры понимали, кто на самом деле руководит боевыми действиями и является автором всех побед. Они видели, пишет В.С. Лопатин, в 43-летнем начальнике штаба дядьку при 27-летнем командующем.
Что же касается пропагандистской шумихи, то она, как и обычно, ничего общего с правдой не имела. В своё время также молодая советская революционная, а, стало быть, лживая печать умилялась от восторга, повествуя о юном военном даровании Якире, происходившем не из военной, а из аптекарьской среды. Юнец бил опытных генералов белой армии. И никто не упоминал о подобных Бертье дядьках при командующих типа Уборевича, Якира, Тухачевсого. Тухачевский хоть образование военное получил, а остальные до назначения на высокие посты вообще к армии никакого отношения не имели. Предав самодержавие, якобы, ради светлого будущего, Тухачевский с особым садизмом расправлялся с Тамбовскими крестьянами, подобно тому, как Бонапарт с Тулонскими рабочими. Именно Тухачевский, Антонов-Овсеенко и иже с ними изобрели концентрационные лагеря, которые потом чудодейственным образом стали называться Сталинскими, хотя он к ним никакого отношения не имел.
И Наполеон, и Тухачевский не знали милосердия. Оба были жестоки, и к женщинами, и к детям, и к пожилым людям. За свои кровавые действия Тухачевский, как и Наполеон, был вознесён высоко, но закончил свой путь, как участник военного заговора. Кстати, его называли «красным наполеончиком».
Интересный факт приводит В.С. Лопатин о мнимом авторитете Наполеона:
«Если верить рассказам Наполеона, то ветераны Итальянской армии долгое время даже не подозревали о наличии в их рядах столь выдающегося предводителя.
В сентябре 1796 года французская армия форсировала ущелье реки Брента, вспоминает Наполеон, и авангард остановился в селении Чисмоне. Сюда прибыл командующий без свиты. Он изнемогает от голода и переутомления. Но его никто не замечал. Лишь один солдат поделился с ним хлебным пайком. На следующий день армия одержала очередную победу при Бассано. Ну, можно ли вообразить, чтобы Суворов или Кутузов не были узнаны своими солдатами и офицерами? Немыслимо. А вот Бонапарта, уже пять месяцев числящегося командующим армией, никто не знал. Рассказывая удивительную историю, бывший император (он писал воспоминания уже на острове св. Елены) даже не замечал, как он смешон».
Слава Бертье не давала покоя Наполеону. Он пользовался опытом и талантом своего начальника штаба, но не хотел делиться славой. В мемуарах, написанных позже, в изгнании, он так рассказывал об этом поистине талантливом французском полководце, много раз выручавшим его из беды: «Бертье обладал громадной энергией, следовал за командующим во всех разведках и объездах войск, не замедляя этим нисколько своей штабной работы».
В этом своём заявлении Наполеон, сам того не замечая, свидетельствовал о том, что Бертье выполнял роль, и командующего, и начальника штаба.
А далее и вовсе он начал порочить своего благодетеля:
«Характер Бертье имел нерешительный, малопригодный для командования армией, но обладал всеми качествами хорошего начальника штаба… Вначале хотели навлечь немилость командующего, говоря, что Бертье его ментор, что именно он руководит операциями. Это не удалось. Бертье сделал всё, от него зависящее, чтобы прекратить эти слухи, делавшие его смешным».
Впрочем, каждому ясно, что подобные слухи смешным делали вовсе не Бертье, а самого Наполеона, ведь маршалы и генералы прекрасно понимали, что в каждом успехе виден труд начальника штаба и только его одного. Наполеона вполне можно было бы назвать флигель-адъютантом Бертье. Именно такую роль он и исполнял.
В последующих абзацах своих воспоминаний Наполеон сам же себя и опровергает, рассказывая, как Бертье в ответственный момент сражения с успехом заменил командира дивизии, а чуть позже совершил подвиг, о котором Бонапарт донёс Директории: «Я не должен забыть неустрашимость Бертье, который в тот день был и артиллеристом, и кавалеристом, и гренадером».
14 августа 1796 года в представлении к награде Наполеон писал о Бертье: «Таланты, энергия, мужество, характер. Обладает всеми достоинствами».
Одним словом, победы французской армии одерживались не под командованием, а в присутствии Бонапарта. Он же, имея связи в Директории, пользуясь властью, данной ему, приписал их себе. Ну а в случае неудач, он, ловко выкручиваясь, переваливал свою вину на других. И снова на выручку ему приходил Бертье, ставший сначала по поручению Директории, а затем уже по договорённости с сами Наполеоном, его тенью. Именно Бертье подарил «корсиканскому чудовищу» свой талант и своё мастерство, превратив Наполеона в общественном мнении из «замухрышки», коем тот был на самом деле, в великого полководца, кем никогда не был и не мог быть по военной безграмотности и бездарности.
Если бы не Бертье, поход в Египет мог стоить Наполеону не только карьеры, но и жизни. В этой стране, подвластной в то время Турции, Наполеон высадился с армией в 30 тысяч человек. Но поход не удался. В разгар египетского похода русская эскадра адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова при содействии английской эскадры адмирала Нельсона разгромила французский флот в устье Нила, тем самым отрезав армию Наполеона от сообщения с Францией.
Примерно в то же самое время Александр Васильевич Суворов разгромил французские войска в Италии, что в значительной степени ослабило позиции Директории внутри страны. Продолжение похода в Индию становилось бессмысленным. Наполеон понял, что настала пора подумать ему о себе – своей армии, о своих солдатах и офицерах он не думал никогда. Просто умел лицемерно демонстрировать заботу, когда это было необходимо. Но едва лишь речь заходила о его судьбе, о его личной безопасности, он и от показухи отказывался, раскрывая своё истинное лицо.
И вот такая ситуация возникла. В Египте стало небезопасно, да и во Франции всё могло повернуться не так, как бы ему хотелось. Каково же решение? Очень простое – бросить всё и мчаться в Париж.
И он, отбросив стыд и совесть, совершил чудовищный для предводителя армии поступок, в те времена не имевший ещё аналогов в военной истории, за исключением бегства Петра Первого из-под Нарвы. Ну, на то Пётр и был Первым, что б первым совершать преступления.
Пётр, узнав о приближении к Нарве шведского короля с небольшим отрядом, не рискнул с ним сразиться, а бросил осаждавшие крепость войска и бежал, якобы за подкреплениями. Армия погибла почти полностью, потому что вслед за Петром бежали и сорок нанятых им генералов-иноземцев, то есть весь поганый и никчёмный сброд, собранный им на свалках Европы.
Наполеон просто бежал, ничего никому не объясняя, чем обрёк армию на гибель. Ну а в Париж он послал лживое объяснение: «Генерал Бертье, высадившийся 17-го сего месяца во Фрежусе вместе с командующим генералом Бонапартом, генералы Ланн, Мюрат, Мармон, Андреосси, граждане Монж и Бертолле сообщают, что они оставили французскую армию в состоянии, вполне удовлетворительном».
В записке сквозит стремление свалить всю вину на Бертье. Бегство Бонапарта в Париж расценили по-разному. Двое из пяти членом Директории высказались за смертный приговор изменнику и трусу, дезертировавшему с театра военных действий.
Однако, в Директории уже набрала силы крупная буржуазия, к которой был близок Наполеон. Для окончательного захвата власти и свёртывания революции нужен был ещё один переворот, и он состоялся 9 ноября 1799 года.
Большой почитатель Наполеона французский историк Альберт Вандаль, рассказывая о тех днях, неожиданно проговорился:
«Бонапарт на своём вороном горячем коне, с которым ему подчас было трудно справиться, объезжал ряды, бросая солдатам пламенные воодушевляющие слова, требуя от них клятвы в верности, обещая возвратить республике блеск и величие. Оратор он был неважный. Порой он останавливался, не находя слова, но Бертье, всё время державшийся подле него, моментально ловил нить и доканчивал фразу с громовыми раскатами голоса. И солдаты, наэлектризованные видом непобедимого вождя, приходили в восторг».
Интересно было бы знать, кого они в тот момент считали вождём? Бертье или Бонапарта. Скорее всего, конечно, того, кто обладал громовым голосом, командирским голосом, а не блеял, как подлинный «замухрышка».
Между тем, крупная буржуазия планировала переворот и полный захват власти в Директории. Вячеслав Сергеевич Лопатин рассказывает:
«Кульминация труса, как известно, приходится на 19 брюмера. Депутаты, собравшиеся в Сен-Клу, опомнились и решили оказать сопротивление узурпатору. Дело грозило непредсказуемыми последствиями для заговорщиков. И тогда Бонапарт делает попытку лично объясниться с представителями народа. Вспомним, оратор он был неважный. Даже много лет спустя речи императора, которые он читал по бумажке глухим невыразительным голосом с сильным акцентом, производили на слушателей тягостное впечатление. Он не умел говорить на публике. Удивительно ли, что сбивчивые объяснения Бонапарта сначала в Совете Старейшин, а затем в Совете Пятисот резко ухудшили шансы переворота.
Раздались крики: «Долой тирана! Вне закона!»
Бонапарт потерял самообладание и впал в прострацию. Его спас брат – Люсьен Бонапарт, председательствовавший в тот день в Совете Пятисот. Он вызвал солдат, которые выволокли генерала из зала. Бонапарт никого не узнавал. Он даже пытался о чём-то рапортовать одному из зачинщиков переворота – директору Сайесу, назвав этого сугубо штатского человека «генералом».
Только дерзость Люсьена и наглость Мюрата решили исход дела в пользу Бонапарта. Мюрат со своими гренадерами очистил помещение от «народных избранников». Переворот состоялся. Бонапарт вошёл в число трёх консулов, сосредоточивших в своих руках всю полноту власти.
Вскоре с присущим ему коварством он обыграл соперников и сделался Первым Консулом, а вскоре провозгласил себя пожизненным главой государства. Старший брат Люсьен вынужден был уйти в отставку. Диктаторы не любят тех, кому многим обязаны. В новом правительстве Бертье получил пост военного министра.
4 августа 1880 года состоялся Закон Сената о введении пожизненного консульства Наполеона и о совмещении им должности Председателя Сената. А уже 18 мая 1804 года всем революционным преобразованиям Франции был положен конец. Наполеон был провозглашён императором, и папа римский Пий VII, войска которого ещё недавно пленил Бонапарт, приехал из Рима и короновал нового императора под именем Наполеона Первого. Католическая церковь, по всей вероятности, ничего не знала о Заповедях, данных Создателем Моисею, потому и благословляла то ливонских, то тевтонских, то шведских серийных убийц, именуемых крестоносцами, изуверствовавших на захватываемых ими землях. С лёгкостью она благословила и ещё одного Чикатило тех времён, уже показавшего свою патологическую жестокость.
Кто-то хочет возразить? Так вспомним хотя бы о том, как по приказу Бонапарта изуверски кололи штыками рабочих, стариков, женщин, малых детей в Тулоне, или как по его же «гениальному плану операции» превратили артиллерийским огнём в кровавое месиво тысячи и тысячи парижан. Тут, говоря извращённым языком демократии, «Чикатило отдыхает».
Так могла ли умная, образованная, хорошо воспитанная красавица Екатерина Павловна пойти замуж за этакое чудовище? Недаром сказала, что лучше пойти замуж за кого угодно, только не за «корсиканское чудовище».
Давая оценку великой княгине, Альберт Манфред в книге «Наполеон Бонапарт» писал:
«Тот же Стединг в мае 1810 года вновь доносил, что великая княгиня Екатерина – «принцесса, обладающая умом и образованием, сочетаемым с весьма решительным характером», крайне настроена против Наполеона и современного положения в России. Он связывал с этим её большое влияние на императорскую семью, и в особенности на великого князя Константина, и объяснял этим же ее популярность в русском обществе.
Битва за Севастополь и Крым
Битва за Севастополь и Крым
Очерк из книги
«Сохранение Крыма, обеспечение Севастополя и флота для нас первейшая важность; если будем так несчастливы, что лишимся их, на долю России ощущать будет этот тяжкий удар. Отвратить его, елико возможно, предмет наиважнейший».
Император Николай I

Важнейшим событием Царствования Императора Николая Павловича была Восточная война 1853 – 1856 годов. Частью её стала операция на Крымском театре военных действий (ТВД), происходившая в ходе Восточной войны в 1854 – 1855 годах. Войной эту операцию назвали потому что на остальных ТВД англичане, французы и турки понесли поражения. Надо же было что-то придумать в противовес, ну и как всегда придумали... Крымская война. Такую войну никто не объявлял - все дипломатические процедуры касались именно Восточной войны 1853-1856 годов. Это то же самое, если бы немцы после своего поражения, взяли бы да написали, что была ведь ещё Крымская война в 1942 году, в которой они одержали победу, взяв Севастополь. Немцы-то Севастополь взяли, а англо-франко-турецкие войска так и не смогли, ограничившись занятием только Южной (Корабельной стороны). Немцы Крым захватили весь, а англичане, французы и турки лишь небольшую часть полуострова. А раструбили о победе в Крымской войне...
Но обо всём по порядку
О причинах её принято говорить так. Между Россией и Францией разгорелся конфликт по вопросу прав Православного духовенства и католиков в Палестине. Речь шла о покровительстве над Святыми местами в Иерусалиме, связанными с земной жизнью Христа. Турецкий султан решил вопрос в пользу Франции. Император Николай I направил в Константинополь представительное посольство, но султан и после этого не отказался от своего решения. Россия сделала ещё более резкие заявления, вступаясь за попранные права Православия. В ответ на это английская и французская эскадры вошли в проливы, явно оказывая покровительство Турции и угрожая России. Русские войска вступили на территорию Молдавии. 4 октября 1853 года порта объявила войну России. 18 ноября того же года адмирал Павел Степанович Нахимов наголову разбил турецкий флот, базировавшийся на Синоп. Эта блистательная победа испугала англичан и французов. Англия и Франция выступили на стороне Турции.
Император Николай Первый точно предвидел, где враг нанесёт главный удар. Он заранее предупреждал князя И.Ф. Паскевича:
«Теперь в ожидании, будет ли попытка на Крым; спокоен буду, когда гроза минует».
Спустя некоторое время писал ещё более уверенно: «Очень думаю, что попытка на Крым сбудется».
Князь М.Д. Горчаков, командовавший войсками на юго-западном фронте, перебросил к Перекопу 16-ю дивизию. Государь по этому поводу писал ему:
«Нельзя благоразумнее поступить, ни распорядиться, как ты это сделал. Искренне благодарю тебя».
Паскевичу же написал:
«Сохранение Крыма, обеспечение Севастополя и флота для нас первейшая важность; если будем так несчастливы, что лишимся их, на долю России ощущать будет этот тяжкий удар. Отвратить его, елико возможно, предмет наиважнейший».
Однако А.С. Меншиков, Главнокомандующий войсками в Крыму, давно уже только создавал видимость службы России. В период царствования Императора Александра I он был ярым врагом А.А. Аракчеева, отстаивавшего Русские интересы в трудное время либеральных вихляний Благословенного. Удержался у власти и при Николае Первом, супруга которого не случайно писала:
«Я чувствую, что все, кто окружают моего мужа, неискренни, и никто не исполняет своего долга ради долга и ради России. Все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются».
Меншиков не только не принял заранее никаких мер для обороны побережья, но даже не препятствовал высадке соединённых сил Англии, Франции и Османской империи. Десантная операция началась 2 (14) сентября 1854 года и продолжалась почти пять суток. 300 транспортных судов высадили за это время 62 тысячи человек и 112 орудий. Обеспечивали высадку 89 боевых кораблей. В городе, как и обычно, при агрессии шакальих стай Англии, Франции и Турции, началась кровавая вакханалия. Солдаты и офицеры врывались в дома, грабили, убивали, поднимали на штыки и бросали в печи младенцев, насиловали женщин на глазах мужей и девушек на глазах отцов и матерей. Стон стоял над небольшим курортным городком, когда вошли в него шакальи стаи «просвещённой Европы». Насытившись горем Русских людей, союзники пополнили свои продовольственные припасы, умышленно не вывезенные из города тайно поддерживающим врага масоном Меншиковым, и начали робкое, несмотря на огромные силы, продвижение вглубь полуострова Крым.
Государь не ожидал предательства, хотя и говаривал не раз:
«Если честный человек честно ведёт дело с мошенником, он всегда останется обманутым».
Николай I не знал, что старый масон Меншиков не кто иной, как надменный потомок «известной подлостью прославленных отцов», что он давно уже действовал в пользу Наполеона (племянника, разгромленного Россией в Двенадцатом году дядюшки), действовал против Отечества, хотя, конечно, вряд ли он считал Россию своим Отечеством.
В.Ф. Иванов в книге «Русская интеллигенция и масонства от Петра I до наших дней» писал, что предательство масона Меншикова «доказывается следующими фактами», и привёл эти факты, которые как-то прежде «случайно» не попадали в историческую литературу. Их умышленно скрывали историки, продавшиеся ордену русской интеллигенции.
Вот они, эти факты: князь Меншиков не мог не знать, что Евпатория могла быть одним из пунктов неприятельского вторжения, тем не менее, как мы уже упомянули, никаких мер к охране берега в этих местах не принял. Из города не были даже увезены 160 тысяч четвертей пшеницы, которая немедленно досталась в руки неприятелю и сразу же обеспечила его продовольствием на четыре месяца. Во время высадки всё время лил проливной дождь, доставлявший много мучений высаживающимся налегке войскам, причём англичане первое время не имели палаток. Русская армия не подавала никаких признаков существования. Союзные войска высадились беспрепятственно. Десантная операция, которая, по мнению специалистов, представляет всегда большие трудности, превратилась в лёгкую прогулку.
Князь Меншиков сосредоточил свои войска на давно избранной им позиции по дороге из Евпатории в Севастополь – на высоком левом берегу речки Альмы. Никаких мер к укреплению на выгодной для Русской армии позиции главнокомандующий не предпринял. Наиболее важный пункт позиции – высоты на левом фланге, командовавшие над всем нашим расположением, – совсем не были прикрыты: они спускались к реке крутыми обрывами, которые заранее были признаны совершенно неприступными. По мнению военных специалистов, достаточно было двух рот стрелков и несколько орудий, чтобы задержать здесь целую армию. Но когда крайний правый фланг французов, перейдя в этом месте реку, стал карабкаться по откосу, он не встретил ни одного Русского солдата на своём пути.
Французский генерал Боске был приведён этим в крайнее удивление: «Эти господа решительно не хотят драться!» – сказал он, обращаясь к своему штабу. Дорога союзникам к Севастополю, таким образом, была открыта. Князь Меншиков совершил своё знаменитое «фланговое движение», то есть, попросту говоря, отвёл свою армию в сторону, к Бахчисараю. Крепость и Черноморский флот были брошены на произвол судьбы. Таковы факты, приведённые в книге В.Ф. Ивановым. Конечно, предательство не осталось незамеченным, но, как обычно, измену списали на бездарность. Между тем, более подлого человека, чем Меншиков, в тот момент в Крыму трудно было сыскать. Обеспокоенный тем, что Севастополь остался открытым для удара врага, контр-адмирал Корнилов спросил у Меншикова, что ему делать с флотом. Меншиков заявил адмиралу с издёвкой: «Положите его себе в карман!»
В Петербург же Меншиков доложил о трудности действий в Крыму, расписал свои личные подвиги, коих и в помине не было. Государь, снова обманутый мошенником, узнав о поражении под Альмой, писал 17 сентября Горчакову: «Буди воля Божия, роптать не буду и покоряюсь святой Его воле…». Мало того, он 27 сентября написал Меншикову: «Благодарю всех за усердие, скажи нашим молодцам-морякам, что я на них надеюсь на суше, как и на море. Никому не унывать, надеяться на милосердие Божие, помнить, что мы, Русские, защищаем родной край и веру нашу, и предаться с покорностью воле Божией! Да хранит тебя и нас всех Господь; молитвы мои – за вас и за ваше правое дело, а душа и все мысли – с вами!»
30 сентября Государь вновь обращался к войскам: «Не унывать никому, повторяю я, доказать каждому, что мы те же Русские, которые отстояли Россию в 1812 году».
Союзники, однако, не решились наступать на город с севера, поскольку в этом случае на их фланги и тыл могли воздействовать основные силы Русских войск. Они предприняли глубокий обход и через Инкерман подошли к городу с юга. Англичане заняли Балаклаву, а французы Камышёвую бухту.
13 (25) сентября 1854 года в Севастополе было объявлено осадное положение. Этот день считается началом 349 дневной героической обороны города. Против Русского гарнизона Севастополя, насчитывающего 18 тысяч солдат и матросов, союзники сосредоточили 60 тысяч человек. Общая же численность войск союзников в Крыму была доведена до 120 тысяч.
Севастополь был подготовлен к обороне со стороны моря. Его прикрывали 13 береговых батарей. Но союзники уже имели на вооружение паровые корабли, которым было легче маневрировать под огнём. Опасаясь их прорыва на внутренний рейд, в результате чего гарнизон оказался бы полностью отрезанным, командованием было принято решение перегородить вход в бухту. С этой целью были затоплены 5 из 14 парусных линейных кораблей и 2 из 7 парусных фрегатов. Остальные корабли принимали участие в обороне своими орудиями.
Французский главнокомандующий, узнав о затоплении флота, вспомнил 1812 год и воскликнул: «Это начало Москвы!» Интересно, вспомнил ли он, чем окончилось вступление Наполеона в Москву? А, может быть, это восклицание было вовсе и не восторженным, может быть, от величия Русского духа мороз пробежал по коже?
Государь, правильно оценив, что судьба войны теперь решается в Крыму и не просто в Крыму, а именно в Севастополе, отправил в эту славную Русскую твердыню своих младших сыновей Николая и Михаила. Великий Князь Николай Николаевич по прибытии в Севастополь обнял знаменитого Тотлебена, руководившего инженерными работами и сказал: «Государь приказал мне вас поцеловать!».
Вести из Крыма были неутешительными. Меншиков ещё раз подыграл союзникам, теперь уже в Инкерманском бою. 31 октября Государь писал: «Не унывать… Скажите вновь всем, что я ими доволен и благодарю за прямой Русский дух, который, надеюсь, никогда в них не изменится. Пасть с честью, но не сдаваться и не бросать…» А 23 ноября он признавался в письме: «Хотелось бы к вам лететь и делить участь общую, а не здесь томиться беспрестанными тревогами всех родов».
Государь всё ещё верил в порядочность тех, кому доверена судьба России. Доверчивость подводила уже не раз. Именно доверие к Меншикову привело к тому, что Севастополь – главная база Черноморского флота – остался без должного прикрытия. С сухопутной стороны по существу имелось лишь одно устаревшее укрепление. Новые же укрепления только начали строить незадолго до войны. Город оказался в критическом положении. Однако, союзники некоторое время медлили и не решались сразу начать штурм.
Между тем начальником обороны города 8 (20) сентября был назначен контр-адмирал В.А. Корнилов, а начальником обороны Малахова кургана – контр-адмирал В.И. Истомин. Эскадрой командовал вице-адмирал П.С. Нахимов. Они начали деятельную подготовку к обороне города и с помощью населения сумели в кратчайшие сроки создать по чертежам Государя семикилометровый оборонительный рубеж с восемью бастионами и промежуточными укреплениями.
Н.Д. Тальберг привёл в своей книге «Русская быль» намеренно забытые факты, касающиеся деятельности Императора Николая I в то нелёгкое для России время:
«Государь все силы отдавал борьбе с врагами. Известные историки признают правильность советов и приказаний, которые он давал Паскевичу, адмиралу князю Меншикову, князю Горчакову и другим».
А П. Бартенев, издатель «Русского Архива», отметил: «Знаменитые редуты, давшие возможность Севастополю так долго сопротивляться, возведены не только по указаниям Государя, но по его собственным чертежам». Вспомним, какую любовь питал Николай Павлович к инженерному делу, сколько он полезного сделал для совершенствования этого дела. Недаром Н.Д. Шильдер назвал его творцом самостоятельного развития русского Инженерного корпуса.
Интересно, что со знаменитым Эдуардом Ивановичем Тотлебеном, руководившим инженерными работами в Севастополе, Император познакомился летом 1853 года, когда тот был ещё капитаном. Случилось это в лагере под Петергофом при весьма пикантных обстоятельствах.
Н.Д. Тальберг рассказал об этом:
«Тотлебен руководил практическими работами. Государь нередко посещал лагерь своих гвардейских сапёров и следил за ходом занятий. Однажды он давал указания, каким образом нужно продолжать занятие атакованного наружного укрепления крепостного форта. Тотлебен, не смущаясь, не согласился с высказанным им, и объяснил, как он намерен решить рассматриваемый вопрос. Присутствовавшие были поражены его смелостью, Государь же внимательно выслушал и согласился с ним».
Император не терпел лесть и подобострастие. Он уважал тех, кто мог смело высказывать своё мнение в его присутствии, даже если оно не совпадало с Государевым, но могло способствовать лучшему решению того или иного дела.
В начале 1854 года граф Тотлебен был направлен в главную квартиру Дунайской армии, где служил порученцем генерал-адъютанта Шильдера. Когда Шильдер выбыл из строя по ранению, Тотлебену было поручено заведовать всеми инженерными работами. Затем был переведён в Севастополь, где назревали серьёзные боевые дела.
5 (17) октября 1854 года началась первая бомбардировка Севастополя. С моря огонь по городу открыли 1340 корабельных орудий, с сухопутного направления – 120 орудий. Противостояли им всего 268 орудий. Численное превосходство врага было подавляющим.
Тем не менее, расчеты союзников на то, что им удастся произвести артиллерийскую подготовку штурма, провалились. Русские артиллеристы отвечали редко, да метко. Многие вражеские корабли получили серьёзные повреждения и отошли на расстояние, которое не позволяло им вести эффективный огонь. Не справились с задачей и артиллеристы сухопутных войск. Командование союзников не решилось отдать приказ на штурм.
Но что же делали наши сухопутные войска под командованием Меншикова? Они особой активности не проявляли и в боевое соприкосновение с союзниками не вступали, однако приблизились к Севастополю и заняли позиции на Мекензиевых высотах. Лишь 13 (25) октября Меншиков, получив подкрепления из России, принял решение атаковать передовые части англичан в Балаклавской долине. Благодаря мужеству и отваге Русских солдат и офицеров, удалось захватить часть вражеских редутов и разгромить английскую кавалерию. Эта победа заставила союзников снова отказаться от штурма города. Однако, Меншиков действовал нерешительно, а победа без развития успеха серьёзного значения иметь не могла. В результате противник взял реванш 24 октября (5 ноября) в Инкерманском сражении. Союзники, в свою очередь, тоже не решились развить успех, прочувствовав на себе мужество, отвагу и стойкость русских воинов. На штурм они не отважились и приступили к длительной осаде. Дипломаты же попытались, опираясь на то, что войска союзников оккупировали часть Крыма и осаждали Севастополь, решить политические задачи путём переговоров. Успехи дальнейших действий казались союзникам весьма сомнительными. Они преследовали главную цель – запретить России иметь флот на Чёрном море, лишить протектората над Молдавией и Валахией и доступа к устью Дуная. Рассчитывая, что Россия, внешнеполитическое ведомство которой возглавлял «австрийский министр Русских иностранных дел» Нессельроде, будет покладистой, союзники России 28 декабря 1854 года (9 января 1855 года) созвали конференцию в Вене, в которой приняли участие послы России, Австрии, Франции и Англии. Однако, Россия отвергла наглые притязания союзников. Ведь на Балтике и Белом море, на Дальнем Востоке и в Закавказье Русским войска сопутствовал успех. Да и к началу 1855 года совокупные Русские силы в Крыму превосходили силы союзников, хотя гарнизон Севастополя и был немногочислен.
Понимая, что лучшая помощь Севастополю, оперативные действия армии Меншикова, Император требовал от главнокомандующего активности. И Меншиков действовал, но, как казалось со стороны, нерешительно, а на самом деле просто преступно. К примеру, для наступления на Балаклаву он направил меньшую часть имеющихся у него войск. Несмотря на мужество Русских солдат офицеров, добиться успеха не удалось, ибо противник имел хорошие позиции и численное превосходство. Под Инкерманом Меншиков умудрился потерять 12 тысяч человек, ничего не добившись.
Но сама природа была не на стороне союзников и подыгрывавшего им Меншикова. В.Ф. Иванов писал: «Зима была необыкновенно сурова для Крыма, и союзные войска страдали от холода».
«Морозы губят у неприятеля людей и лошадей», – писал сам князь Меншиков военному министру. В январе, почувствовав, что можно поживиться на чужой счёт, в войну вступило Сардинское королевство, которое всего каких-то полвека назад было спасено Россией от разграбления Наполеоном. У западных политиков память коротка, а чувство элементарной благодарности отсутствует совершенно.
Меншиков показал себя предателем не только тем, что содействовал союзникам в их высадке в Евпатории, не только тем, что обеспечил их продовольствием, намеренно не вывезенным из города, не только тем, что фактически открыл им путь на Севастополь, не подготовленный для обороны с сухопутного направления. Известен и такой факт, описанный в книге
«Россия перед вторым пришествием»:
«С началом боевых действий в Севастополе «служка Серафимов» (служка Святого Преподобного Серафима Саровского – Н.Ш.) Н.А. Мотовилов послал Государю для отправки в действующую армию список с иконы Божией Матери «Умиление», перед которой всю жизнь молился и скончался преподобный Серафим. Уже после войны Н.А. Мотовилов узнал от адмирала П.И. Кислянского, что произошло дальше». «Меншиков-изменьщиков» приказал бросить икону в чулан. Когда же сам Государь поинтересовался, где поставлена икона, её отыскали и поставили на Северной стороне города, которую так и не смогла взять шакалья стая союзников. А когда в Севастополь архиепископом Херсонским Иннокентием была прислана Чудотворная икона Касперовской Божией Матери, князь кощунственно заявил гонцу: «Передай архиепископу, что он напрасно беспокоил Царицу Небесную – мы и без Неё обойдёмся!»
Надо сказать, что это не единственный случай, когда оборотни в погонах проявляли дьявольскую ненависть к Православным святыням. В книге, в частности, рассказывается: «Подобное совершилось и во время Русско-японской войны 1904 – 1905 г.г, когда Порт-Артур так и не увидел на своих стенах посланный его защитникам образ Царицы Небесной «На двух мечах», и во время Первой мировой войны, когда без ведома Государя с фронта была увезена Чудотворная Песчанская икона Божией Матери, доставленная туда по пророческому слову Святителя Иоасафа Белгородского…» А ведь история знает немало примеров, когда Пресвятая Богородица оказывала помощь посредством Своих святых Икон. В «безбожное» время Великой Отечественной войны, когда у руля Державы, именуемой в то время СССР, стоял Сталин, дело обстояло иначе. По Откровению Пресвятой Богородицы, которого был удостоен в молитве Патриарх Антиохийский Александр III, Чудотворную икону Казанской Божией Матери обнесли крестным ходом вокруг Ленинграда, и нога вражеского солдата не ступила в город. Затем молебен, на котором присутствовал Сталин, был совершён перед этой иконой в Москве. В тяжелые месяцы Сталинградской битвы Казанская икона находилась в городе. В критические дни обороны Москвы Сталин посетил прозорливую старицу Матрону Московскую, и та сказала ему: «Красный петух, из Москвы не выезжай! Немцы Москву не возьмут. Россия победит Германию» По-русски петух – Феникс, легендарная птица, возрождающаяся из пепла. В ноябре 1941 года Сталин пригласил к себе в Кремль духовенство для молебна о даровании победы. Тогда Чудотворная икона Тихвинской Божией Матери была «обнесена» на самолете вокруг Москвы. Об этом вспоминал в своих мемуарах знаменитый Голованов, который и выполнил поручение Сталина.
Интересно, что Тихвин был освобождён ещё до общего контрнаступления в ходе частной операции. Сталин, по преданию, услышал Божий глас: «Откроешь Успенский собор во Владимире и после молебна у иконы Владимирской Божией Матери пойдёшь в наступление под Москвой. Откроешь храмы по всей стране – победишь Германию». Сталин немедленно отдал соответствующие указания во Владимир. По всей стране начались молебны, и Сталин сам не раз приезжал молиться в Храм Всех Святых на Соколе, о чём сохранились достоверные свидетельства очевидцев, записанные на киноплёнку.
Некоторые немецкие генералы уже после войны признались: «Русская Мадонна не пустила нас в Москву. Мы видели её в облаках с Ангелами и отступили». Известно, что во время контрнаступления под Москвой Советские войска не имели численного превосходства над врагом, как не имели они его под Севастополем. Но под Севастополем Меншиков не только не служил молебны, но, напротив, самым кощунственным образом обошёлся со святыми образами Царицы Небесной.
А ведь Крымская война была не просто войной. Историк П.В. Безобразов отметил: «Восточный вопрос был причиной последней нашей войны с Францией. Крымская кампания возгорелась из-за вопроса, который многим казался пустым и не стоящим внимания, из-за ключей Вифлеемского храма. Но дело заключалось, конечно, не только в том, кому будет принадлежать Вифлеемская святыня. Император Николай Павлович выступал в роли, какую принимали на себя все Русские Цари, начиная с Иоанна Грозного, в роли покровителя и защитника Православного Востока».
Напомним, что говорил об Императоре Николае Павловиче митрополит Платон (Городецкий, 1803 – 1891), Киевский и Галицкий:
«Я Николая ставлю выше Петра. Для него неизмеримо дороже были Православная вера и священные заветы нашей истории, чем для Петра. Император Николай Павлович всем сердцем был предан всему чистокровному Русскому, и в особенности тому, что стоит во главе и в основе Русского народа и Царства – Православной вере. То был истинный Православный, глубоко верующий Царь».
Но ведь России пришлось отражать нападения алчных животных не только в Крыму. Нам противостояла коалиция с армией, насчитывающей около миллиона звероподобных особей, жаждущих крови и наживы. Русская армия насчитывала около 700 тысяч человек, к тому же она уступала в вооружении и боевой технике. Наши сухопутные части были вооружены в основном кремневыми гладкоствольными ружьями. Дальность стрельбы была значительно меньше, чем у нарезного оружия союзников. А дальность прицельного выстрела, зачастую, решает исход боя, ибо тот, кто имеет вооружение с большей дальностью стрельбы, может просто не подпустить к себе неприятеля, сразив за пределами досягаемости его оружия. К тому же Россия не могла использовать все войска против агрессоров, поскольку не участвовавшие в войне страны Европы поглядывали на атакованную Державу с жадностью гиен и, как свидетельствуют позднее обнародованные факты, подумывали о том, чтобы тоже включиться в бой с раненым Русским медведем, дабы не упустить добычу. Австрия, Пруссия и Швеция были той шакальей стаей, готовой включиться в делёж добычи. И только несомненные успехи Русских на всех остальных театрах военных действий (кроме Крымского) отрезвлял горячие головы. Тем не менее, против этих стран Русскому командованию пришлось держать наготове значительные силы, столь необходимые там, где шли бои.
Не следует забывать, что во главе России стоял профессиональный военный высокой пробы – Государь Император Николай Павлович. Он руководил боевыми действиями войск, решительно и умело организуя их взаимодействие с целью нанесения ударов по противнику в нужное время и в нужном месте. Историки, закупленные орденом русской интеллигенции и превратившиеся в пятую колонну, упорно и настойчиво этого не замечали и лишь перепевали сплетни о том, что, якобы, Император растерялся, что и умер то он от «Евпатории в лёгких». Лучшее доказательство того, что он был отравлен врагами России, почувствовавшими, что война не принесёт успеха союзникам, пока управляет Державой не только решительный Государь, но и талантливый военачальник.
Понимая, что лишь решительными успехами можно удержать от вступления в войну всё новых и новых шакальих стай, Император Николай Павлович уже 11(23) марта 1854 года приказал форсировать Дунай у Браилова, Галаца и Измаила. Русские войска перешли в успешное наступление и захватили крепости Исакча, Тульча, Мачин. Сколько раз Русские воины брали эти крепости в непрерывную череду турецких войн! И всякий раз посредничество в переговорах в первую очередь английских и французских политиков, приводило к их оставлению по мирным договорам. Успех на Дунае не удалось закрепить из-за того, что Австрия, поначалу соблюдавшая нейтралитет, стала проявлять враждебность, и возникла опасность нанесения ударов во фланг и тыл Русским войскам. Император приказал И.Ф. Паскевичу отвести войска от Дуная. Молдавия и Валахия были оккупированы австрийцами, которые залили эти маленькие страны кровью за их приверженность Русскому Царю.
Это теперь вдруг стали небольшие страны считать Запад доброй дойной коровой, не понимая, что помощь даётся не просто так – помощь даётся за причинение вреда России. Любого вреда, пусть пока хотя бы морального. Пока стоит Россия, Запад будет кормить все злокачественные странообразования, переметнувшиеся к нему. Впрочем, Россия и будет стоять, а потому все эти «новообразования» и переметнувшиеся страны будут нужны ему. Они до сих не могут уяснить, что если бы Россия не устояла в единоборстве с мировыми шакальими стаями, их бы тот час превратили в рабов и устроили в них кровавую резню, как, скажем, в Югославии, Ираке и Ливии. Ни прибалтийские страны, ни Польша, ни Украина, ни Грузия Западу сами по себе совершенно не нужны. Это проверено долгой историей…
Но вернёмся к Восточной войне, столь незаслуженно забытой историками. Н.Д. Тальберг в упомянутой выше книге писал: «Всё увеличивающееся враждебное поведение Австрии побудило Государя двинуть к Гродно и Белостоку гвардию. 28 августа он извещал Паскевича о её выступлении. 1 сентября Император писал ему, что, когда сосредоточится гвардия, «тогда мы поговорим с Австрией посерьёзнее, пора ей отдать отчёт в своих мерзостях. А ты приведи всё в порядок и устройство и готовься к ноябрю, ежели Богу угодно будет, чтобы рассчитаться с Австрией».
2 сентября Государь писал Паскевичу: «Скоро наступит время, где пора нам будет требовать отчёта от Австрии за всё её коварство», а 4 сентября сообщал Горчакову: «Коварство Австрии превзошло всё, что адская иезуитская школа когда-то изобретала. Но Всемогущий Бог их горько за это накажет. Будем ждать нашей поры».
Н.Д. Тальберг рассказал о Божьей каре, которая неминуемо настигла Австрию: «Император Николай I не дожил до этого времени. Предательство Австрии в отношении России дало возможность Франции разбить её в 1859 году и Пруссии – в 1866 году. Россия этому не препятствовала».
Между тем, бои с врагами развертывались одновременно на нескольких театрах военных действий. Так, ещё весной 1854 года союзники открыли боевые действия и на Балтийском море. Английская и французская эскадры имели 11 винтовых и 15 парусных линейных кораблей, 32 пароходофрегата и 7 парусных фрегатов. Балтийский же флот не только уступал численно. В нём было всего лишь 11 паровых кораблей, а всего он насчитывал 26 парусных линейных кораблей и 17 фрегатов и корветов (в том числе 11 уже упомянутых винтовых).
Союзники действовали осторожно, боязливо и все их замыслы не имели успеха. Осенью 1854 года союзники покинули Балтику. На севере английские и французские корабли совершили рейд, во время которого обстреляли рыбацкий посёлок Кола, уничтожив просто так, без всяких целей немало рыбацких домом и перебив мирных жителей, затем, войдя в Белое море, попытались атаковать Соловецкие острова и Архангельск, но тоже не добились успеха. Попытались союзники организовать боевые действия и на Дальнем востоке. Вражеская эскадра вошла в Авачинскую губу и 20 августа (1 сентября) попыталась высадить десант, чтобы овладеть Петропавловском. Отпор был решительным. Потеряв 450 человек, союзники предпочли покинуть Авачинскую губу.
Развивались боевые действия и на Кавказском направлении. Там против нас действовали турецкие войска. В мае 1854 года 120 тысячная турецкая армия атаковала 40 тысячный корпус генерала Бебутова. Несмотря на то, что Бебутов как раз в это время вынужден был выделить 18 тысяч человек на борьбу с Шамилем, турки успеха добиться не смогли. 4 (16) июля отряд генерала Андроникова в бою у реки Чорох разбил 34-х тысячный батумский корпус турок, затем 17 (29) июля нанёс поражение на Чингильском перевале разгромил Боязитский отряд и овладел Баязитом. 24 июля (5 августа) главные силы турок числом 60 тысяч человек были разбиты и обращены в повальное паническое бегство Русским Александропольским отрядом. Этим завершился полный разгром турецкой армии, которая более уже в этой кампании не могла представлять собою серьёзной силы.
Таким образом, кампании 1853 и 1854 годов не принесли союзникам значительных успехов. В январе 1855 года Сардиния прислала 15 тысяч своих войск, были переброшены в Крым значительные силы англичан и французов.
Но Россия, как в Крыму, так и на остальных театрах военных действий, стояла твёрдо, потому что твёрдо и уверенно руководил её Император Николай Павлович, несгибаемый Государь и талантливый военачальник. Союзникам стало ясно, что победить Россию Николая Первого им не удастся. Оставался один, излюбленный Западом способ – устранить того, кто мешает победе, ну а потом, как обычно, придумать какую-то байку для обывателя, типа «Евпатории в лёгких» или самоубийства.
Отравление Царя ради победы зла.
Мы помним девиз Императора Николая Павловича: «никому – зло». Но Россия была окружена странами зла, а Император – слугами зла. Государь ушёл из жизни 18 февраля 1855 года. Историки, закупленные орденом русской интеллигенции, выдвинули две версии. Первая звучала так: «Император умер от Евпатории в лёгких». Намёк на то, что Русская армия не сумела препятствовать высадке союзников в Крыму. Но этот вывод сделан из вывода, в свою очередь, надуманного и лживого – из вопиющей лжи о неудачах Русской армии в кампаниях 1853 и 1854 годов. Однако, как мы уже выяснили, неудач не было. На Кавказском театре военных действий одержана полная и блистательная победа, на Дальнем Востоке противник отступил, на Балтике и на Белом море успеха врагам России тоже не удалось добиться. Лишь на Дунае Русской армии из-за предательской двурушнической политики Австрии пришлось отойти.
В Крыму боевые действия шли с переменным успехом, но главной задачи – захвата Севастополя – союзникам выполнить не удалось. Учитывая колоссальное превосходство врага в живой силе и технике, можно сделать твёрдый вывод – Русская армия со своими задачами справилась. И неудивительно, ведь Верховное командование осуществлял сам Император Николай Павлович.
Но что же произошло? В.Ф. Иванов в книге «Русская интеллигенция и масонство от Петра I до наших дней» писал:
«В начале февраля Государь заболел лёгкой простудой. С 7-го по 10-е никаких указаний на развитие болезни не встречается. 10 – 11-го простуда обнаруживается лёгкой лихорадкой и проходит. За последние дни с 12-го февраля здоровье заметно улучшается. Бюллетень за 14 февраля отмечает: «Его Величество ночью на 14-е число февраля мало спал, лихорадка почти перестала. Голова свободна».
Не отмечают никаких ухудшений здоровья и бюллетени за 15 и 16 февраля. В.Ф. Иванов отметил по этому поводу: «Смерть явилась для всех окружающих Государя лиц полной неожиданностью. Наследник, Императрица, не говоря уже о придворных, и не подозревали смертельного исхода. До вечера 17 февраля во дворце всё было спокойно, и сам доктор Мандт продолжал уверять, что нет никакой опасности. Могучая натура Императора Николая Павловича могла перенести любую простуду».
Для всех осталось загадкой случившееся. Впрочем, в траурные дни близким не до разрешения таких загадок. К тому же шла война, и хотя враги России безуспешно пытались сломить Россию, нужно было быть постоянно начеку, ведь союзники всё ещё стояли в Крыму, хотя на штурм Севастополя не решались.
Обратимся вновь к размышлениям В.Ф. Иванова, открывшего в смерти Императора явный масонский след: «Революционная печать, чтобы очернить светлый образ Императора-Витязя, доказывает самоубийство и участие в этом лейб-медика Мандта, который, по просьбе Государя, дал ему яд. Эту версию пустил в своих записках Пеликан, бывший консулом в Иокогаме, в «Голосе минувшего» за 1914 год (кн. 1 – 3). Пеликан сообщил, что вскоре после смерти Императора Николая Павловича Мандт исчез с Петербургского горизонта. По словам Пеликана Венцеслава Венцеславовича (бывшего в своё время председателем Медицинского совета, президентом Медико-Хирургической академии), Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покончить с собой Императору Николаю яду…
Спрашивается: для чего нужно было посредничество Мандта, когда Император мог отравиться и без его помощи? Психологически это является совершенно невероятным. Зная характер Императора, его благородство, мужество и сознание Святости Царской власти и своего долга, невозможно допустить наличности самоубийства. Глубоко религиозный, верный и достойный сын Церкви Христовой, Православный Император не мог совершить такого греха».
Как видим, В.Ф. Иванов подтверждает выводы, которые напрашиваются сами собой. Да разве мог Император Николай Павлович бросить Россию в столь трудный час, разве мог взвалить на неокрепшие ещё плечи Наследника Престола столь тяжкий груз государственного управления? Ведь он сам, как Государь, как Верховный Главнокомандующий до самой последней минуты держал в своих руках рычаги управления войсками на всех театрах военных действий.
«Непоколебимая твёрдость Царя и Воина, – отметил далее автор, – мысль о важных обязанностях Монарха, которые он свято исполнял в течение 30 лет, наконец, нежная любовь к своему семейству исключают всякое предположение о самоубийстве. Император Николай Павлович умирал истинным христианином и витязем. Он исповедался и приобщился Святых Таин. Призвал детей и внуков, простился с Императрицей и семейством и сказал им всем утешительные слова, простился с прислугой и некоторыми лицами, которые тут находились».
Наследнику Престола он сказал: «Мне хотелось принять на себя всё трудное, всё тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас! После России я люблю вас больше всего на свете!»
Император Николай Павлович ушёл из жизни 18 февраля 1855 года в 12 часов 20 минут. В.Ф. Иванов считал, что загадка его смерти получает полную ясность, если сопоставить все обстоятельства, в том числе и положение на театрах военных действий и указал, что виновником смерти Государя является масонский заговор: «При изучении последних дней жизни Императора Николая наталкиваемся на странное обстоятельство: слух о смерти от простуды был пущен и поддерживался масонами Адлербергом, министром двора, и князем Долгоруковым, комендантом Императорской главной квартиры. Далее, в ночь с 17-го на 18-е, во дворце на ночь оставались поблизости Государя граф Адлерберг и лейб-медик Мандт, которые унесли в могилу тайну смерти Императора».
Отравление было единственным способом устранить Государя, который уже почти повернул ход войны в катастрофическом для союзников направлении. К сожалению, Император был слишком благороден и доверчив – он не допускал и мысли, «что его могут обмануть и предать на мученическую смерть». Смерть от отравления – мучительна… Ещё более мучительной она была для Императора, осознававшего, что он оставляет Россию в трудный для неё час борьбы с шакальими стаями ублюдков, испокон веков зарившихся на её богатства.
Едва он ушёл из жизни без всяких к тому причин, клеветники принялись за дело. Так уже наш современник (из нынешнего ордена русской интеллигенции) А.Смирнов написал: «Самоубийство Императора являлось наиболее подходящим способом разрешения всех противоречий, личных и государственных. В этом убеждаешься, когда знакомишься с воспоминаниями Ивана Фёдоровича Савицкого, полковника Генерального штаба, адъютанта Цесаревича Александра».
Чем же мнение Савицкого привлекло историка? Да тем, что тот был активным участником антирусского восстания 1863 года против Престола, против Самодержавной власти, против России и потом скрывался в Европе. Именно на этом основании он почитался «осведомлённым», ибо являлся предателем Родины. А выдумки предателей, подобных Курбскому и Савицкому, всегда в чести у историков, ненавидящих Россию.
Но можно ли считать беспристрастным такого современника Николая Павловича, который отзывался о нём, Императоре, следующим образом: «Тридцать лет это страшилище в огромных ботфортах, с оловянными пулями вместо глаз безумствовало на троне, сдерживая рвущуюся из кандалов (?) жизнь, тормозя всякое движение (особенно по железной дороге?), расправляясь с любым проблеском свободной мысли, подавляя инициативу, срубая каждую голову, осмеливающемуся подняться выше уровня, начертанного рукой венценосного деспота…» И далее в том же духе. Какой же инициативе помешал Император? Повесить Царскую фамилию? Пустить в распыл Державу? Поддаться иностранным ворогам, жаждущим Русских земель? Помешал крепостникам, с «проблеском свободной мысли» ещё крепче взгромоздиться на шее своих рабов?
Савицкий ненавидел Русского Самодержца. Ему был дорог и близок «немец Мандт» – личный враг Государя, которому Николай Павлович, будучи благородным и честным сам, доверял. Историк А.Смирнов, сам того не понимая, доказывает обратное тому, что хотел доказать – доказывает, что Император умер не от болезни, что к середине февраля он практически излечился от сильной простуды. И вдруг последовали внезапное ухудшение здоровья и смерть… Объяснение случившегося даётся со слов проходимца Мандта, бежавшего из России сразу же после кончины Императора за границу. Почему же он, личный враг Государя, вдруг сбежал? Оказывается, опасался, что его заподозрят в отравлении. Объяснение, прямо скажем, рассчитано на полных идиотов. Честному человеку, невиновному человеку нет оснований бояться того, чего боялся Мандт. Между тем, уже за границей, где Мандт устроился очень недурно, осыпанный материальными поощрениями за выполнение задачи, он заявил, что Император приказал ему, личному врачу, принести яд. На возражения же грозно повторил своё приказание. В чём была угроза? Да в том, оказывается, что Николай Павлович пообещал добыть яд своим путём, если его не доставит врач. Каким же это путём? Все медикаменты находились в ведении лейб-медика. И какое видит историк разрешение противоречий? Дезертирство, подобное тому, что совершил Благословенный, внезапно оставив престол и тем самым создав революционную ситуацию, которой и воспользовались государственные преступники, именуемые декабристами?
Всё это ещё раз подтверждает верность выводов В.Ф. Иванова о том, что в трудный для России час, в момент ожесточённой борьбы против объединённых сил Европы, которая, кстати, укрыла и Мандта, и Савицкого, такой Самодержец, как Николай Первый, не мог пойти на самоубийство, противоречившее не только его вере, но и его взглядам, и убеждениям.
Но, к счастью, не все историки бесчестны в освещении жизни великого Православного Самодержца: Борис Башилов указал:
«Николай Первый обладал ясным, трезвым умом, выдающейся энергией. Он был глубоко религиозный, высоко благородный человек, выше всего ставивший благоденствие России».
Французский дипломат, живший в Петербурге, писал: «Нельзя отрицать, что Николай Первый обладал выдающимися чертами характера и питал лучшие намерения. В нём чувствуется справедливое сердце, благородная и возвышенная душа. Его пристрастие к справедливости и верность данному слову общеизвестны».
Маркиз де Кюстин при встрече с Николаем Первым сказал ему:
«Государь, Вы останавливаете Россию на пути подражательства и Вы её возвращаете ей самой».
Император ответил ему:
«Я люблю свою страну и я думаю, что её понял, я Вас уверяю, что когда мне опостылевает вся суета наших дней, я стараюсь забыть о всей остальной Европе, чтобы погрузиться во внутренний мир России».
Маркиз спросил:
«Чтобы вдохновляться из Вашего источника?» – «Вот именно. Никто не более Русский в сердце своём, чем я!». Император прибавил к сказанному: «Меня очень мало знают, когда упрекают в моём честолюбии; не имея малейшего желания расширять нашу территорию, я хотел бы ещё больше сплотить вокруг себя народы всей России. И лишь исключительно над нищетою и варварством я хотел бы одержать победы: улучшить жизненные условия Русских гораздо достойнее, чем расширяться… Лучшая теория права – добрая нравственность, и она должна быть в сердце не зависимой от этих отвлечённостей и иметь своим основанием религию».
Фрейлина Тютчева точно выразила задачи Императора, который, по её словам, «считал себя призванным подавить революцию – её он преследовал всегда и во всех видах. И действительно, в этом есть историческое призвание Православного Царя».
Профессор К. Зайцев дал такую характеристику Императору:
«Он не готовился царствовать, но из него вырос Царь, равного которому не знает Русская история. Николай Первый был живым воплощением Русского Царя. Как его эпоха была золотым веком Русской культуры, так и он сам оказался центральной фигурой Русской истории. Трудно себе представить впечатление, которое производил Царь на всех, кто только с ним сталкивался лицом к лицу. Толпа падала на колени перед его властным окриком. Люди ни в коей мере от него не зависящие, иностранцы, теряли самообладание и испытывали всеобщее, труднообъяснимое, а для них и вовсе непонятное, поистине мистическое чувство робости, почтения. Мемуарная литература сохранила бесчисленное количество свидетельств такого рода».
Судьба Николая I, история его царствования, как впрочем, и многие другие страницы Российской истории, представлялись и до сих пор представляются в исторической литературе тенденциозно – не с точки зрения интересов страны и народа, а лишь с позиций господствующих идеологий. Георгий Чулков в книге «Императоры» отмечал, что «панегириков Царствования Николая I было мало, больше было страстных хулителей». Да и понятно, ведь Император был противником либерализма и отстаивал иерархию ценностей в обществе. Он был сторонником законности, подавил выступление бунтовщиков на Сенатской площади. Этого ему простить не могли те, для кого Россия была не Родиной, а лишь местом «ловли счастья и чинов». Но почему же до сих пор преобладает в литературе ложное представление об Императоре?
Конечно, если всякий мирный период в истории России считать «консерватизмом» и «застоем», если всякую революционность, то есть антигосударственность считать прогрессивностью, тогда Император Николай Павлович действительно «консерватор». Но наш жестокий век, казалось, уже должен убедить, что отстаиваемая Государем самодостаточность Государства есть дело праведное, что консерватизм – есть дело праведное и полезное для государства, ведь, как указывал Иван Лукьянович Солоневич, «Россия падала в те эпохи, когда Русские организационные принципы подвергались перестройке на западно-европейский лад».
Свободный выход России из Чёрного моря, наши успехи на Балканах, авторитет России во всём мире, что теперь так трудно возвратить после десятилетия чёрного ельцинизма, разве это не дороже для страны и народа, чем «прогрессивный» либерализм? Разве не дороже то, что Императору Николаю I удалось удержать Россию над пропастью революции, которая в XIX веке потрясла всю Европу.
Огромная заслуга Императора в том, что он отстоял Великую Россию и надолго отодвинул великие потрясения. В этом смысле те идеалы, которые он исповедовал и проводил в жизнь, злободневны и ныне, в чём мы уже убедились. Как показывает сам ход истории, нынешняя жизнь в «усечённой» с помощью демократических «преобразований» России не дала обещанного благополучия, а напротив, принесла неисчислимые беды народам, жившим согласно и дружно на Советской Земле, в Советском Союзе. А Советский Союз по территории соответствовал Российской Империи. Теперь вот украинные политиканы, воспользовавшись тем, что украинные Российские области стали называться Украиной, запретили словосочетания: «Ехать на Украину», «Жить на Украине», «Отдыхать на Украине», к чему уже все привыкли. Они велят говорить: «Жить в Украине», Ехать в Украину», чтобы вытравить из сознания людей, что Украины – это та же Русь, только Малая Русь или Малороссия. Глупо же звучит: «Жить в окраине города или посёлка», «Ехать в окраину деревни». Столь же смешно звучит: «Ехать в Украину» и так далее в том же духе! Я думаю, ездить нужно всё же на Украину, то есть к своим братьям на окраину Российской Империи, которая ещё возродится в новом, могущественном качестве под скипетром Русского Православного Царя.
Эпоха Императора Николая I характеризовалась жесточайшей и упорной борьбой между сторонниками развития России по Самодержавному, Православному, национальному пути, проложенному Святым Благоверным князем Андреем Боголюбским и местночтимым Святым Благоверным Царём Иоанном IV Васильевичем Грозным, Императрицей Екатериной Великой и Императором Павлом I и так называемыми «западниками», идейными последователями запрещённого в 1826 году масонства, стремившимися сделать Россию сырьевым придатком своего обожаемого Запада. Заслуга Императора в том, что, как отмечали мыслители, стоявшие на патриотических позициях, после подавления бунта декабристов и запрещения масонства, Русские Цари перестали быть источниками европеизации России, подобно Петру I и Анне Иоанновне, распустившей «бироновщину», и Петра III. Они стали на путь возвращения к Русским традициям, беспощадно выкорчеванным в эпоху Петра и «бироновщины».
Иван Александрович Ильин писал: «Император Николай I остановил Россию на краю гибели и спас её от нового «бессмысленного и беспощадного бунта». Мало того, он дал русской интеллигенции срок, чтобы одуматься, приобрести национально-государственный смысл и вложиться в подготовленные реформы Александра II. Но она не использовала эту возможность».
Выдающийся русский учёный Александр Евгеньевич Пресняков (1870 – 1929) в книге «Российские Самодержцы» писал: «Время Николая Первого – эпоха крайнего самоутверждения Русской Самодержавной власти в ту самую пору, как во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм, разбитый рядом революционных потрясений, переживал свои последние кризисы. Там, на Западе, государственный строй принимал новые конституционные формы, а Россия испытывает расцвет Самодержавия в самых крайних проявлениях его фактического властвования и принципиальной идеологии. Во главе Русского Государства стоит цельная фигура Николая Первого, цельная в своём мировоззрении, в своём выдержанном, последовательном поведении. Нет сложности в этом мировоззрении, нет колебаний в этой прямолинейности. Всё сведено к немногим основным представлениям о власти и государстве, об их назначении и задачах, к представлениям, которые казались простыми и отчётливыми, как параграфы воинского устава, и скреплены были идеей долга, понятой в духе воинской дисциплины, как выполнение принятого извне обязательства».
В самом начале своего царствования, 14 декабря 1825 года Николай Павлович сказал: «Я не искал Престола, не желал его. Бог поставил меня на этом месте, и пока Богу угодно будет оставить меня тут, буду исполнять долг свой, как совесть велит, как убеждён, что должно и нужно действовать».
Графиня А.Д. Блудова писала по поводу этих слов Государя: «Такое убеждение, такая воля христианская руководила им с первой минуты, и никогда доныне не изменял он своего образа мыслей. Эта тёплая вера, однако, не увлекала его в мистические экстазы, но сильно и непоколебимо привязала к родной Православной Церкви, и с любовью к ней слилась у него и горячая любовь к Отечеству, любовь ко всему Русскому, всегдашняя готовность жертвовать собою, жертвовать своею жизнью за спокойствие, за величие, за славу России. Сколько раз он доказывал это, принадлежит рассказать историку; мы только напомним о маловажных, ежедневных доказательствах приверженности его ко всему родному. Привычка говорить по-русски, даже с женщинами (дотоле неслыханное дело при Дворе), любимый казацкий мундир, им первым введённый в моду, привычка петь тропари праздничные и даже всю обедню вместе с хором в церкви – это одно мелочи; но модные дамы времён Александра рассказывают, какое это сделало впечатление, как удивило, как показалось странным, причудливым и какой сделало поворот в гостиных, в последствии и в семейной жизни, и в воспитании, и мало-помалу разбудило народное чувство и дало повод тому стремлению возвращаться ко всему строю отечественному, которое нынче слишком далеко увлекает иных и даже доходит до смешного руссицизма.
Разумеется, всему есть границы; но мы должны сознаться, что замечательнейшая черта нашего времени есть сильное, может, чрезмерное чувство народности, привязанность к обычаям и к языку родного края, какое-то, так сказать, притяжение, влекущее друг к другу единородные племена. Но это чувство было усыплено, появлялось разве между некоторыми учёными или литераторами и вовсе не замечено было большинством; Николай Павлович при самом восшествии на престол первый у нас показал пример, и поколение, при нём возросшее, уже далеко отступило от инородных мнений и с любовью и рвением старается о всём родном. В своих привычках и привязанности ко всему национальному Николай Павлович опередил своих современников и показал то предчувствие нужд и стремлений своего века, о которых мы упоминали как о черте отличительной для людей, избранных Провидением и посылаемых Им во дни великих переворотов общественных».
Аполлон Майков посвятил Государю стихотворение «Коляска», которое является лучшим апофеозом его царствования:
Когда по улице, в откинутой коляске,
Перед беспечною толпою едет Он,
В походный плащ одет, в солдатской медной каске,
Спокоен, грустен, строг и в думу погружён,
В Нём виден каждый миг Державный повелитель,
И вождь, и судия, России промыслитель,
И первый труженик народа Своего.
С благоговением гляжу я на него,
И грустно думать мне, что мрачное величье
В Его есть жребии: ни чувств, ни дум Его
Не пощадил наш век клевет и злоязычья!
И рвётся вся душа во мне ему сказать
Пред сонмищем Его хулителей смущённым:
«Великий человек! Прости слепорождённым.
Тебя потомство лишь сумеет разгадать,
Когда История пред миром изумлённым
Плод слёзных дум Твоих о Руси обнажит.
И, сдёрнув с Истины завесу лжи печальной,
В ряду земных царей Твой образ колоссальный
На поклонение народу водрузит».
И заключил свои поэтические мысли фразой: «Как сказал один молодой человек: «Государь такой Русский, что нельзя и вообразить себе, что в нём даже одна капля чужестранной крови». Дай Бог нам ещё долго сохранить его! На него точно можем мы положиться и знаем, что он никогда нам не изменит, как не изменит ему никогда его родная Русь!».
Так пусть же Отечество наше Российское никогда не изменяет светлой памяти лучших своих Православных Государей, в ряду которых первыми хочется назвать Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского и местночтимого Святого Благоверного Царя Иоанна IV Васильевича Грозного, Императора Павла Первого и его великого сына Николая Павловича. Пусть Россия никогда не изменяет памяти наследника Русских Царей Товарища Сталина!
И небо упало за Землю
Николай Шахмагонов
И НЕБО УПАЛО НА ЗЕМЛЮ…
В 1770 году Потёмкину уже приходилось брать Измаил, но тогда он был не сравним с теперешним.
(главы из книги "Гений, чтобы побеждать")
К примеру, в 1770 году в Измаиле было 37 пушек, 1790-м – более двухсот.
Представлялась возможность взять эту крепость в 1789 году, когда она была значительно слабее. В августе 1789 года генерал Репнин, преследуя отходящий отряд Гассана-паши, достиг Измаила и занял близ него выгодные позиции. Осмотрев крепость, Репнин назначил штурм на 22 августа. Вот как описывает это единственное за всю войну безуспешное дело историк А. Н. Петров: «Неприятель выслал из крепости всю свою конницу, состоявшую из спагов. С нашей стороны были высланы вперед все казаки.
В происшедшей стычке спаги были опрокинуты, и кн. Репнин стал в расстоянии пушечного выстрела от крепости, обогнув её с северной стороны. Вслед за тем вся артиллерия в числе 58 полковых орудий выдвинулась ни позицию и стала в семи отдельных батареях на расстояний 200-250 сажен от крепости, открыв жестокую пальбу по предместью и стараясь в то же время образовать брешь в крепостной ограде…
Но огонь из крепости был крайне силен. Наши орудия, находясь на открытой позиции, сильно потерпели. Урон в войсках был также значителен. Тем не менее потери неприятели были также велики.
Предместье города загорелось. Пожар развивался и спустя три часа по открытии бомбардирования охватил почти весь город. Опасаясь образования бреши и открытого штурма, Гассан-паша начал уже подумывать об очищении крепости и с этой целью приказал семи галерам, стоящим ниже Измаила, подойти к береговой части крепостной ограды.
Кн. Репнин, не зная действительного назначения этих галер, полагал, что они намереваются действовать на флангах нашего расположения, а потому приказал поставить на берегу Дуная выше города сильную батарею из восьми орудий, которая открыла по турецким галерам такой меткий огонь, что заставила их отступить. С отступлением галер Гассану-паше не оставалось ничего другого, как энергически продолжать оборону, начавшую было слабеть!»
И хотя в крепостной стене образовалась брешь, и войска ожидали приказа о штурме, Репнин повелел начать отход от крепости. Впоследствии, недруги Потёмкина, соратники Репнина по враждебной интересам Россия партии, сочинили сплетню о том, что Потёмкин, якобы, приказал отступить, боясь, что в случае победы Репнин станет генерал-фельдмаршалом. Фельдмаршальский чин многим не давал покоя и его вставляли в сплетни без всяких поводов, даже не задумываясь о том, что иногда тот или иной генерал просто не мог его получить, поскольку это противоречило однажды и навсегда установленному Екатериной IIпорядку производства.
Причина же отступления была иной. Документы полностью изобличают роль Репнина и его соратников, причем изобличают устами самого Репнина, который, пытаясь оправдаться, писал, «что штурмуя крепость, без знатной потери успеха уповать было неможно». Далее в том же рапорте, датированном 13 сентября 1789 года, значилось: «Почему, исполнив повеление вашей светлости, чтобы сберегать людей, на эскаладу крепости я не решился, а только продолжил канонаду и выстрелил до 2300 разных калибров, бомб и брандкугелей».
Репнин – не Суворов. Недаром Репнина прозвали «фельдмаршалом при пароле». Безбожнику Репнину Бог не даровал побед.
Спустя два года после бегства из-под Измаила Репнин предательски умышленно подписал невыгодные для России прелиминарные пункты мирного
договора с портой, которые затем были аннулированы Потёмкиным. Тогда же была распространена сплетня о том, что Потёмкин порвал их, дабы лишить Репнина положенной за миротворчество награды. Впрочем, мало ли сплетен было сочинено. Потёмкин опровергал их делами своими, опровергал с помощью блестящих сподвижников, которые с лихвой восполняли то, что «недоделывал» Репнин.
Отступление Репнина от Измаила позволило туркам плодотворно поработать над укреплением его в течение более чем года. В «Военной энциклопедии», изданной до революции, указывается, что к концу 1790 года «турки под руководством французского инженера Де-Лафит-Клове и немца Рихтера превратили Измаил в грозную твердыню: крепость была расположена на склоне высот, покатых к Дунаю; широкая лощина, направлявшаяся с севера на юг, разделяла Измаил на две части, из которых большая, западная, называлась старой, а восточная - новой крепостью; крепостная ограда бастионного начертания достигала 6 верст длины и имела форму прямоугольного треугольника, прямым углом обращенного к северу, а основанием к Дунаю; главный вал достигал 4 сажен вышины и был обнесен рвом глубиною до 5 и шириною до 6 сажен и местами был водяной; в ограде было 4 ворот: на западной стороне - Царьградские, (Бросские) и Хотинские, на северо-восточной - Бендерские, на восточной - Килийские. Вооружение 260 орудий, из коих 85 пушек и 15 мортир находились на речной стороне; городские строения внутри ограды были приведены в оборонительное состояние; было заготовлено значительное количество огнестрельных и продовольственных запасов; гарнизон состоял из 35 тысяч человек под началом Айдозли-Мехмет-паши, человека твердого, решительного и испытанного в боях».
И все-таки крепость надо было брать, ведь от нее зависело, сколько еще предстоит пролиться русской крови в той жестокой войне.
В конце ноября 1790 года войска генерала Гудовича обложили крепость, однако на штурм не отважились. Собранный по этому поводу военный совет принял решение - ввиду поздней осени снять осаду и отвести войска на зимние квартиры. Между тем Потёмкин, еще не зная об этом намерении, но обеспокоенный медлительностью Гудовича, направил Суворову распоряжение прибыть под Измаил и принять на себя командование собранными там войсками.
Суворов выехал к крепости, а Потемкин чуть ли не в тот же день получил рапорт Гудовича, в котором сообщалось о решении военного совета. Выходило, что главнокомандующий поручил Суворову дело, которое большинство генералов почитало безнадежным. Потемкин тут же направил Александру Васильевичу еще одно письмо: «Прежде нежели достигли мои ордеры к г. Генералу Аншефу Гудовичу, Генерал Поручику Потёмкину и Генерал Майору де Рибасу о препоручении вам команды над всеми войсками, у Дуная находящимися, и о произведении штурма на Измаил, они решились отступить. Я получил сей час о том рапорт, представляю Вашему сия-ву поступить тут по лучшему Вашему усмотрению продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением оного...»
Однако Суворов был полон решимости брать крепость, и твердо ответил Потемкину: «По ордеру вашей светлости… я к Измаилу отправился, дав повеление генералитету занять при Измаиле прежние их пункты».
2 декабря войска, остановленные Суворовым на марше к зимним квартирам, повернули назад и вновь обложили крепость. На следующий день началось изготовление фашин и лестниц для штурма. В тылу был построен макет крепостных укреплений, и войска приступили к усиленным тренировкам. Суворов провел военный совет, на котором те же генералы, что еще недавно приняли решение снять осаду, постановили взять крепость штурмом.
Потёмкин прислал Суворову адресованное в Измаил письмо с предложением о сдаче: «Приближа войски к Измаилу и окружа со всех сторон сей город, принял я уже решительные меры к покорению его. Огонь и меч уже готовы к истреблению всякой в нём дышущей твари; но прежде, нежели употребятся сии пагубные средства, я, следуя милосердию всемилостивейшей моей Монархини, гнушающейся пролитием человеческой крови, требую от Вас добровольной отдачи города. В таком случае жители и войски, Измаильские турки, татары и прочие какие есть закона Магометанского, отпустятся за Дунай с их имением, но есть ли будете Вы продолжать безполезное упорство, то с городом последует судьба Очакова, а тогда кровь невинная жён и младенцев останется на вашем ответе.
К исполнению сего назначен храбрый генерал граф Александр Суворов- Рымникский».
К письму главнокомандующего Суворов приложил и свое, правда, вовсе не то, которое часто приводится в исторических книгах, и имеющее следующее содержание: «Я сейчас с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление - воля, первый выстрел - уже неволя, штурм - смерть. Что оставляю вам на рассмотрение».
Известен и ответ, который, якобы, дал комендант Измаила: «Скорей Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, нежели сдастся Измаил».
Записка Суворова составлена безусловно в его духе, но была ли она послана? Скорее всего нет. Её, написанную рукою адъютанта, наверняка со слов Александра Васильевича, нашли в архиве перечеркнутою. Суворов же продиктовал и отправил иное, более полное и гораздо более сдержанное письмо. Приведем строки из него: «...Приступая к осаде и штурму Измаила российскими войсками, в знатном числе состоящими, но соблюдая долг человечества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость, при том бываемую, даю знать чрез сие вашему превосходительству и почтенным султанам и требую отдачи города без сопротивления… В противном же случае поздно будет пособить человечеству, когда не могут быть пощажены …никто… и за то никто, как вы и все чиновники перед Богом ответ дать должны».
Письма Суворов отправил 7 декабря, а уже на следующий день приказал соорудить мощные осадные батареи в непосредственной близости от крепости, дабы делом подтвердить решительность своих намерений. Семь батарей были установлены на острове Чатал, с которого также предполагалось вести огонь по крепости.
Длинный и пространный ответ от коменданта Измаила поступил 8 декабря. Суть его сводилась к тому, что, желая оттянуть время, он просил разрешения дождаться ответа на предложение русских от верховного визиря. Комендант упрекал Суворова в том, что русские войска осадили крепость и поставили батареи, клялся в миролюбии, и не было даже тени высокомерия в его письме. Суворов ответил коротко, что ни на какие проволочки не соглашается и дает еще против своего обыкновения, времени до утра следующего дня. Офицеру же, с которым направлял письмо, велел на словах передать, что если турки не пожелают сдаться, никому из них пощады не будет.
Штурм состоялся 11 декабря 1790 года. Результаты его были ошеломляющими. Измаил пал, несмотря на мужественное сопротивление и на то, что штурмующие уступали в числе войск обороняющимся. О потерях А.Н. Петров писал: «Число защитников, получавших военное довольствие, простиралось до 42 000 человек (видимо, в последние недели гарнизон пополнился за счет бежавших из Килии, Исакчи и Тульчи. - Н. Ш.), из которых убито при штурме и в крепости 30 860 и взято в плен более 9000 человек».
Русскими войсками было взято 265 орудий, 3000 пудов пороха, 20 000 ядер, 400 знамен, множество больших и мелких судов. Суворов потерял 1815 человек убитыми и 2400 ранеными.
Донося императрице об этой величайшей победе, князь Потёмкин отмечал: «Мужество, твёрдость и храбрость всех войск, в сём деле подвизавшихся, оказались в полном совершенстве. Нигде более не могло ознаменоваться присутствие духа начальников, расторопность штаб- и обер-офицеров. Послушание, устройство и храбрость солдат, когда при всём сильном укреплении Измаила с многочисленным войском, при жестоком защищении, продолжавшемся шесть с половиной часов, везде неприятель поражён был, и везде сохранён совершенный порядок». Далее главнокомандующий с восторгом писал о Суворове, «которого неустрашимость, бдение и прозорливость, всюду содействовали сражающимся, всюду ободряли изнемогающих и направляя удары, обращающие вотще отчаянную неприятельскую оборону, совершили славную сию победу».
Императрица отвечала письмом от 3 января 1791года: «Измаильская эскалада города и крепости с корпусом, в половину противу турецкого гарнизона в оной находящегося, почитается за дело, едва ли в истории находящееся и честь приносит неустрашимому российскому воинству».
Победа была блистательной, но увы…
Во все почти без исключения исторические, документальные, художественные произведения проникла отвратительная разлагающая тля - сплетня, на которой давно уже пора поставить точку. Прошли времена, когда была специальная установка показывать и лучших императоров российских, и величайших русских государственных и военных деятелей «чудовищами с оловянными глазами».
БЫЛ ЛИ ИЗМАИЛЬСКИЙ СТЫД ?
(ПРАВДА ПРОТИВ СПЛЕТНИ)
Известно, что, собираясь в начале 1791 года в Петербург, Потёмкин планировал оставить за себя Суворова, то есть отдать в его командование все вооруженные силы на юге России, в том числе и Черноморский флот. Потёмкин считал Суворова самым достойным кандидатом на этот пост. Вполне возможно, он рассчитывал вручить ему Соединённую армию после окончания войны в полное командование. Но не так думали представители прусской партии в России во главе с Н.В. Репниным и Н.И. Салтыковым, людьми, мягко говоря, весьма низких моральных качеств и достоинств.
Война шла к завершению, выиграна она была руками честных русских полководцев Потемкина, Румянцева, Суворова, Самойлова, Кутузова, блистательного флотоводца Ф.Ф. Ушакова, которого называли "Суворовым на море", и многих других. Для слуг духа тёмного настала пора постараться сделать так, чтобы плодами ее воспользовались, как нередко случалось в России, те, кто и малую толику не сделал для победы. Репнин с Салтыковым сговорились скомпрометировать Суворова в глазах Потёмкина, настроить Суворова против Потёмкина, а Екатерину IIпротив и Суворова и Потёмкина, чтобы затем попытаться свергнуть с престола Императрицу. Они надеялись (но, как показало время, ошибались) сделать своим послушным орудием Павла Петровича, когда тот займёт царский трон.
Желая расположить к себе Суворова и заманить его, неискушённого в интригах, в свой лагерь "даже подыскали жениха Наташе Суворовой – сына Н.И. Салтыкова". Для боевого генерала, всю жизнь проведшего в боях и походах и далекого от интриг, нелёгким делом было разгадать замысел недругов, брак же дочери с сыном заместителя Председателя Военной коллегии (по-нынешнему почти что зам. министра обороны) был почётен.
В борьбе использовались самые низкие методы. Суворов не скрывал, что стремится получить чин генерал-адъютанта, который бы дал ему возможность чаще бывать при дворе и помогать дочери, вступавшей в свет. Враги знали, насколько он дорожит дочерью, насколько привязан к ней. Вспомним: «Смерть моя - для Отечества, жизнь моя - для Наташи».
Салтыков выманивал Суворова в Петербург и еще с одной целью. Благодаря этому ему удалось добиться, что на время отъезда Потёмкина во главе Соединённой армии южной был оставлен Репнин.
К тому же, не исключено, что и Салтыков и Репнин знали о том, что дни Потёмкина сочтены. В этом направлении уже "работали" их соратники. Суворова выманили в Петербург, обещая выгодный брак для его дочери. Затем Салтыков помешал производству Суворова в генерал-адъютанты, да так, что Суворов поначалу считал, что виною тому Потёмкин. Но надо отдать должное Александру Васильевичу в том, что он никогда, никаких действий против Потёмкина не предпринимал. Не был он способен к интригам, его высокая душа была чистой и непорочной.
Группировкой Салтыкова и Репнина была пущена сплетня о якобы имевшей место ссоре Потёмкина с Суворовым, причем ссоре из-за наград. Перепевалось на все лады, что Суворов, мол, обижен «недостойными» наградами и называл их «измаильским стыдом».
Действовал известный масонский принцип: "Клевещи, клевещи, что-нибудь да останется..." Увы, осталось многое. Осталось и кочует по книгам и фильмам.
А, между тем, Суворов сразу после штурма Измаила отправился в Галац, еще не подозревая о кознях, и там занимался размещением войск и организацией обороны на случай, если турки вдруг все-таки решатся потревожить русские позиции. О том свидетельствуют его письма и доклады главнокомандующему о положении дел в Галаце, где он находился до середины января 1791 года. Затем писал из Бырлада, куда отвел на зимние квартиры свой корпус, убедившись в неготовности и неспособности турок к каким-либо действиям. Лишь 2 февраля 1791 года Суворов отправился в Петербург, но о том, что он встречался с Потёмкиным в Яссах или Бендерах, документальных свидетельств нет. Существует лишь анекдот, в правдоподобности которого сомневались и автор широко известной в XIXвеке монографии «Потёмкин» А.Г. Брикнер, и другие биографы, работы которых не тиражировались подобно тому, как тиражировались издания пасквильные.
Строевой рапорт о взятии Измаила Суворов выслал Потёмкину и на доклад к нему ни в Яссы, ни в Бендеры не ездил. Однако, выдумки врагов Суворова подхватили литераторы нашего времени. Они так старались, так усердствовали, что не удосужились даже сравнить свои опусы и вдуматься, что всяк измышляет на свой лад, но на тему, заданную недругами России.
Тема измышлений: прибытие Суворова в одних случаях в Яссы, в других - в Бендеры и его доклад Потёмкину, устный, заметьте, доклад, коего на самом деле не было.
Описания этой встречи, которой на самом деле не было, можно найти в книгах К.Осипова «Суворов», О. Михайлова «Суворов», Л. Раковского «Генералиссимус Суворов», Иона Друце «Белая Церковь», В. Пикуля «Фаворит» и многих других. Рассказы эти похожи как две капли воды, но авторы домысливали детали - у одних Суворов бежал по лестнице, прыгая через две ступеньки, навстречу Потёмкину, у других Потёмкин спешил обнять победителя, спускаясь к нему. У Пикуля и Осипова все это происходило в Бендерах, у Михайлова - в Яссах.
Но все перечисленные авторы, в стремлении оговорить Потемкина – тогда это соответствовало идеологическому заказу - не задумывались о том, как они показывают самого Суворова.
Суворову приписывали дерзость, невоспитанность, грубость, словно не понимали, что делают.
Сами посудите, Потёмкин, восхищенный подвигами Суворова, взявшего неприступный Измаил, раскрывает руки для объятий и восклицает:
- Чем тебя наградить мой герой?
Что же плохого в этом вопросе? Почему нужно в ответ дерзить?
Тем не менее в книге К. Осипова находим такой ответ Суворова: « - ...Я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и Государыни, никто меня наградить не может...»
У О. Михайлова Суворов отвечает так:
« - Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и всемилостивейшей Государыни, никто не может!»
У Пикуля примерно также:
« - Я не купец, и не торговаться мы съехались… (почему, съехались? - Н.Ш.) Кроме Бога и Государыни, меня никто иной, и даже Ваша Светлость, наградить не может».
Базарно, не по-военному звучит «Мы съехались». Подчиненный не съезжается с начальником, а коли прибывает по вызову, то именно прибывает на доклад, а не "съезжается".
У остальных описания схожи. И все в один голос объясняют такое поведение Суворова тем, что он вознёсся над Потёмкиным, взяв Измаил. Не будем сравнивать Очаков и Измаил, не будем сравнивать другие победы и Потёмкина и Суворова. Они не сравнимы, потому, что каждый делал свое дело во имя России, у каждого была своя военная судьба. И Потёмкин, и Суворов честно исполняли свой сыновний долг перед Великой Россией и не взвешивали на весах, у кого заслуг больше. Это за них решили сделать их недоброжелатели или недобросовестные биографы. Авторам хотелось убедить всех в том, что Потёмкин очень плохо относился к Суворову.
Но тогда почему же по их же выдумке он фейерверкеров по дороге расставил, чтобы торжественнее встретить Суворова? Об этом пишет О. Михайлов. Почему же вышел навстречу с теплыми словами: «Чем тебя наградить, мой герой?»
Попытка же убедить читателя в том, что Суворов вёл себя дерзко, поскольку вознесся над Потёмкиным, взяв Измаил, вообще порочна и является клеветой на самого Суворова, ибо гордыня – великий грех.
Суворов был искренне и нелицемерно верующим, Православным верующим. Мог ли он быть подвержен гордыне? Греху страшному. Судите сами:
«Начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость (Сир.10, 15);
«Гордость ненавистна и Господу и людям, и преступна против обоих» (Сир. 10, 7)
«Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его» (Сир. 10, 14)
Сердце Суворова никогда от Творца не отступало, и обвинение его в гордости есть большой грех.
Да и «Купец»… «Торговаться», тоже не суворовские слова. Я привел в предыдущих главах выдержки из писем Суворова к Потёмкину и к его секретарю Попову, в которых и слова другие, и отзывается Суворов о Потёмкине по-иному.
Но по мнению хулителей, оказывается и Екатерина (судя по выше перечисленным книгам) недовольна была Суворовым, за то, что он, говоря её же словами, наступил на горло туркам и заставил их думать о мире («мир скорее делается, если наступишь им на горло»). У Пикуля в «Фаворите», к примеру, значится: «Петербург встретил полководца морозом, а Екатерина обдала холодом".
Добросовестнейший биограф Суворова, наш современник, Вячеслав Сергеевич Лопатин, создавший великолепные фильмы «Суворов» и «Екатерина Великая», писал: «Прибывший в Петербург 3 марта, тремя днями позже Потёмкина, Суворов был достойно встречен при дворе. В знак признания его заслуг, императрица пожаловала выпущенную из Смольного института дочь Суворова во фрейлины, а 25 марта подписала «Произвождение за Измаил». Награды участникам штурма были обильные. Предводитель был пожалован чином подполковника лейб-гвардии Преображенского полка и похвальной грамотой с описанием всех его заслуг. Было приказано выбить медаль с изображением Суворова "На память потомству" - очень высокая и почётная награда».
А клеветники утверждали, что ссора в Яссах (Бендерах) дорого стоила Суворову, что Потёмкин не захотел его награждать. Но… Вот письмо Потёмкина к Екатерине II: «Если будет Высочайшая воля сделать медаль генералу графу Суворову, сим наградится его служба при взятии Измаила. Но как он всю кампанию один токмо в действии был из генерал-аншефов, трудился со рвением, ему сродным, и, обращаясь по моим повелениям на пункты отдаленные правого фланга с крайним поспешанием, спас, можно сказать, союзников, ибо неприятель, видя приближение наших, не осмеливался атаковать их, иначе, конечно, были бы они разбиты, то не благоугодно ли будет отличить его гвардии подполковника чином или генерал-адъютантом»…
Оказывается, подобрать Суворову награду было чрезвычайно сложно. Все высшие ордена России он к тому времени имел. Два раза один и тот же орден в то время не давали. Не было, правда, у него ордена Георгия 4-й степени. Но не награждать же им за Измаил. Этот орден (Георгия 4-й степени) дали позже, по итогам всей кампании, заметив, что только его, по случайности, и не было у Суворова.
Золотая медаль, которая была выбита в честь Суворова, была очень большой и почетной наградой. Такую же медаль получил за Очаков и сам Потёмкин. Как же можно упрекать Светлейшего за то, что он ставил Суворова на свой уровень? То же можно сказать и о чине лейб-гвардии подполковника. Этот чин имел и сам Потёмкин, а полковником лейб-гвардии, была лишь сама Императрица.
Очень часто можно слышать: отчего, мол, императрица не дала Суворову чин генерал-фельдмаршала? Это говорится без знания дела, без знания положения о производстве в очередные чины, которое существовало при Екатерине II.
Адмирал Павел Васильевич Чичагов в своих «Записках» рассказал об этом достаточно подробно: «Что касается до повышений в чины не в очередь, то Екатерина слишком хорошо знала бедственные последствия, порождаемые ими, как в отношении нравственном, так и относительно происков и недостойных протекций. В начале ее царствования отец мой (адмирал В.Я. Чичагов. - Н.Ш.)
по наветам своих врагов подвергся опале. По старшинству производства он стоял выше прочих офицеров, которым императрице угодно было пожаловать чины. Она приказала доложить ей список моряков, несколько раз пересмотрела его и сказала: «Этот Чичагов тут у меня, под ногами»... Но она отказалась от подписи производства, не желая нарушить прав того человека, на которого, по её мнению, имела повод досадовать».
Императрица никогда не нарушала однажды заведенного ею порядка, и Потёмкин, зная об этом, не стал просить для Суворова генерал-фельдмаршальского чина. Все дело было в том, что Суворов, о чем мы уже говорили, был поздно, по сравнению с другими генералами, записан в полк и не прошел в детские годы, как было заведено в те давние времена, ряда чинов. Из-за этого многие генерал-аншефы оказались старше его по выслуге, как тогда говорили - по службе. Кстати, в 1794 году императрица все-таки произвела его досрочно в генерал-фельдмаршалы за необыкновенные заслуги в Польше. Причем сделать ей это пришлось тайно и указ о производстве огласить нежданно для всех на торжественном обеде в Зимнем дворце, чтобы избежать до времени интриг и противодействий.
Адмирал П.В. Чичагов по этому поводу писал: «Когда генерал-аншеф Суворов, путем своих удивительных воинских подвигов, достиг, наконец, звания фельдмаршала, она сказала генералам, старейшим его по службе и не повышенным в чинах одновременно с ним: «Что делать, господа, звание фельдмаршала не всегда дается, но иной раз у Вас его и насильно берут». Это может быть единственный пример нарушения Ею прав старшинства при производстве в высшие чины, но на это никому не пришло даже и в голову сетовать, настолько заслуги и высокое дарование фельдмаршала Суворова были оценены обществом».
Таким образом, награды Суворова за Измаил никак нельзя назвать скромными.
Чин подполковника лейб-гвардии был очень высоким, не менее высокой наградой явилась и медаль, выбитая в честь подвигов полководца. За всю русско-турецкую войну 1787-1791 годов было сделано лишь две таких медали, представляющие собой массивные золотые диски. На первой медали был изображён Потёмкин, на второй - Суворов, причем оба в виде античных героев - дань господствовавшим в то время канонам классицизма. Потёмкин награжден за Очаков, Суворов - за Измаил...
Что же касается отношений Суворова и Потемкина, то ложь о ссоре опровергается письмом Суворова, датированным 28 марта 1791 года: «Светлейший Князь Милостивый Государь! Вашу Светлость осмеливаюсь утруждать о моей дочери в напоминовании увольнения в Москву к ее тетке Княгине Горчаковой года на два. Милостивый Государь, прибегаю под Ваше покровительство о ниспослании мне сей высочайшей милости.
Лично не могу я себя представить Вашей Светлости по известной моей болезни.
Пребуду всегда с глубочайшим почтением...»
Суворов не хотел, чтобы дочь его была фрейлиной и попала в атмосферу интриг, разжигаемых при дворе врагами Императрицы, врагами Потёмкина и его, Суворова, собственными врагами.
Не известно, смог ли Потёмкин помочь своему боевому другу, но известно, что никогда Светлейший Князь не оставлял без внимания просьбы своих ближайших сподвижников и соратников, а тем более Суворова. Весной 1991 года над самим Потёмкиным нависала угроза, исходившая от группировки Салтыкова - Репнина. Он и на сей раз вышел победителем, предотвратил новую войну, на которую толкали Россию Репнин и Салтыков, чтобы ослабить державу и устранить от её управления Императрицу Екатерину Великую.
Разгадал замысел врагов и Суворов. Он порвал с ними все отношения. Потёмкин же отвел угрозу и от себя, и от императрицы. И тут же Салтыков нанёс подленький удар Суворову. Его сын публично отказал дочери Суворова в сватовстве. Вот почему Суворов говорил: «Я был ранен десять раз: пять раз на войне, пять при дворе. Все последние раны - смертельные».
Потёмкину было известно и о сватовстве, и о том, что Суворов едва не оказался в стане его врагов, но он не сердился на своего боевого соратника, веря в то, что Суворов не способен на бесчестные поступки. Узнав, что Суворова направляют в Финляндию, Светлейший сказал А.А. Безбородко:
- Дивизиею погодите его обременять, он потребен на важнейшее.
Потёмкин видел в Суворове своего преемника на посту главнокомандующего Соединенной армией на юге, то есть во главе всех вооруженных сил на Юге России.
Суворов глубоко переживал, что хоть временно, но был близок к стану недругов Потёмкина. Об этом свидетельствуют многие его письма и одно из лучших его стихотворений, в котором были такие строки:
Бежа гонениев, я пристань разорял.
Оставя битый путь, по воздухам летаю.
Гоняясь за мечтой, я верное теряю
Вертумн поможет ли? Я тот,что проиграл...
Прекрасно знавший мифологию, Суворов не случайно упомянул этрусское и древнегреческое божество садов и огородов Вертумн…
В стихотворении он намекал на свою возможную отставку, которой не произошло, потому что Потёмкин слишком высоко ценил Суворова, и столь же высоко ценила его Императрица.
В последний раз Потёмкин с Суворовым виделись 22 июня 1791 года в Царском Селе, а вскоре Григория Александровича вновь позвали дела на театр военных действий.
Когда Потёмкина не стало, Суворов горько переживал утрату. Он сказал о Светлейшем Князе: «Великий человек и человек великий. Велик умом, высок и ростом».
Зимой в Судак…
Вольный ветер свободы
Отдых в санатории вообще, а особенно в военном – это как тест для каждого мужчины и для каждой женщины. Тест на что? Не будем уточнять, применяя банальные слова. И так ясно.
Впрочем, в декабре 1971 года ничего этого я, конечно, не знал. Путёвку, как уже упоминал, получил совершенно случайно. Лечить особенно и нечего было, а всё ж минувшей зимой побывал к госпитале. Вот и предложил начмед поехать. Он, как оказалось, и сам понятия не имел, что такое лечение в санатории. Для молодого лейтенант слово «лечение» без кавычек как-то и применять неловко.
Роту я принял в августе, а с отпуском затянул почти до нового года. Всё дела, дела, дела. И вот в середине декабря наш начальник медпункта – лейтенант-двухгодичник, привёз из Калининского госпиталя путёвку. Начало отдыха – где-то в двадцатых числа. Встретить Новый год мне предстояло в санатории, то есть в Крыму.
А уже через несколько дней ранним декабрьским вечером я вышел из самолёта в том самом аэропорту, где мы простились с Наташей ровно три года и четыре месяца назад. Какие чувства овладевали мною? Наверное всё-таки моя жена предвосхищала события – до того самого момента, когда я ступил на Крымскую землю, особой остроты переживаний, что сопровождали меня потом всю жизнь, я не испытывал.
Взял такси, сказал водителю:
– Улица Лодыгина один!
В конце декабря темнеет рано. Было около шести вечера, когда вышел у ворот знакомого дома. Телеграммы я не давал, а телефона у Наташиных родителей не было. К сожалению, не было. Если бы три года назад был телефон в этом уютном домике на тихой Симферопольской улице, носящей имя Лодыгина, возможно, всё у нас с Наташей сложилось иначе.
Собственно, предупреждать не имело смысла – в доме том вместе с Наташиными родителями и Наташей жили её бабушка и дедушка. Такого, чтоб все куда-то разъехались, быть не могло. Ну а что касается самого по себе приезда, то я чувствовал, что еду к бесконечно родным людям.
На какие-то секунды задержался у ворот. Через заборчик был виден свет в окнах, а от кухоньки, что помещалась в саду, доносились ароматы будущего ужина. Был ли я готов к встрече с Наташей? До сих пор не знаю, потому что снова Провидение вмешалось в мою судьбу…
Я позвонил, мне открыла Наташина мама и ахнула – перед ней стоял бравый, подтянутый офицер. Представьте, я отправился в санаторий в военной форме. Глупость неимоверная. Но так посоветовал мне наш лейтенант-двухгодичник, понятия не имевший о санаторских порядках. На мой вопрос, в чём ехать, он ответил, что, поскольку учреждение военное, ехать надо, очевидно, в форме.
Меня встретили с прежним радушием. Сразу повели в дом, чтобы снял шинель – на улице было тепло, все даже пользовались ещё уличным умывальником.
Мне предложили отдохнуть, но я предпочёл посидеть на кухне, где Наташины мама и бабушка заканчивали приготовление ужина. Туда же сразу пришёл и Наташин дедушка. Не было ещё пока её отца, да и самой Наташи тоже не было.
Я не спешил с вопросом, полагая, что Наташа в это время едет из института. Судостроительный институт, в котором она училась, был в Севастополе, и приезжала она только по субботам. Я и выбрал специально субботу для своего прилёта, чтобы увидеть ей.
– Вот сейчас Володя со службы придёт, и сядем за стол, – сказала Варвара Павловна.
И только тогда я осторожно, дрогнувшим голосом, спросил:
– А Наташа?
– Наташа у нас в Ленинграде, на практике, – сказала её мама таким тоном, словно была удивлена, что это мне не известно.
Что я почувствовал в те минуты? Не знаю. Мне очень хотелось увидеть её, но я не мог себе представить, как посмотрю ей в глаза. И нужно же было случиться такому совпадению – я приехал в Крым, а она уехала в Ленинград на практику. Самое удивительное, что практика была достаточно долгой, и Наташа должна была вернуться только в январе, причём уже после окончания моей путёвки, а, следовательно, и пребывания в Крыму.
За ужином сидели долго, Наташин папа живо интересовался моей службой, ведь я после окончания училища менее двух лет командовал взводом, затем получил роту, и вот теперь – отдельную роту. Мало того, уже сменил два места службы. Успел послужить в Москве, в Калинине, а теперь вот в глухомани.
База боеприпасов дислоцировалась в 20-30 – километрах от города Бологое. Он очень удивился, что я уже давно командую ротой, к тому же с августа-месяца – отдельной, что управляюсь с пятью взводами и целым, хоть и не очень большим, войсковым хозяйством. Собственно, когда меня инструктировали перед направлением на должность командира отдельной роты, кадровик сказал, что там я буду, как маленький командир полка, ну а личного состава в роте больше чем в кадрированном мотострелковом полку.
– А я ушел в запас, – сказал он и прибавил: – По увольнению присвоили майора.
Его удивление по поводу моего быстрого шествия по службе было понятно – в послевоенные годы продвижение было медленным, ведь армия сокращалась до штатов мирного времени. А потом ему ещё пришлось застать необдуманные и ничем не обоснованные хрущёвские сокращения.
Я всё время ждал вопроса о том, что случилось между нами с Наташей, но такого вопроса никто не задал. Окунувшись в обстановку, родную до боли сердечной, я вдруг со всею остротой почувствовал и осознал, какую страшную ошибку совершил в своей жизни. Не знал одного – исправима ли теперь эта ошибка?
Мы выпили, и напряжение немного спало. Тогда я вдруг с полной искренностью и неизъяснимой печалью сказал, что очень жалею, что вышло так, как вышло.
Наташина мама стала успокаивать, но о том, как сложилась личная жизнь Наташи, так и не сказала. А я и спросить боялся. Любой ответ был ужасен для меня. Замуж вышла – удар, не вышла – тоже, поскольку в этом случае она оказывалась свободной, а я нет. Да и могла ли она простить то моё предательство? Если б ещё не был женат, полбеды, а уж коль женился, говорить нечего.

Наутро я отправился рейсовым автобусом в Судак. Автобус шёл, как показалось мне, очень долго. Из суровой зимы я перелетел в Крым, где было гораздо теплее. Но на перевале, через который перебирался по пути в Судак, было как-то не очень уютно. Всё-таки конец декабря. Серая лента шоссе, грязно-серые обочины. Низкая облачность, ветер. На душе было не очень уютно.
Наконец, я добрался до приёмного отделения. В довершении к без того уж не слишком радостному настроению неприятно поразила разметка на дорожках внутри санатория. По незнанию санаторской жизни, решил, что здесь ежедневно проводятся утренние физические зарядки и прочие физкультурные мероприятия. А я от них ещё не очень отдохнул, ведь после окончания училища, где их с лихвой хватало, прошло чуть более двух лет.
В приёмном отделении мне задали вопрос, который был, видимо, риторическим и ответ на который ничего не значил. Спросили, в какой я хочу поселиться корпус, словно я знал, куда проситься. Сказал, что хотелось бы, чтобы было больше молодёжи… Назвали номер корпуса… Кстати, поселили, что выяснилось уже во второй половине моего отдыха, более чем удачно для меня. Но об этом в своё время.
Оформился, вышел из приёмного отделения и направился к корпусу, который располагался на набережной довольно близко от моря. В летнее время, вероятно, этот корпус был самым удобным, а зимой… Зимой скорее наоборот… Порою ветер стучал в окна…
Получил ключ, вошёл в номер… В номере – четыре кровати. Правда, номер со всеми удобствами. Заканчивался 1971 год… Думал ли я, что уже в 1977-м я получу возможность выбирать себе номер, да ещё одноместный?! Не думал, поскольку вообще не представлял себе, что такое санаторно-курортный отдых…
В номере пусто. Правда видно, что две койки заняты, две – свободны. Выбрал ту, что ближе к двери, поскольку у окна, как мне показалось, могло быть холодновато.
Что делать? Как начинать отдых? Разделся и лёг отдыхать. Но заснуть не мог. И тогда достал книгу, которую предусмотрительно взял из своей библиотеки. Помню, это был один из томов Константина Федина. А нём – роман «Костёр». Лишь сравнительно недавно я подписался на собрание сочинений в Книжной лаве писателей, в которую ходил по отцовскому членскому билету Союза писателей СССР.
Даже на такое собрание невозможно было подписаться в обычном магазине. Я же не слишком понимал, что творится в советской литературе. Попытался читать – скукота. Нашёл, что взять. А ведь в моей домашней библиотеке было немало хороших книг.
И всё же некоторое время пытался читать и даже, благодаря этому чтению, из которого не отложилось нечего, стал засыпать. И вдруг… Дверь с шумом отворилась, и в комнату ворвался коренастый брюнет лет тридцати. Он спросил, которая из коек свободна и почти от двери бросил на неё чемодан.
Снял пальто, повесил в стенной шкаф, прошёл к своей кровати и, обернувшись, с удивлением спросил:
– Что лежишь? Ты что книжки читать сюда приехал?
– Я только перед вами прибыл, – пояснил я. – Решил отдохнуть с дороги.
– Поднимайся! Это ж санаторий. Здесь нельзя терять ни минуты. Вперёд и выше!
– Куда в такую погоду? Дождь на улице, – сказал я с удивлением.
– Как это куда? Знакомиться с девушками… А дождь нам не помеха, – и повторил. – Нельзя терять ни минуты… Итак уже половина первого дня отдыха прошла. Одевайся, одевайся… Кстати, как тебя зовут?
– Николай…
– Владимир, – представился он. – И безо всяких там выканий! Мы не на службе. Да и я не Бог весть какой начальник… Служу в лётном училище, учу курсантов летать на тяжёлых аэропланах. А ты, вижу, пехота?
– Да, командую отдельной ротой в лесу.
– Уже ротный? Неплохо. Давно училище окончил?
– Два года назад…
– Ну, так вперёд, пехота! Как там у вас? Быстрота и натиск!?
Я нехотя оделся, нацепил шинель…
– Это что же ты в форме заявился сюда? – спросил он.
– Спросил у начмеда, в чём ехать, а тот сказал, что лучше в форме, – пояснил я.
– Ну и начмед! Он что, в санаториях не бывал?
– Двухгодичник…
– Тогда ясно…

Владимир раскрыл чемодан, извлёк оттуда белую рубашку. Из неё выпала какой-то листок, как оказалось, фотография. Он поднял фотографию, развернул её и рассмеялся, заметив:
– Ну, молодчина моя жена, ну молодчина... Ты послушай, что пишешь… «Знаю, что первым делом возьмёшь рубашку… Когда будешь надевать её, вряд ли вспомнишь обо мне, но прошу: вспомни о детях…» Н-да, не сомневалась, что я в первый же день отправлюсь куда-то…
Он быстро разложил какие-то вещи по полкам прикроватной тумбочки, остальные так и оставил в чемодане и вновь обратился ко мне:
– Ты готов? Идём.
Я повиновался, но, прямо скажем, без особого энтузиазма. В чём заключается отдых в санатории, пока ещё не знал совершенно. До обеда оставалось часа два. Что же делать на пустынной набережной в первой половине дня? Чай не лето… Пляж пустынен, да и на набережной никого.
По серому небу мчались серые тучи тех же оттенков, что и само небо. Моросил надоедливый дождь. Сердитые волны бросались на волнорезы, дробились, поднимая облака брызг и пены, а за ними накатывались новые и новые. Море гудело, рычало, бурлило, и насколько хватало глаз бежали по нему буруны с пенными хребтами.
– Да, летом здесь веселее, – сказал Владимир.
– Приходилось отдыхать летом? – спросил я.
– Конечно… Это ж наш санаторий. Он так и называется Судакский санаторий ВВС…
– А что это там? – спросил я, указывая на крепостную башню вдали, на скале.
– Генуэзская крепость…
– Почему Генуэзская? – подивился я.
– А шут её знает. Вроде как построена генуэзцами.
– Это понятно, что раз Генуэзская, значит, построена генуэзцами, – сказал я. – Но они-то как здесь оказались? Постой, постой, что-то помню. Слышал, что хана Мамая после разгрома орды именно в Крыму удавили генуэзцы, которых он нанял для битвы и которые там потеряли всех своих воинов.
– Может быть, вполне может быть, – проговорил Владимир, пристально вглядываясь в какие-то строения на берегу.
Это уж значительно позже я узнал, что крепость действительно построена где-то в четырнадцатом, пятнадцатом веках и что она служила прикрытием колонии Генуэзской, которая называлась Солдайя (итал. Soldaia). Вот для обороны колонии и построена. А в тот день я подивился, что новый мой знакомый, не раз здесь отдыхавший, так и не удосужился узнать, что это за крепость, и даже не попытался попасть туда на экскурсию. Подумал тогда, что уж я-то точно побываю на такой экскурсии. Рано подумал… Не знал, что такое «активный отдых» в военном санатории.
А Владимир, между тем, уже тащил меня куда-то, преодолевая инертное моё сопротивление.
– Видишь, – говорил он с воодушевлением. – Дамская парикмахерская. То, что нам нужно…
– Зачем? Зачем нам дамская парикмахерская? – удивился я.
– В этой прибрежной пустыни только там можно счастье найти, – весело отозвался Владимир, решительно открывая стеклянную дверь.
Я робко вошёл следом. Небольшой коридорчик уставленный стульями. В коридорчике никого. Если кто и есть, то только в зале. Владимир уверенно вошёл в зал. Я осторожно заглянул туда. На приятеля моего зацыкали, возмущённые пациентки, но он тут же рассыпал бисером комплименты каждой сидящей в зале. Это возымело действие. Он стал что-то с жаром рассказывать, а сам осматривался и оценивал обстановку. Через некоторое время он уже выбрал цель и стал разговаривать с парикмахершей лет тридцати, высокой, дородной и миловидной.
Я продолжал робко стоять в дверях. Меня никто не прогонял, но и особого интереса ко мне некому было проявить – все, находившиеся в зале женщины, были старше меня, по меньшей мере, на пять-семь, а то и более лет. Ну а о моём ещё почти юном возрасте красноречиво свидетельствовали лейтенантские погоны.
Наконец, Владимир, дождавшись паузы в работе приглянувшейся ему парикмахерши, и попросил её выйти на минутку в коридор. А там сразу, без предисловий, предложил вечером встретиться и попросил взять с собой подругу, для… Он кивнул в мою сторону.
– Есть подруга, есть, – весело ответила парикмахерша. – Как раз для вас, молодой человек…
Условились, что встретимся у забегаловки под названием «Бочка». Я так и не понял – официальным являлось то название или употребляемым отдыхающими между собой.
Бочка, надо думать, потому что там продавали бочковое пиво. Ну и шашлыки. Курортные города отличались некоторой, хоть и незначительной, но свободой торговли пивом, лёгкими винами. В той же «бочке» были и «бочковые вина». Скорее даже из-за бочковых вин она приобрела это название.
Владимир, как постоянный отдыхающий санатория, прекрасно знал, где находилась эта «бочка».
Мы покинули парикмахерскую и вышли на улицу. Всё также моросил дождь, темнело на глазах – декабрь. К сумеркам ветер стал немного стихать, и море ворчало уже не так грозно, как днём, когда я впервые увидел его в столь неурочное время года.
Судак… Это восточнее Алушты, восточнее того незабываемого для меня места, где я всего лишь три года назад, а если точнее три года и три месяца, провёл волшебные недели с Наташенькой Черноглазкой. Это было недавно, но как это было давно – давно, потому что за эти три года произошло столько событий и свершилось то невозвратное, о чём я давно уже жалел, с грустью вспоминая свои ошибки, всё более осознаваемые…
– Ну что ж… Начало положено. Но не будем почивать на лаврах. Попробуем ещё кого-то найти…
– Зачем же? Ведь договорились, кажется, – удивился я.
– Вот именно, «кажется», – возразил он. – Во-первых, могут не прийти, во-вторых, неизвестно, что там будет за подруга… Ну и потом у нас впереди целый отпуск – не зацикливаться же на первых встречных… Работать надо! Работать!
Этот подход мне был непонятен. Хотя я, конечно, понимал, что подруга может оказать и такой, что придётся для приличия побродить с ней с полчаса, да и ретироваться под благовидным предлогом.
Набережную постепенно окутывали сумерки. Неожиданно впереди замаячила одинокая женская фигура. Владимир оживился.
– Давай догоним, – предложил он. – Фигурка вроде бы ничего. Пошли, пошли…
Мы догнали молодую женщину, которая показалась довольно миловидной, во всяком случае, при мутном свете фонарей. Владимир заговорил с ней, она охотно отвечала на какие-то его обыкновенные в таких случаях вопросы и дежурные комплименты.
Мне всё это не очень нравилось, но, тем не менее, я шёл рядом. Женщина осмотрела нас оценивающим взглядом и вдруг как-то неожиданно прильнула ко мне. Я вежливо отстранился. Она снова пострела на меня и, видимо, оценив возраст, обратила внимание на Владимира. Потом она на протяжении прогулки ещё раз показывала своё преимущественное расположение то мне, то Владимиру и, наконец, очевидно, поняв, что я сторонюсь её, забыла обо мне окончательно.
Я потихоньку отстал от них, и встретились с Владимиром мы уже в вестибюле столовой.
– Ты что ушёл? – спросил он.
– Не хотел мешать…
– Чудак человек. Ну ладно. Не забыл, что после ужина рандеву?
– Не забыл, – вздохнул я.
Идти мне, между нами говоря, никуда не хотелось. В столовой тепло, в жилом корпусе даже уютно, а на набережной ветер задувал, да изморозь лезла в лицо. Белые буруны волн хоть и поубавились, но были видны сквозь ночной мрак и даже казались зловещими в тусклом отсвете фонарей, выстроившихся вдоль набережной.
Ну, да делать нечего. Попал я под влияние своего соседа по комнате. Он буквально подавлял окружающих своей неукротимой энергией, своей напористостью.
Точно в назначенное время мы подошли к «бочке», и спустя минуту появились наши девушки. Посмотрели мы с Володей на ту, что предназначалась мне, и невольно переглянулись. В его глазах я прочитал удивление. Обычно девицы, собираясь на свидание, стараются взять с собой дурнушек, чтобы на их фоне выглядеть эффектнее. Но парикмахерша оказалась выше всех этих тайных соображений. Она привела с собой девушку очень и очень привлекательную, даже красивую.
– Тамара! – представила она её.
Мы пригласили девушек в «бочку» выпить по бокалу вина и съесть по шашлычку. Когда заходили, пропуская их вперёд, Володя сказал:
– Ну тебе повезло… Смотри, что б были быстрота и натиск. А то отобью! – и прибавил засмеявшись: – Шучу.
Но я понял: в каждой шутке есть доля правды, а потому собрался, оживился и привёл в действие своё красноречие, несколько задремавшее в минувшие годы первой семейной клетки.
Вечер прошёл весело. Потом мы прошли провожать новых своих знакомых. Провожали по разным маршрутам. Пришлось поглядывать на часы – санаторские корпуса закрывали в ту пору рано, ну а всякие там лазейки, наподобие проникновения через огромную лоджию, первого этажа и окно, пока мне были неведомы.
Мы с Тамарой немного посидели в тихом и уютном дворике на скамеечке под навесом. Свет фонарей освещал часть дворика, но мы были в неосвещённой его части.
Я выяснил, что новая моя знакомая работает на городской телефонной станции, что фамилия у неё Ефанова. Была она моей сверстницей, ну разве что на годик другой моложе, а, может, и нет. О возрасте не спрашивал. Не потому что у женщин спрашивать непринято, просто незачем было. Холостяком я не сказывался, да её этот вопрос особенно и не волновал. Просто не касались темы. Кроме того, что она родилась и выросла в Судаке и живёт здесь с родителями и младшей сестрой, она ничего не рассказала. Да и что рассказывать? Городок небольшой, курортный. За счёт Военного санатория здравствует. Отдыхающие круглый год, хотя, конечно, зимой их не так уж и много. Зато летом пруд пруди. На пляже яблоку некуда упасть.
В таких городках, где есть санатории, и особенно военные санатории, самое престижное место работу именно в этих самых здравницах. Там есть шанс и замуж выйти. А так? Наверное, небогат был городок женихами, если такая красивая девушка как Тамара встречалась с отдыхающим без особых надежд на то, что эта встреча изменит её судьбу. Ну а встречаться с лейтенантом, если уж цели какие-то есть, наверное, целесообразнее с холостым. Иначе ни развлечений богатых, ни подарков… Возможности не так уж и велики. Если не помышлять о чём-то серьёзном, тогда уж лучше выбрать себе ухажёра постарше. Я не слишком тогда вдумывался во все эти перипетии курортных дел, но то, что на встречи со мной пошла такая девушка как Тамара, не могло не льстить моему самолюбию.
Назад возвращался по пустынным улицам. Темно… Лишь изредка попадались участки тротуаров, освещённые фонарями. Было такое впечатление, что город уже спал. Возможно… Ведь зимние ночи в тех краях длинные, ветреные, холодные. Даже если плюсовая температура, ветер с моря выдувает тепло. Недаром говорили, что в Судаке зимой, как в аэродинамической трубе.
Развлечений в Судаке зимой не так уж и много. Центр всего и вся – всё та же «бочка» с шашлыками и сухим вином в разлив...
Продолжение следует.
Иоанн Грозный: правда и вымыслы
Главы из новой книги "ГЕНИЙ, ЧТОБЫ ЦАРСТВОВАТЬ"
Первая книга серии "История, которую мы не знали".
"Православие, Самодержавие, Соборность"
Вот три кита, на которых строилось Царство Иоанна Грозного и государственная власть, которую он не только утвердил на практике, но и обосновал в теории, показав себя поистине гениальным теоретиком Православного Русского Самодержавия. Это отметил и С.М. Соловьев: «Иоанн был первым Царём не потому только, что первый принял Царский титул, но потому, что первый осознал вполне всё значение Царской власти, первый составил сам, так сказать, её теорию, тогда как отец и дед его усиливали свою власть только практически».
Иоанну Васильевичу это удалось ещё и потому, что он был талантливейшим писателем и публицистом своего времени. Это отмечали современники, говоря, что он «муж чудного разумения, в науке книжного почитания доволен и многоречив».
Лев Александрович Тихомиров писал: «Права Верховной власти, в понятиях Грозного, определяются христианской идеей подчинения подданных. Этим даётся и широта власти, в этом же и её пределы (ибо пределы есть и для Грозного). Но в указанных границах безусловное повиновение Царю, как обязанность, предписанная верой, входит в круг благочестия христианского. Если Царь поступает жестоко или даже несправедливо – это его грех. Но это не увольняет подданных от обязанности повиновения».
Изменнику Веры, Царя и Отечества князю Курбскому, перебежавшему в стан врага, а затем вместе с врагом ополчившемуся на Русь, но оправдывавшему свою измену тем, что он, де, опасался гнева Царского, Иоанн Васильевич писал: «Если ты праведен и благочестив, то почему же ты не захотел от меня, строптивого владыки, пострадать и наследовать венец жизни?». Царь обвинил Курбского в том, что тот «своею изменою душу свою погубил».
Иоанн Васильевич сознавал свою личную ответственность за то, как он распоряжался властью и указывал, что, если подданный ему доверяет и ему повинуется, то Царь обязан праведно поступать с подданным, ибо он «поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на милование». Иоанн Ладожский уточнил и развил то, чему учили святые преподобные старцы следующим образом: «Князь (Государь), как имеющий от Бога власть, должен будет ответить за то, как он её использовал – во благо ли? Власть лишь особое служение, источник дополнительных религиозных обязанностей.Князь (Государь) распорядится властью достойно, богоугодно, если употребит её на защиту веры и помощь нуждающимся».
Иоанн Васильевич говорил:«Верую, яко о всех своих согрешениях, вольных и невольных, суд прияти ми яко рабу, и не токмо о своих, но и подвластных мне дать ответ, аще моим несмотреним согрешают».
Государь поставлен от Бога в значительно более ответственное положение: кому много дано, с того много и спросится.
«Иное дело свою душу спасати, иное же о многих душах и телесах пещися», – считал Царь.
Анализируя учение Царя Иоанна Васильевича, Лев Тихомиров указывал: «Обязанность Царя нельзя мерить меркой частного человека. Нужно различать условия.Жизнь для личного спасения – это «постническое житье», когда человек ни о чём материальном не заботится и может быть кроток, как агнец. В общественной жизни это уже невозможно».
Иоанн Грозный указывал, что «Царское управление требует страха, запрещения и обуздания» ввиду «безумия злейшего человеков лукавых». То есть не сам Царь по прихоти своей вынужден действовать силою страха и запрещения, но его принуждают к тому лукавые и злые слуги тёмных сил. Важно помнить, что «Царь сам наказуется от Бога, если его несмотрением происходит зло…А жаловать есми своих холопей вольны, а и казнить их вольны же есмя… Егда кого обрящем всех сил злых освобождённых, и к нам прямую свою службу содевающим, и не забывающим порученной ему службу, и мы того жалуем великими всякими жалованьями; а иже обрящется в супротивных, еже выше рехом, по своей виен и казнь приемлет».
Да, Царь не может быть кротким, Царь обязан быть суровым, причём обязан даже крутостью, а то и казнью содействовать спасению душ подданных. Верующему человеку понятно, что для иного и тюрьма, да и казнь во благо, если это может душу спасти от погибели. Земная же безнаказанная жизнь для такого – погибель для души. «Овых милуйте рассуждающее, овых страхом спасайте, – говорил Иоанн Васильевич. – Всегда Царям подобает быть обозрительными: овогда кротчайшим, овогда же ярым; ко благим убо милость и кротость, ко злым же ярость и мучение; аще ли сего не имеет – несть Царь!». Если не можешь быть жёстким и твёрдым, ты не Царь, ибо правление твое лишь разлагает людей и приуготовляет души слабых к погибели.
Из всего сказанного выше вытекает, что всякого рода пасквилянты и клеветники, именующие себя историками России, поступают безсовестно, возводя хулу на Православных Государей, которые несли нелегкое тягло Государственной Державной службы, отвечая перед Богом не только за себя и свои души, но и за подданных и их души. Все эти писаки, не достойны мизинца любого из Православных Государей. Они являются злостными преступниками, губящими души собственные и души тех, кто, поверив в их пасквили, несёт зло клеветы далее. К книгам клеветников опасно прикасаться, ибо об них очень легко замараться, не умея различать написанное: где добро, а где зло.
Самодержавие и парламентаризм
В Европе, современной Иоанну Грозному, ни малейшего понятия о Самодержавном правлении не имели. В Швеции, к примеру, королевская власть целиком и полностью зависела от дворянства, сборища которого заставляли короля повиноваться многомятежным хотениям собравшихся и удумавших что-либо себе на пользу. Английская королева тоже потеряла свою власть. Французский король не смел принять ни одного решения, не посоветовавшись со всякого рода сборищами аристократии.
Иоанн Грозный так характеризовал подобную власть: «А о безбожных языцех, что и глаголати! Понеже те все царствами своими не владеют: како им повелят работные их, и тако владеют». Или вот ещё мнение Царя: «А в Государевой воле подданным взгоже бытии, а где Государевой воли над собой не имеют, тут яко пьяны шатаютца и никоего же добра не мыслют… Аще убо Царю не повинуются подвластные, никогда же от междоусобные брани не перестанут».
В парламентаризме Царь видел неминуемую гибель Государства, ибо «тамо особь каждо о своём печеся». О себе говорил: «Мы же уповаем на милость Божию… и, кроме Божия милости и Перчистыя Богородицы и всех святых, от человек учения не требуем, ниже подобно есть, еже владеете множества народа от инех разума требовати». Курбскому Царь указывал: «Ино се ли совесть прокажённая, яко своё Царство во своей руке держати, а работным своим владети не давати? Или се ли сопротивен разумом, еже не хотети быть работными своими обладанному и овладенному?».
Иоанн Грозный на исторических примерах доказывал, что Царь, как Помазанник Божий, как от Бога поставленный, осуществляет свою власть, опираясь на Церковь, но не повинуясь её иерархам. «Или мниши сие бытии светлость и благочестие, еже обладатися Царству от попа-невежи (намёк на Сильвестра, изменившего Царю, и защищаемого Курбским), от злодейственных и изменных человек, и Царю повелеваему быть? Нигде же обрядеши, ещё не разоритися Царству, еже от попов владому».
В послании Курбскому Царь приводит примеры гибели царств, когда священство начинало заниматься светскими делами и брало на себя управление (Израиль, Рим, Византия). «Смотри же убо се и разумей, каково управление составляется в разных начелех и властех, понеже убо тамо быша царие послушные епархам и сигклитом, и в какову погибель приидоша?. Сия же убо нам советуеши, в еже таковой погибели приитти?». Или: «И се ли Православие пресветлое, еже рабы обладанному и повеленному быти?».
Христианство отвергает притязания подданных на власть, ибо существует только один источник власти – Бог. Иоанн Васильевич демонстрировал уникальное знание Священной истории и истории Царств, он убедительно доказывал, что государства могут процветать только при единодержавии, но никак не при "многомятежном" самоуправстве знати.
Ужасающий пример безсилия королевской власти являла Польша. Там король избирался шляхтой. Грозный с сарказмом писал, что Сигизмунд IIАвгуст «…еже ничем же собою владеюща, но паче худейша худейших рабов суща, понеже от всех повелеваем, а не сам повелевае …». Одним словом, повелевали королем все, кому не лень. Он же никем не повелевал без воли на то шляхты. И это не было преувеличением. Кстати, когда польский король сделал попытку утвердить свою власть с помощью опричнины (по примеру Иоанна Грозного), Сейм запретил ему делать это.
С полным презрением относился Русский Царь и к шведскому королю, тоже безвластному: «А то правда истинная, а не ложь, что ты мужичий род, а не государьский». Иоанн Васильевич называл его старостой в волости, но не королём.
Упрекал Иоанн Васильевич в безвластии и английскую королеву, которой в 1570 году писал: «И мы чаяли того, что ты на своём государстве государыня и сама владеешь и своей государьской чести смотришь, и своему государству прибытка… Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не только люди, но мужики торговые, и о наших о государьских головах, и о честех, и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своём девическом чину, как есть пошлая девица».
О себе же говорил: «… а наш Государь, его Царское Величество, как есть Государь истинный и Православный христианский… и благим жалование подаёт, а злых наказует». И учил: «Хочеши убо не боятися власти? Благое твори; аще ли злое твориши – бойся, не туне бо мечь носит, в месть убо злодеям, в похвалу же добродеем».
Таким образом, Иоанн Грозный не только укрепил за своё царствование Самодержавную власть, но обосновал её теоретически и усилил единением с народом путём создания Земских Соборов. С помощью опричнины он подавил боярскую оппозицию, но как показали дальнейшие события, не уничтожил её полностью. Бояре крамольники отравили мать Иоанна Васильевича Елену Васильевну Глинскую, отравили любимую жену его Анастасию, отравили сына и наследника престола царевича Иоанна Иоанновича, сочинив при этом миф о сыноубийстве, отравили и самого Царя, что твёрдо и чётко доказано на основе исследования останков всех вышеперечисленных жертв крамольного боярства.
Грозный сына не убивал
Убийство Царём Иоанном Грозным своего сына – омерзительная клевета, которую сочинил посланец папы римского монах-иезуит с нарушенной ориентацией Антоний Поссевин, подхватил его друг любезный Генрих Штаден (шпион римского императора), а распропагандировал Карамзин по поручению тайных обществ. (См. Русский вестник, № 2 и далее за 2005 год).
Причём, судя по измышлениям выдумщиков с явно болезненным воображением, Иоанн Грозный убивал сына, по крайней мере, дважды и оба раза наповал. Один раз это случилось в Москве в покоях невестки – что и изображено на клеветнической картине Репина. Затем, оплакав убиенного, как показано на картине, Царь убил его ещё раз во время переговоров о мире с поляками – переговоров, которые проходили примерно спустя месяц после смерти царевича, которая последовала, как теперь уже доказано, от отравления сулемой.
По поводу этих омерзительных выдумок Иоанн Ладожский писал: «Один из наиболее известных иностранцев, писавших о России времён Иоанна IV, – Антоний Поссевин. Он же один из авторов мифа о «сыноубийстве», т.е. об убийстве царём своего старшего сына. …Монах иезуит Антоний Поссевин приехал в Москву в 1581 году, чтобы послужить посредником в переговорах Русского Царя со Стефаном Баторием, польским королём, вторгшимся в ходе Ливонской войны в русские границы. Будучи легатом папы Григория XIII, Поссевин надеялся с помощью иезуитов добиться уступок от Иоанна IV, пользуясь сложным внешнеполитическим положением Руси. Его целью было вовсе не примирение враждующих, а подчинение Русской Церкви папскому престолу…». Задача старая – формально-христианская католическая церковь, потеряв надежду сломить Православную Русскую Церковь открыто путём крестовых походов и тайно с помощью ересей, стремилась теперь добиться этого обманом, суля Иоанну Грозному, в случае если он предаст истинную веру, приобретение «всей империи Византийской, утраченной греками будто бы за отступление от Рима».
Но Иоанн Васильевич Грозный не прельстился посулами. Он ответил жёстко и твёрдо: «Ты говоришь, Антоний, что ваша вера римская – одна с греческою вера? И мы носим веру, истинно христианскую, но не греческую. Греки нам не евангелие, у нас не греческая, а Русская вера».
Можно себе представить, в каком бешенстве был подлый иезуит. И хотя он приехал в Москву месяца через два после смерти царевича Иоанна, как доказано, естественной, распустил по всему миру слух, что был свидетелем убийства Иоанном Грозным своего сына. Цель – оклеветать праведного Русского Царя, выгоднейшим образом отличавшегося от западных мракобесов и живодёров. Кроме того, ему важно было оправдать провал своей миссии тем, что, мол, с Грозным Царём договориться нет никакой возможности, ибо он невменяем и даже сына убил.
Иоанн Ладожский разоблачил эти омерзительные выдумки: «Обе версии совершенно голословны и бездоказательны. На их достоверность невозможно найти и намёки во всей массе дошедших до нас документов и актов, относящихся к тому времени. А вот сведения о естественной смерти царевича Ивана имеют под собой документальную основу. Ещё в 1570 году болезненный и благочестивый царевич, благоговейно страшась тягот предстоявшего ему царского служении, пожаловал в Кирилло-Белозерский монастырь огромный по тем временам вклад в тысячу рублей. Предпочитая мирской славе монашеский подвиг, он сопроводил вклад условием, чтобы «ино похочет постричися, царевича князя Ивана постригли за тот вклад, а если, по грехам, царевича не станет, то и поминати». Косвенно свидетельствует о смерти Ивана по болезни и то, что в «доработанной» версии о сыноубийстве смерть его последовала не мгновенно после «рокового удара», а через четыре дня, в Александровской слободе».
Впоследствии, стало ясно, почему царевич угасал четыре дня – это было вызвано отравлением сулемой. Но об этом далее.
Подхватил и «творчески» развил версию о «сыноубийстве» и ещё один омерзительный проходимец из иноверцев и инородцев Генрих Штаден, прибывший в Москву с задачами разведывательного характера. Генрих Штаден, как водится, оставил клеветнические записки, которые Карамзин по указанию тайных лож принял за истину в последней инстанции, и которые впоследствии были разоблачены советскими историками.
И.И. Полосин назвал их «повестью душегубства, разбоя, татьбы с поличным», причём отличающиеся «неподражаемым цинизмом». Они представляли собой «безсвязный рассказ едва грамотного, необразованного и некультурного авантюриста», содержащий «много хвастовства и лжи!». Так их характеризовал советский историк С.Б. Веселовский. Вернувшись в Германию, Штаден составил записки, в которых изложил проект завоевания Московии. Проект жесток – в основе его предложения Штадена по уничтожению Соборов, Храмов и монастырей, разгром Православной веры, по превращению русских людей в рабов германского воинства.
Вот чьими данными пользовались иные русские историки, описывая в своих опусах эпоху Иоанна Грозного.
В. Манягин в книге «Вождь Воинствующей Церкви» указывает: «В Московском летописце под 7090 годом читаем: «представися царевич Иоанн Иоаннович»; в Пискаревском летописце: «В 12 час нощи лета 7090 ноября в 17 день… представление царевича Иоанна Иоанновича»; в Новгородской четвертой летописи: «Того же [7090] году представился царевич Иоанн Иоаннович на утрени в Слободе…»; в Морозовской летописи: «не стало царевича Иоанна Иоанновича». Во всех летописях нет и намёка на убийство». Даже один француз на русской службе Жак Маржерет опроверг версию об убийстве, сообщив, что слышал слух о том, что, якобы, Царь в ссоре ударил царевича, и сообщил уверен: «Но умер он не от этого, а некоторое время спустя, в путешествии на богомолье» (Маржерет Ж. Состояние Российской Имперской Империи и Великого Княжества Московского. – В кн.: Россия XV– XVIIвв. глазами иностранцев. – Л., Лениздат, 1986, с.232).
Во втором Архивском списке Псковской третьей летописи «летописец никак не связывает два факта: ссору Царя с царевичем в 7089 году и его смерть в 7090 году». Добавим: в конце года. А вот о том, что царевич был отравлен боярами из весьма близкого окружения, свидетельствуют серьёзные факты. В. Манягин указывает: «По поводу болезни (царевича Иоанна) можно сказать определённо – это было отравление сулемой. Смерть, вызванная ей, мучительна, а доза, вызывающая такой исход, не превышает 0,18 г. В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля были вскрыты четыре гробницы: Иоанна Грозного, царевича Иоанна, Царя Фёдора Иоанновича и полководца Скопина-Шуйского.
При исследовании останков была проверена версия отравления Грозного. Учёные обнаружили, что содержание мышьяка примерно одинаково во всех четырёх скелетах и не превышает нормы. Но в костях Царя Иоанна и царевича Иоанна было обнаружено наличие ртути, намного превышающее допустимую норму. Некоторые историки (клеветники) пытались утверждать, что это вовсе не отравление, а последствие лечения сифилиса ртутными мазями. Однако исследования показали, что сифилитических изменений в останках Царя и Царевича не обнаружено.
После того, как в 1990-х годах провели исследование захоронений Московских Великих Княгинь и Цариц, был выявлен факт отравления той же сулемой матери Иоанна Васильевича, Елены Глинской (1538) и его жены Анастасии Романовой (1560). Это свидетельствует о том, что царская семья на протяжении нескольких десятилетий была жертвой отравителей из самого близкого окружения.
Данные этих исследований позволили утверждать, что царевич Иоанн Иоаннович был отравлен. Содержание яда в его останках во много раз превышает предельно допустимую норму».
В.В.Манягин ссылается на материалы учёных, опубликованные в периодической печати после проведения исследований. (Павел Коробов. Царская усыпальница. "Независимая газета" от 26. 04. 2002 г; "Итоги", №37 (327) от 17. 09. 2002 г., с. 38-39, и др.).
После того, как в 90–е годы было проведено исследование захоронений московских великих княгинь и цариц, установлен факт отравления той же сулемой матери Иоанна Васильевича, Елены Васильевны Глинской (умерла в 1538 году) и его первой жены Анастасии Романовой (умерла в 1560 году). Это свидетельствует о том, что царская семья на протяжении нескольких десятилетий была жертвой отравителей. (См. П. Коробов. Царская усыпальница. – «Независимая газета», 2000, 26 апреля). Данные этих исследований позволили утверждать, что Царевич Иоанн был отравлен (см. «Итоги», № 37(327), 2002, 17 сентября, с. 38–39). Содержание яда в его останках во много раз превышает допустимую норму. Таким образом, историческая наука опровергает версию об убийстве Царём Иоанном Васильевичем своего сына».
Но вот что удивительно. Среднестатистический обыватель-интеллект-агент, умеющий мыслить в рамках, дозволяемых средствами массовой дезинформации, искренне считает неопровержимым доказательством убийства Иоанном Грозным своего сына клеветническую картину Репина, написанную по заказу ордена русской интеллигенции (интеллект-агентции). Между тем, уже проведено достаточное количество исследований и научные данные давно обобщены, просто свобода слова у нас в стране устроена так ловко, что можно свободно клеветать на великих деятелей прошлого, но реабилитировать их нельзя. Это, де, мало интересно читателям, зрителям, слушателям. Книги же правдивые выходят слишком малыми тиражами, чтоб они могли довести истину до широких масс.
Передо мною такая вот книга добросовестного исследователя старины Вячеслава Геннадьевича Манягина «Апология Грозного Царя». Говоря о лицемерии историков, он приводит убийственные факты, ссылаясь на конкретные источники, в числе которых документы Археологического музея «Московский Кремль». В книге помещена таблица, в которой указано, кто из Царствующего дома и чем был отравлен. *
*
Жертвы отравления содержание в мг на 100 г массы
тела
мышьяка ртути
Княгиня Ефросинья Старицкая, тётка 12,9 0.10
Иоанна Грозного
Мария Старицкая (5–7) лет, троюродная 8,1 0,11
Племянница Иоанна Грозного
Мария (младенец), дочь Иоанна Грозного 3,8 0,2
Царевич Иоанн, сын Иоанна Грозного 0,26 1,3
Царь Иоанн Грозный 0,15 1,3
Великая княгиня Мария Борисовна, первая 0,3 1,05
Жена Ивана Третьего
Царица Анастасия, первая жена Иоанна 0,8 0,13 в костях,
Грозного 4,8 в волосах
Царь Феодор Иоаннович, сын Иоанна Грозного 0,8 0,03
Великая княгиня Елена Глинская, мать Иоанна 0,8 0,05
Грозного
Царица Мария Ногая, жена Иоанна Грозного 0,1 0,6
Великая княгиня Софья Палеолог, бабушка 0,3 0,05
Иоанна Грозного
Князь Михаил Скопин–Шуйский 0,13 0,2
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 0,08 0,04
* Вячеслав Манягин. Апология Грозного Царя, М., 2004, с.115.
Как видим, злодеи-нелюди, которых даже зверьём не могу назвать, не желая оскорблять животный мир, не щадили даже детей, даже младенцев. В последние годы было немало споров по поводу канонизации Царя Иоанна Васильевича Грозного. То, что он канонизирован ещё в ХVIIвеке Царём Михаилом Фёдоровичем и его отцом Патриархом Филаретом Никитичем, забыто. Но сейчас не о том речь. Противники канонизации придумали, что у Царя Иоанна Васильевича было семь жён и что он был лишён права причастия как многожёнец. Лицемерие изуверское. Последователи тех, кто регулярно травил жён и детей Государя, теперь обвинят его в том, к чему принуждали преступлениями, ведь Царю приходилось жениться вовсе не прихоти ради. Прося разрешение на четвёртый свой брак (четвёртый, а не седьмой), он вопрошал, как же можно иметь наследника престола, если нет жены? В. Манягин сообщает в книге, что Царь Иоанн писал о причинах смерти не только Царицы Анастасии, но и других своих жён в прошении на имя Освящённого Собора с просьбой разрешить ему четвёртый брак: «…И отравами Царицу Анастасию изведоша», о царице же Марии Темрюковне: «…И такоже вражиим злокозньством отравлена бысть», а о Марфе Васильевне: «…И тако ей отраву злую учиниша… толико быша с ним Царица Марфа две недели и преставися, понеже девства не разрешил третьего брака».
Но кто же стоял за отравителями? Теперь уже ясно, что это были тёмные силы запада, те силы, которые подослали убийц к Андрею Боголюбскому в 1774 году, те силы, которые организовали убийство Императора Павла Первого в 1801 году. Интересный факт сообщается в книге «Царь Всея Руси Иоанн Грозный», вышедшей в 2005 году под редакцией священника Серафима Николаева и рекомендованной в качестве учебного пособия, правда, пособия не для светских школ, по-прежнему изучающих историю по картине Репина, а для высших и средних учебных заведений духовного направления. Летом 1581 года королева Елизавета Английская прислала Царю Иоанну Васильевичу своего врача Роберта Якоби, сопроводив этот «дар» письмом такого содержания: «Мужа искуснейшего в исцелении болезней уступаю тебе, моему брату кровному, не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему соё здравие. Посылаю с ним, в угодность твою, аптекарей и цирюльников, волей и неволей, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях». Какая трогательная забота! Подумать только. В книге далее читаем: «Через три года Царь Иоанн Васильевич Грозный умрёт от «неизвестной болезни», как впоследствии выяснится, от очень медленного, в течение нескольких лет, отравления ртутью, принимаемой в пищу и лекарствами».
Это всё было не случайно. Когда англичане и прочие наши враги убедились, что Царь Иоанн Грозный не свернёт с Самодержавного пути, что не отступится от веры Православной, что будет продолжать походы с целью приобретения побережья Балтийского моря, они всё сделали для его устранения. В ту эпоху врачи были подлинными убийцами, а слово врач, скорее осуществлялось со словом врать. Исцеляли же старцы и святые отцы по молитвам, покаянию и причастию. Ведь главная причина болезней всё-таки духовная, и недаром Церковь Православная учит, что болезни нам даются за грехи.
Грозный Царь был отравлен, потому что созидал могучую Державу, страшную для врагов Христовых. «Обозрев историю Царя Иоанна Васильевича Грозного, – писал Иван Нехачин в книге «Новое ядро Российской истории», – можно сказать, что сим великим Государём совсем новая начинается эпоха могущества Российского Государства. Он своею храбростью и благоразумием превосходил всех своих предков… Был Государь всегда справедливый, мужественный, остроумный, храбрый, щедрый, о политическом просвещении и благополучии народа весьма старательный… Царь Иоанн Васильевич был отменно усерден в вере, ревнителен к Церкви…».
За верность Православию он был оклеветан и отравлен. Кто же автор клеветы на Ивана Грозного? Имена этого сочинителя и его последователей, известны. Их вымыслы – лишь звенья в цепи лживых измышлений о нашем великом прошлом. Митрополит Иоанн Ладожский считал, что «решающее влияние на становление русоненавистнических убеждений «исторической науки» оказали свидетельства иностранцев». О том же говорил и выдающийся исследователь древности Сергей Парамонов в книге «Откуда ты, Русь?», которую он издал под псевдонимом Сергей Лесной: «Нашу историю писали немцы, которые вообще не знали или плохо знали Русский язык».
Увы, и после убедительных доказательств того, что царевич Иоанн был отравлен, а не убит, продолжается клевета на Царя Иоанна Грозного. Автору книги «Иван Грозный», вышедшей в 2002 году серии ЖЗЛ Борису Флоре уже не могли быть неведомы и исследования учёных, и опровержения клеветы, с которыми выступил Иоанн Ладожский в книге "Самодержавие Духа", очень популярной в культурных слоях общества. Но Флоря продолжает настаивать на клевете, перепевая множество версий об убийстве, со ссылкой на таких уж «русских» авторов, как Рейнгольд, Гейденштейн, Одеборн, Поссевин, Джером Горсей и прочих ублюдков.
Ни русские летописи, ни Православный митрополит, ни исследования учёных, обследовавших останки Царя и Царевича, для Б.Флори авторитетами не являются. Они для него пустое место, потому что не вписываются в его концепцию очернения России и Русского Православного Самодержавия. Для врагов России Царь Иоанн Грозный всегда был и остаётся врагом, причём врагом, страшным и по сей день. А вдруг, неровен час, встанет из гроба и возродит «государев свет Опричнину», которая убийственна для слуг тёмных сил. Впрочем, милосердный Православный Царь ещё может и помиловать, хотя и нарушит тем свою священную обязанность – ведь верили же злодеям и миловали их и Андрей Боголюбский, и Иоанн Грозный, и Павел Первый, а потом гибли от рук их. Но клеветник, как слуга диавола, приравненный к человекоубийце, не может рассчитывать на милость Божью. Если мы проследим за судьбами тех, кто очернял Иоанна Грозного, кто клеветал на Игумена Всея Руси, мы увидим, что судьбы их были ужасны, а кончины сопряжены с нравственными и физическими муками. И хочется сказать нынешним хулителям: спешите покаяться в смертном грехе своём.
Был ли Грозный Царь тираном?
Инструктируя создателей фильма «Иван Грозный» режиссёра Эйзенштейна и исполнителя роли Царя – Черкасова, Иосиф Виссарионович Сталин сказал: «Иоанн Грозный был очень жёстким. Показывать, что он был жёстким можно. Но нужно показать, почему нужно быть жёстким. Одна из ошибок Иоанна Грозного состояла в том, что он не уничтожил пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять крупных семейств уничтожил бы, то вообще не было бы смутного времени».
Иоанна Грозного называли тираном, приписывали ему непомерные жестокости, а между тем, Сталин, который внимательно изучил политику Царя, сделал вывод, что сей Государь не только не был жесток, но даже проявил излишнюю мягкость к враждебным боярским семействам, помиловав их. А это привело к тяжелейшему смутному времени, унёсшему половину население Московии. В. Манягин в книге «Вождь воинствующей Церкви» приводит факты, опровергающие жестокость Царя и безчеловечность опричного «террора». В книге приводится цитата из статьи кандидата исторических наук Н.Скуратова «Иван Грозный – взгляд на время царствования с точки зрения укрепления Государства Российского», автор которой пишет: «Обычному, несведущему в истории человеку, который не прочь иногда посмотреть кино и почитать газету, может показаться, что опричники Иоанна Грозного перебили половину населения страны. Между тем, число жертв политических репрессий 50-летнего царствования хорошо известно по достоверным историческим источникам. Подавляющее большинство погибших названо в них поимённо.., казнённые принадлежали к высшим сословиям и были виновны во вполне реальных, а не в мифических заговорах и изменах… Почти все они ранее бывали прощаемы под крестные целовальные клятвы, то есть являлись клятвопреступниками, политическими рецидивистами».
В.Манягин отметил, что такой же точки зрения придерживались Владыка Иоанн (Снычёв) – Иоанн Ладожский – и историк Р.Г.Скрынников, которые указали, что за 50 лет правления Грозного Царя к смертной казни были приговорены 4 – 5 тысяч человек.
Но из этой цифры надо убрать казненных бояр до 1547 года, то есть до венчания Иоанна Васильевича на царство. Не может же он, в конце концов, отвечать за взаимные убийства различных боярских кланов, рвавшихся к власти. Бояре, истребляя друг друга, не спрашивали мнения Царя, который, кстати, именовался тогда Великим Князем.
Миф о жестокости Царя насквозь ложен. В. Манягин на основании изучение документов доказал: «Во времена царствования Иоанна IVсмертной казнью карали за: убийство, изнасилование, содомию, похищение людей, поджог жилого дома с людьми, ограбление храма, государственную измену. Для сравнения: во время правления царя Алексея Михайловича смертной казнью карались уже 80 видов преступлений, а при Петре I– более 120!. Каждый смертный приговор при Иоанне IVвыносился только в Москве и утверждался лично Царём».
Власть Православного Царя Иоанна Васильевича была много мягче, нежели многомятежные власти в других странах. Вот факты: «В том же XVIвеке в других государствах правительства совершали действительно чудовищные беззакония. В 1572 году во время Варфоломеевской ночи во Франции перебито свыше 30 тысяч протестантов. В Англии за первую половину XVIвека было повешено только за бродяжничество 70 тысяч человек. В Германиипри подавлении крестьянского восстания 1525 года казнили более 100 тысяч человек, Герцог Альба уничтожил при взятии Антверпена 8 тысяч и в Гарлеме 20 тысяч человек, а всего в Нидерландах испанцы убили около 100 тысяч человек».
Итак, Европа казнила 328 тысяч человек, а Иоанн Грозныйза конкретные тяжкие преступления – 4 – 5 тысяч. Почему же Грозный Царь тиран? За время царствования Иоанна Грозного прирост населения составил 30 – 50%, за время правления Петра Iубыль населения составила 40%. Но Царь Грозный – тиран, а Пётр – Великий. Теперь мы видим сколь точно определение И.Л.Солоневича: русский историк является специалистом по извращению истории России.
Между тем, именно «не уничтоженное» боярское семейство Шуйских было одним из тех семейств, которые толкнули Россию к смутному времени. Именно с момента правления Василия Шуйского была нарушена Православная вертикаль власти: со времени Иоанна IIIбыло установлено, что Царь присягает Богу, а народ присягает Царю, как Помазаннику Божьему. Но безбожник Шуйский дал клятву не Богу, он дал подкрестную клятву боярской олигархии. Это было началом разрушения Самодержавия Рюриковичей. Оно стало результатом не жестокости, а, напротив, милосердия Иоанна Грозного.
Иоанн Ладожский отметил: «Мягкий и незлобивый по природе, Царь страдал и мучился вынуждённый применять крутые меры».
Часто бывало, что едва только начиналась казнь приговоренных по суду злостных преступников, как прибывал гонец с Царской грамотой и те, кто ещё не был казнён, отпускались под крестное целование. Но что безбожному слуге бесовскому до этого целования? Чем больше милости оказывается слугам тёмных сил, тем более коварными и жестокими они становятся. В благодарность за милосердие Царя отравили сулемой… И Россия покатилась к смутному времени. Из 15 миллионов населения Россия потеряла 7 миллионов, а спасена она была лишь благодаря тому гениальному изобретению Иоанна Грозного, о котором мы уже говорили. Именно Земский собор, созванный в 1613 году по законам Иоанна Грозного окончательно отверг посягательства на престол зарубежных нелюдей, и избрал Михаила Фёдоровича Романова Русским Царём.
Ну настоящий художник !
Первый раз, за все время существования сайта "Дилетант", мне как админу, захотелось его использовать как обычный блог, дистанцированный от политики и истории.
Недавно мне посчастливилось познакомиться с человеком, типаж которого, в наше меркантильное время исчезает. Жесткая израильская жизнь, в которой ломаются характеры, рушатся семьи и в которой совершенно не остается время для отдыха, ломает людей. Они постепенно утрачивают способность к общению, и не просто к общению , а к общению искреннему, душевному. Услышать от человека , который присел рядом с тобой на лавочку - "Привет ! Как дела" - чудо ! А услышать это на родном, русском языке в Израиле - чудо вдвойне!
Познакомились очень быстро, без церемоний и лишних слов. Он рассказал немного о себе. В Израиль репатриировался сразу после окончания питерской академии художеств. На этот нелегкий шаг, подтолкнула болезнь, и надежда на израильскую медицину, которая должна была помочь ему от нее избавиться. Надежды частично оправдались. Удержаться на плаву помогла специальность приобретенная в России и талант, который безоговорочно просматривается в работах. Последнее время, Николая (так зовут моего нового знакомого), интересует тема жизни на экзопланетах (землеподобных). С его разрешения, я публикую первые работы, как он говорит - экспериментальные на нашем портале "Дилетантъ" . Лучше раз увидеть чем сто раз услышать.
Параллельная жизнь


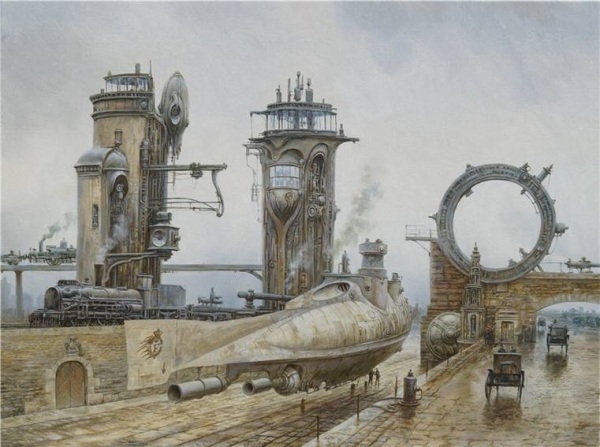









Тайное становится явным
Андрей Шолохов, кандидат исторических наук, издатель книги.
Вместо предисловия
Через 200 лет тайное становится явным
Эта книга посвящена Отечественной войне 1812 года. Как справедливо отмечает историк Владимир Карпец, ход сражения на её полях хорошо известен, но её подлинный смысл продолжает оставаться тайной, и мы к нему только приближаемся – причём всё более – в свете современных событий. Писатель и историк Николай Шахмагонов как раз и делает в своей новой книге ещё один шаг к постижению истинных причин наполеоновских войн, приведших в конце концов к разгрому Наполеона в России. Конечно, о приводимых им фактах и особенно их толкованиях можно спорить.
Но многие тенденции развития России в противостоянии её Западу обозначены, безусловно, верно. «Уже давно в Европе существуют только две действующие силы: Революция и Россия», – проницательно писал Фёдор Тютчев в 1849 году. Французская Революция, порождённая масонством и породившая Наполеона, стремительно распространялась по миру, пытаясь подстегнуть так называемый прогресс, за которым зачастую скрывались интересы олигархических групп и этнических образований. Так, Наполеон ещё во время своего египетского похода заявил, что прибыл в Палестину для восстановления Иерусалима и Иудеи, обещая евреям восстановление Храма Соломона, чем завоевал среди них большую популярность. Как подтверждают исторические источники, «его победоносные войска повсюду сбрасывали железные оковы с еврейского народа, Наполеон Бонапарт приносил евреям равенство и свободу».
В этих начинаниях Наполеона на первых порах поддерживало банкирское сообщество во главе с Ротшильдами, уже тогда поделившими Европу на «уделы». Они-то и способствовали его возвеличиванию, превращению в Императора. Но после женитьбы Бонапарта на герцогине Марии-Луизе Австрийской в 1810 году и рождения 20 марта 1811 года Наполеона II, который должен был стать, по замыслу отца, мировым правителем в обход семейства Ротшильдов, поддержка банкиров была исчерпана. Возможно, тут-то окончательно стала реализовываться идея войны Наполеона с Россией. Война, как всегда, обескровливала народы, экономически разоряла участвующие страны, зато позволяла хорошо нажиться олигархам. И если приглядеться к разразившимся в XX столетии двум мировым войнам и многим последующим вооруженным конфликтам, то видна та же проверенная схема: пока народы воюют, международные финансисты «наваривают» капиталы. Итак, «мятежной вольности наследник и убийца» за несколько лет изменил лицо Франции, превратив Республику «Свободы и Равенства» в огромную и агрессивную империю. Вторгаясь в чужие страны, он разрушал в них существующие монархические режимы и насаждал свои, более деспотические порядки. Даже под угрозой поражения в России у Наполеона не было и мысли освободить крестьян от крепостной зависимости, что обеспечило бы ему немало сторонников.
И как точно заметил еще Дмитрий Мережковский, русский народ поднялся в борьбе за Христа против Антихриста. Именно народ сыграл главную роль в разгроме нашествия «двунадесяти языков». По сути атеистическая армия европейского сброда, надругавшаяся над Православной церковью и её священнослужителями, вызывала нарастающий протест населения оккупируемой страны. Среди же российской элиты у Наполеона было немало сторонников. Даже Михаила Илларионовича Кутузова некоторые историки, например, Алексей Мартыненко, обвиняют в отнюдь неслучайной сдаче Москвы, в которой оставались тяжелораненные герои Бородина. Об этом же упоминает и генерал-губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин.
Начальник канцелярии Кутузова С.И. Маевский вспоминал: «Многие срывали с себя мундиры и не хотели служить после… уступления Москвы…» Но Н.Ф. Шахмагонов отдает должное главнокомандующему русской армией, внесшему большой вклад в нашу победу. Однако, к сожалению, надо отметить, что был в составе войск Наполеона и так называемый «русский легион», подобный власовцам Второй мировой. Но нельзя сомневаться: «… победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своём бессилии, была одержана русскими под Бородиным» (Л.Н. Толстой). И все-таки, несмотря на «офранцузивание» (говорили-то и писали российские вольтерьянцы по-французски) и «омасонивание» части дворянской «верхушки», даже она поднялась на защиту Отечества, да и, конечно, своих имений от врагов, нахлынувших из Европы. Дружба, как говориться, дружбой, а табачок врозь! Так ли поведёт себя сегодняшняя самопровозглашённая российская элита, хранящая свои наворованные капиталы в оффшорах? В её патриотизме сильно приходиться сомневаться.
Увлечение чужебесием в России начала XIX века не прошло даром. Оно взрастило «цветы зла» для декабристской фронды, а затем масонского заговора и свержения монархии в феврале 1917-го, открывшего дорогу гражданской войне и последующей череде насилия. В дальнейшем Россия только оправилась от потрясений, стабилизировалась, как вновь была провозглашена страной «застоя» и перевернута с ног на голову духовными наследниками тех же западниковлибералов, антитрадиционные действия которых не позволяют ей по-настоящему воспрянуть и теперь. Но всё больше народа прозревает и начинает видеть подлинную суть событий, а значит, есть надежда на возрождение страны как мощного справедливого Евразийского союза, о котором говорил Президент РФ Владимир Путин. Хотя задача эта очень трудная. Ещё в конце XX века первоиерарх русской православной церкви за границей митрополит Виталий предупреждал: «Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя Русского Возрождения. Вот перед чем сейчас стоит Россия. Это почище Наполеона, Гитлера…»
В 1799, 1805 и 1806-1807 годах Россия участвовала в нескольких неудачных военных кампаниях против наполеоновских войск. В конце концов, объединённые силы Австрии и России были разбиты под Аустерлицем в 1905 году, а объединённые силы Пруссии и России – под Фридландом в 1807 году. В итоге 7 июня 1807 года Александром I и Наполеоном был подписан так называемый Тильзитский мир. Два его главных условия были навязаны Францией как победительницей. Во-первых, Россия должна была признать все завоевания Наполеона и вступить с ним в союз. Во-вторых, Россия обязана была прервать отношения с Англией и присоединиться к континентальной блокаде. Были и другие условия, которые постепенно затягивали сложный узел противоречий между Россией и Францией.
Такова внешняя канва причин, приведших к войне 1812 года. Автор книги, анализируя причины войны, много внимания уделяет личности императора Александра I, которого считает на основании веских аргументов незаконнорождённым сыном Павла I, имевшим массу недостатков. Всё это, как говорят доказательства учёного Г.С.Гриневича, вполне может быть именно так, но мы не будем заострять на этом внимание – читатель прочтёт о том в соответствующих главах. Но причины войны 1812 года, безусловно, лежат значительно глубже. Отечественная война закончилась 25 декабря 1812 года по старому стилю (ныне 7 января). Но война с Наполеоном продолжалась до марта 1814 года. Лишь тогда объединенным силам европейских государей, освободившихся от владычества французского императора, удалось окончательно разбить его новую армию. 31 марта 1814 года союзные армии торжественно вступили в Париж, а 6 апреля в Фонтенбло Наполеон подписал акт об отречении от престола. Крушение империи Наполеона было закономерным следствием поражения его армии в России. Кратковременное стодневное возвращение Наполеона к власти и окончательное поражение при Ватерлоо в 1815 году поставило точку в судьбе этого агрессора, погибшего на острове Святой Елены через несколько лет в плену у англичан, традиционно верховодивших во многих политических процессах. Обращаясь к Наполеону, автор видит в нём много слабостей и преступных наклонностей, а главное – зависимость этой противоречивой личности от крупной буржуазии, которая во многом и управляла действиями новоявленного императора.
Кстати, об этом же пишет один из лучших французских исследователей жизни и деятельности «корсиканского чудовища» Жан Тюлар в книге «Наполеон, или миф о спасителе», недавно вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Да, Наполеон Бонапарт сделал ставку на крупную буржуазию, создал все условия для её сказочного обогащения (отсюда в значительной мере его завоевательные войны), но, в конечном счёте, не преуспел, ибо «главная добродетель буржуазии – неблагодарность, а главный недостаток – трусость». Пока всё шло хорошо, буржуазия поддерживала своего «спасителя» от «санкюлотов» и набивала мошну. Но как только начались поражения в Испании, а затем и в России, союз был нарушен. Интересно отметить, что буржуазия, оказываясь перед лицом опасностей, всякий раз находит «спасителей». Так, Наполеон проторил дорогу Кавеньяку, Луи Наполеону, Тьеру, Петену, де Голлю. В России русским корсиканцем называли генерала Михаила Скобелева, чьи поступки также направляла «невидимая рука истории» и ниточка тянулась к французским масонам.
Судьба генерала Александра Лебедя еще раз напоминает о преемственности некоторых ролей в истории, которую зачастую пишут совсем другие люди. По сути же, как особенно хорошо видно спустя два столетия, война была столкновением революционных идей и традиций, оплотом которых всегда являлась Россия с её ролью «удерживающего» православного государства. И сегодня в условиях стремительной глобализации мира не стихает борьба между теми, кто хотел бы установить бесконтрольную власть мирового правительства и силами, ратующими за многополярный мир, которые возглавляет Россия. Нужно отметить, что «холодная» война с Россией, перемежавшаяся горячими обострениями, велась не с известной речи Черчилля в Фултоне в 1946 году, а на протяжении столетий. Так, по мнению недавно трагически погибшего руководителя советской внешней разведки Леонида Шебаршина, изучавшего ту эпоху, в войне 1812 года в Ставке российского командования был англичанин по фамилии Уилсон. Он участвовал в боевых действиях, его воспринимали как коллегу и соратника по коалиции.
После окончания войны Уилсон написал книгу о том, что Россия является естественным противником Англии, а, следовательно, тогдашней цивилизации. И надо прилагать все усилия для того, чтобы её поставить на место. В значительной мере русофобское движение именно тогда набрало особую силу. Последующая трагическая история России это только подтвердила. Прочитайте книгу Николая Шахмагонова, загляните в историю первого открытого масштабного столкновения этих двух сил. Уверен, что Вы найдёте для себя много нового и любопытного. Думаю, что даже если не во всём согласитесь с аргументацией автора, Вы не пожалеете о прочитанном.
А.Б. Шолохов, кандидат исторических наук
Содержание книги Николая Шахмагнова "1812: новые факты наполеоновских войн и разгром Наполеона в России"
Вместо предисловия. ЧЕРЕЗ 200 ЛЕТ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ .
Введение. БОГ ПОСЛАЛ ИХ ИСТРЕБЛЯТЬ ТО ЗЛО, КОТОРОЕ МЫ У НИХ ПЕРЕНЯЛИ
Глава первая. КТО ВЫ, ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ?
Глава вторая. КОНФРОНТАЦИЯ С НАПОЛЕОНОМ
Глава третья. ПЕРВЫЕ ЗАЛПЫ «НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН»
Глава четвертая. «Я НЕ ВИНОВАТ В АУСТЕРЛИЦЕ!..»
Глава пятая. КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ ВОЙНА
Глава шестая. КОМУ СЛУЖИЛ БАРОН?
Глава седьмая. КРОВАВАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Глава восьмая. ТАК КТО ЖЕ ОН – ФРАНЦУЗСКИЙ «ГИТЛЕР»?
Глава девятая. «ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО МУЖЕСТВО МОГЛО ДАТЬ ПОБЕДУ…»
Глава десятая. ОТ ФРИДЛАНДА ДО НЕМАНА
Глава одиннадцатая. НАШЕСТВИЕ
Глава двенадцатая. ПЛАН БАРКЛАЯ И ЕГО «ОСОБЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ»
Глава тринадцатая. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТХОД И ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
Глава четырнадцатая. «… В СМОЛЕНСКЕ – ЩИТ РОССИИ»
Глава пятнадцатая. «БЕРЕГИТЕ КУТУЗОВА…»
Глава шестнадцатая. ТОЛЬКО КУТУЗОВ СПАСЕТ РОССИЮ
Глава семнадцатая. БОРОДИНО
Глава восемнадцатая. ТАЙНА МОСКОВСКОГО ПОЖАРА
Глава девятнадцатая. ДОНЦЫ СПАСАЮТ МОСКВУ ОТ ПОЛНОГО РАЗРУШЕНИЯ
Глава двадцатая. ИЗГНАНИЕ «ВЕЛИКОЙ» ГРАБЬАРМИИ.
Глава двадцать первая. «ЗА ПОЛНЫМ ИСТРЕБЛЕНИЕМ ПРОТИВНИКА…» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Глава двадцать вторая. СУДЬБА БЛАГОСЛОВЕННОГО .
Приложение. Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году? (Из «Военных записок» Дениса Давыдова)
P.S. Книгу Николая Шахмагонова «Новые факты наполеоновских войн и разгром Наполеона в России», а также другие популярные монографии серии «Русские витязи: защитники и созидатели России» Вы можете приобрести, обратившись в редакцию «Вузовского вестника» по телефону (499) 230-28-97 или по электронной почте: info@vuzvestnik.ru. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.vuzvestnik.ru.
Этот Праздник не умрёт никогда !

Каково же было моё удивление, когда в социальной сети на странице, наряду с фотографиями круизов и Европы, увидел её со всей семьёй, включая отца и мать, на марше "Бессмертный полк".
Есть у меня знакомая либерастиха. Человек состоятельный -живёт в загородном доме, чуть не раз в месяц поездки в вожделенную Европу, круизы на лайнерах океанских. Как и положено либерастихе ругает всю российскую современную жизнь и действительность, ненавидит всё советское, всех советских руководителей считает упырями и дураками.
Словом, полный набор либерастии головного мозга !

Либеральная морская свинья -кусает руку с которой кормится
Каково же было моё удивление, когда в социальной сети на её странице, наряду с фотографиями круизов и Европы, увидел её со всей семьёй, включая отца и мать, на марше "Бессмертный полк".
Позвонил. Она полчаса взахлёб, не давая вставить слово, рассказывала: как ждали, как шли, какое удивительное было ощущение единения со всеми, какое чувство праздника шедшее из глубины души. Словом она в восторге и в следующий раз заставит всех своих друзей либерастов прийти на марш.
Похвалив её и пожелав удачи на этом поприше, подумал - вот то, что ещё пока объединяет меня, человека коммунистических взглядов и патриота с самой отъявленной либераснёй.
И понятно, почему всякие" назаровы"прикладывают титанические усилия стараясь разрушить то, что хоть немного объединяет людей разных взглядов в России, призывая не праздновать День Победы, а так...принять пару стопарей и ...забыть.

А ведь мы уже это проходили.
У Дня Победы было две жизни. Первая началась, собственно, 9 мая 1945 года и продолжалась пол столетия.
Как День переживался в советское время — легко понять из строчек знаменитой песни 1975 года про «праздник с сединою на висках». Это был день живых — тех, кто воевал. Их были десятки миллионов — ещё полных сил, ещё работающих, 50-60-летних, с повзрослевшими уже детьми, воспитывающих внуков.
Повзрослевшие дети, ещё помнившие послевоенную реальность — поздравляли в этот день в первую очередь родителей, а не себя. Для внуков же День означал, что дедушка с бабушкой и тётя Нина наденут ордена, по телевизору будет праздничный концерт и военный фильм, в школу придут ветераны, а потом покажут салют.
Война для внуков не была абстракцией — в каждом доме хранились треугольнички полевой почты, во многих пригородных лесах ещё заживали, постепенно затягиваясь, окопы — но она была, безусловно, прошлым.
Таким прошлым, о котором нужно помнить, потому что если бы не Победа — «то и нас бы не было». И о котором невозможно забыть, потому что это прошлое тех, кто нас растит сегодня.
День Победы оставался таким до самого краха, до начала 90-х. До, казалось бы, безвозвратного исчезновения страны, которая в войне победила.
Сейчас мало кто помнит, но факт: в 1991-м ежегодный Парад Победы просто отменили.
Несколько лет его не проводили вообще.
По сути, тогда приняли в качестве официальной концепцию «Победа умерла».
В Победе было заключено слишком много неактуальных для эпохи ценностей. Её невозможно было отменить, как 7 ноября, но её требовалось спрятать поглубже.
Жёсткость этой концепции смягчили усилением накала сентиментальности. Да, вздыхали центральные медиа. Страны-победительницы больше нет. Но от неё остались ветераны! И какой бы чудовищной ни была наша страна в той войне (чудовищность СССР тогда была практически безусловно признанным фактом), — всё же ветераны честно сражались. Давайте их почтим, ведь с каждым годом их остаётся всё меньше. Дайте им допраздновать.
Эта концепция «временности», остаточности Дня выразилась, кажется, лучше всего в праздновании 50-летия разгрома фашистов. Когда и не отметить было нельзя, и демонстрировать «ностальгию по советской мощи» было нельзя.
Власть, помнится, вывернулась тогда хитрым образом:отменённый парад провели – но без военной техники, в виде строго костюмированного шествия. Исторический музей — чтобы в вышестоящей инстанции никто не заподозрил, что Россия «ностальгирует по мощи» и колеблется в своей верности новым мировым лидерам — завесили плакатом, на котором советский солдат припадал к американскому союзнику. Телевизор наполнили врезки «С праздником, дорогие ветераны!», весь праздник жёстко загнали в слёзно-прощальный формат.
Официоз упорно сигнализировал: потерпите, это ненадолго. «Праздник советского превосходства» скоро кончится. С последним воевавшим.
Фактически эта прощальная сентиментальность действовала в тесной сцепке с так называемой Страшной Правдой. Вместе со «штрафбатами», резунизмом, кочующими по экранам вампирами-смершевцами и изнасилованными немками.
http://uartist.ru/?p=1013
Обе они – Страшная Правда и Прощальная Сентиментальность – слаженно работали на то, чтобы выбить Победу из-под ног сегодняшних граждан. И чтобы у них не возникало ощущения, будто они на что-то имеют право в этом мире сегодня.
…Самое интересное, что вторая жизнь Дня Победы началась не в России. Она началась в «советской диаспоре», в новообразовавшихся независимых республиках. Именно там и именно в 90-е День впервые из «праздника со слезами на глазах» превратился в праздник современности и дня сегодняшнего. Ибо он стал днём, если угодно, демонстрации цивилизационной идентичности, «русским праздником» — от Таллина до Севастополя.
Для любого русского рижанина рубежа тысячелетий поехать 9 мая в Парк Победы, купить цветы и возложить их к монументу освободителям города, а потом до вечера гулять в стотысячной толпе — означало не чтить прошлое, а дать понять настоящему: «Это мы победили. И мы живы, и мы по-прежнему здесь». Прибывшие отдохнуть и ставшие случайными свидетелями московские гости умилялись: «Какой у вас это живой праздник. А у нас это чисто так – пойти салют посмотреть».
Однако через несколько лет вторая жизнь Дня Победы началась и в России. С того, что однажды первые несколько сотен тысяч граждан украсили себя георгиевскими ленточками. То есть вышли на улицы с теми самыми знаками самоидентификации, с заявлением «Победа деда – моя Победа».
Сегодня полезно вспомнить, какое дикое противодействие оказывалось этим первым скромным знакам.
В ход шёл главным образом аргумент «это же не вы воевали». «Это же часть ордена, которого вы не достойны». «Лучше бы помогли ветеранам». «Лучше бы обустроили военное кладбище». «Лучше бы заслужили, чем самим гордиться» — миллионы подобных реплик озвучивались от блогов до эфиров радиостанций.
Всё это было, по сути, защитной реакцией той самой «концепции самоотрицания», внедрявшейся в 90-е. Тем, кто данную концепцию продвигал и тем, кто её чистосердечно принял — было глубоко неприятно наблюдать, как Победа, вместо того, чтобы тихо умереть, возвращается на новых носителях.
Любопытно, что винить в «накачке советской ностальгии» власть — тогда не имелось никаких оснований. Власть в нулевые, напротив, всего лишь перестала накачивать граждан какой бы то ни было идеологией, резко снизив накал разоблачений проклятого прошлого. И фактически — дала народу самостоятельно выбрать себе и символику, и праздники.
Народ выбрал, и власть просто пошла за ним. После чего процесс возвращения Победы стал уже не остановимым.
В 2008 году вернулся во всей своей современной мощи военный парад на Красной Площади, с «тополями» и истребителями. Вышел первый после долгого перерыва беспримесно героический российско-белорусский фильм «Брестская крепость» и первый фильм, актуализирующий войну для сегодняшней России – «Мы из будущего».
В своём новом облике возвратившийся День Победы оказался, внезапно, без всякой седины на висках и без всякой ностальгии. Георгиевская ленточка стала знаком уже отнюдь не «исторической памяти», но и вполне сегодняшнего, актуального цивилизационного выбора. Из «праздника ветеранов» День превратился в день, который народ-победитель выбрал, чтобы праздновать себя.
Это, кстати, резко отделило состоявшиеся пост-советские государства от несостоявшихся. Народы, выбравшие остаться победителями, вернули себе праздник в полном объёме. Республики, выбравшие роль исторических жертв, — от него отказались.
В 2014 году люди с «ленточкой Победы» начали сражаться и гибнуть — что закрыло вопрос о том, является ли символика Великой Отечественной «символикой прошлого, которой недостойны современники».
А в году минувшем День окончательно и триумфально преодолел срок человеческой жизни. Когда на улицы России вышли десять миллионов живых, несущих портреты вечно живых — разговоры о «ностальгии», о «тоске по единственному оставшемуся светлому пятну в истории» и пр. были отправлены в утиль. Где и чадят, конечно, по сей день — но чадят уже бессильно.
Новый День Победы — это праздник сегодняшнего народа-победителя в той же степени, что 70 лет назад. И в той же, что будет его праздником 70 лет спустя.
И надеяться, что теперь он со временем он угаснет и забудется — это всё равно что рассчитывать, что со временем «угаснет и забудется» другой День Победы — победы над смертью, впервые случившейся два тысячелетия назад.
Скоро 9 мая...

В канун великого Праздника зашевелилась разномастная мразь...
Вот можно полюбоваться.
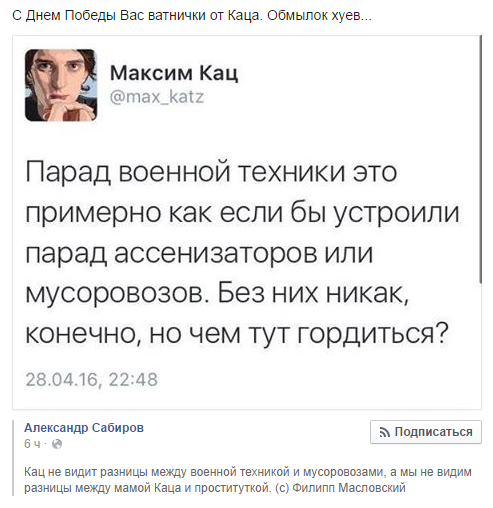
Ну что тут можно сказать.
Как - то видел дискуссию нормального человека и такого вот организма. Человек не стал особенно сильно заморачиваться ( у организма был главный тезис...надо было сдаться и пили бы сейчас баварское пиво) а заявил..."А вы знаете, я пожалуй соглашусь с вами...нам надо было отступить за Урал, чтобы фашисты смогли из таких как вы нашить побольше абажуров ( организм был по национальности еврей)

Ка-а-а-кой поднялся визг !
Ну а мы ответим вот этой шедевральной песней группы из Казахстана.
Ведь могут когда захотят !
Кому мешает подвиг Раевского?
Подвиг генерал-лейтенант Николая Николаевича Раевского поистине переживёт многие века, как уже пережил более двух столетий. Он вошёл в произведения поэзии и прозы, им восхищались в России и за рубежом.
И всё же нашлось впоследствии немало верных учеников Аллена Даллеса, проводников его антироссийской доктрины, которые с необыкновенной яростью набросились на этот великий подвиг
Кому не нравится подвиг Раевского?
Подвиг генерал-лейтенант Николая Николаевича Раевского поистине переживёт многие века, как уже пережил более двух столетий. Он вошёл в произведения поэзии и прозы, им восхищались в России и за рубежом.
И всё же нашлось впоследствии немало верных учеников Аллена Даллеса, проводников его антироссийской доктрины, которые с необыкновенной яростью набросились на этот великий подвиг. Прикрывая свою личную робость, зачастую, даже к воинской службе в мирное время, не говоря войне, они доказывали наперебой, что ничего подобного не было. Чаще всего набрасываются на подвиг Раевского и его сыновей люди, никогда не нюхавшие пороху, а то и вовсе не носившие погон. Или, если и носившие погоны скромные, то потом, во времена торжества «демоняк» прикупившие себе воинские звания, позволяющие внешне выглядеть солидными специалистами в военном деле, не имея понятия не только о стратегии или оперативном искусстве, но даже о тактике действий.
Ведь каждому хотя бы мало-мальски знакомому с военным делом, ясно, что момент под Салтановкой был неординарный. Ведь, если бы не нашёл генерал Раевский вот этот свой последний резерв, который заставил Смоленский полк встрепенуться от удивления и восторга и преодолеть страх перед шквалом картечного огня, Даву нанёс бы сокрушительный контрудар со всеми вытекающими последствиями.
Конечно, мы можем говорить, что и тогда бы Россия не погибла. Даже если бы Даву смял корпус Раевского, даже если бы армия Багратиона была разбита на переправе и просвещённые европейцы утопили бы ради забавы всех раненых в Днепре. Ведь в Москве они просто сожгли 15 тысяч. Даже в этом случае бы Россия выстояла.
Ну что, ж, с одной стороны, это конечно так, но с другой, в подобных заявлениях сквозит попытка убедить, что не нужно напрягаться и надрываться. Зачем, к примеру, насмерть стояли защитники Брестской крепости, или для чего погибли под разъездом Дубосеково 28 панфиловцев. Кстати глубокомысленные исследователи, выполняя требования директивы Даллеса, в которой прямо написано о необходимости так поставить работу, чтобы в Росси не было в следующей войне ни Матросовых, ни Космодемьянских, опровергают подвиг панфиловцев и другие великие подвиги советских воинов. Ну и, конечно, уж очень им колет глаза великое прошлое России. Колет глаза и подвиг Раевского. Они бы посоветовали славному генералу не выводить детей. И так обойдётся, а не обойдётся, ну что ж, уцелевшие детки сгодятся в рабы Европе. Зачем защищать Отечество?
Вспомните отвратительный стих времён разгула питекантропов от революции. Некий негодяй пролеткультовец Джек Алтаузен с ненавистью написал:
«Я предлагаю Минина расплавить,
Пожарского. Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников славить,
Их за прилавками Октябрь застал,
Случайно им мы не свернули шею
Я знаю, это было бы под стать.
Подумаешь, они спасли Россию!
А может, лучше было не спасать?»
В таком же духе недавно было затеяна дискуссия на одном из Санкт-Петербургских телеканалов по поводу блокады Ленинграда. Мол, надо ли было защищать город? Причём, затеяли дискуссию как раз тем, кому особенно нужна была защита от бесноватого фюрера, а если бы город был сдан, то как раз именно их предки могли пополнить ряды тех, кто был расстрелян в Бабьем Яре под Киевом, только пополнить их под Ленинградом. Впрочем, с ленинградцами фашисты церемониться не собирались – задача у них была ликвидировать всех до единого, а город затопить.
Подумайте, какое это неуёмное стремление по выполнению требований человеконенавистнической и в общем-то мерзкой даллесовской доктрины и директивы «Цели США в отношении России».
Я не буду перечислять этих людей. Их имена вы легко найдёте в интернете, загаженном всякого рода пасквилями.
У всех, ныне поющих под заокеанскую дудочку, был кто-то, на кого можно сослаться, проводя свою политику дегероизации истории России.
Так вот ниспровергатели подвига Раевского ссылаются на его адъютанта Константина Батюшкова. Он писал о том, что сам Раевский опровергал свой подвиг. Ну и основывают свои рассуждения на том, что он, де, адъютант, а, значит, был рядом, всё видел и всё знает.
Но что мог видеть Батюшков под Салтановкой? Оказывается, ничего он не мог видеть, потому что в деле под Салтановкой не участвовал, да и вообще его участие в войне с Наполеоном в Священной памяти Двенадцатом году не наблюдается.
И почему-то никто не желает прислушаться к тому, что говорил сам Николай Николаевич Раевский.
После знаменитого боя Раевский в письме к родной сестре жены он рассказал об участии детей в атаке на плотине под Салтановкой. Мало того, существуют неопровержимые документы, свидетельствующие о том. Александр Раевский был награждён за подвиг в том бою, а Николай Раевский, тот самый Николенька, который при атаке у плотины просил отдать ему Знамя, был произведён в поручики. Позже, в мае 1814 года его перевели в Лейб-гвардии гусарский полк и назначили адъютантом к генерал-адъютанту И. В. Васильчикову.
Две горькие любви и душевная болезнь адъютанта Раевского
Ну а что же Батюшков? В 1812 году у него уже развилась болезнь, которая помешала попасть в армию. Лишь 29 марта он был зачислен в чине штаб-капитана в Рыльский пехотный полк адъютантом генерала Алексея Николаевича Бахметева. Не успел он прибыть к Бахметьеву, как у генерала в Бородинском сражении оторвало ядром правую ногу. За подвиг при Бородине Бахметев получил звание генерал-лейтенанта и золотую шпагу с алмазами и надписью «За храбрость». Батюшкову, так и остававшемуся не удел, удалось добиться назначения адъютантом к Николаю Николаевичу Раевскому. В действующую армию Батюшков выехал в конце июля 1813 года, то есть ровно через год после подвига под Салтановкой. Адъютантом служил до завершения Заграничного похода.
В 1815 году «тяжёлое нервное расстройство» сломило его, и он выбыл из строя на несколько месяцев. Всё усугубилось несчастной любовью и конфликтом с отцом, который свёл отца в могилу. Батюшков ударился в мистику, заявлял, что «гроб – его жилище на век».
Вокруг Николая Николаевича Раевского разгорались любовные приключения и драму, а он стоял, как скала, и семья его пополнялась всё новыми и новыми чадами любви.
А будущий его адъютант был в постоянном бесплодном поиске. Два месяца он лечился в Риге. Там его сразила первая любовь к Эмилии, дочери местного купца Мюгеля. Увы, продолжения роман не имел, от этой любви остались лишь два стихотворения Батюшкова – «Выздоровление»
(…)Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слёзы пламенем сверкающих очей,
И поцелуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
Меня из области печали –
От Орковых полей, от Леты берегов –
Для сладострастия призвали.
(…)
Мы видим строки, полные страсти и любви. А вот и несколько строк из довольно длинного стихотворения «Воспоминания 1807 года»
(…)Как утешителя, как ангела добра!
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосуд мне подала: «Пей здравье и любовь!»
Тогда, казалося, сама природа вновь
Со мною воскресала
И новой зеленью венчала
Долины, холмы и леса…
Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса....
Какое счастіе с весной воскреснуть ясной!
(В глазах любви ещё прелестнее весна).
(…)
Увы, исчезло всё, как прелесть сладка сна!
Куда девалися восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа её в объятиях моих,
Я не завидывал судьбе богов самих!.....
Теперь я, с нею разлучённый,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу.
Воспоминания, лишь вами окрылённый,
К ней мыслию лечу…
(…)
Разрыв отразился на здоровье поэта.
А в конце 1812 года, в Петербурге, куда поэт приехал, узнав, что адъютант генералу Бахметеву более не требуется по причине тяжёлого ранения. Он побывав в гостях у Алексея Николаевича Оленина, известного историка, археолога и художника, и влюбился девицу Анну Фёдоровну Фурман (1791–1850), которая воспитывалась в его семье.
Казалось бы, он встретил ответное чувство, отношения развивались и поэт сделал предложение, но потом вдруг отказался от брака.
Екатерина Фёдоровна Муравьёва, мать будущего декабриста, на глазах которой протекал роман, была крайне удивлена этим отказом, и Батюшков объяснил ей: «Не иметь отвращения и любить – большая разница. Кто любит, тот горд». Просто он узнал, что Анна Фурман согласилась стать его женой и
готова была идти замуж не по взаимному чувству, а потому что её хотели выдать за него Оленины, благоволившие к нему.
Да и жизненные неурядицы нахлынули – Батюшкову никак не удавалось перевестись в гвардию, в столицу. После возвращения из Заграничного похода, он не удержался адъютантов у Николая Николаевича Раевского и был назначен к вернувшемуся в строй генералу Бахметеву. Штаб же находился в захолустном Каменце-Подольском.
С 1807 года Батюшкова периодически мучили галлюцинации, видения, порой, бывали страшными. А тут ещё вдруг возникла ссора с отцом, сильно переживавшим за сына и за его здоровье. Всё кончилось тем, что отец умер.
Батюшков продолжал лечиться, даже ездил в Италию. Затем снова вернулся в службу, но болезнь, если и не мучила постоянно, то, поскольку носила наследственный характер, не отпускала. В 1821 году он отправился на воды в Германию. Уже там узнал, что П.А. Плетнёв поместил в журнале «Сын отечества» элегию под названием: «Б...ов из Рима». В нём он описал судьбу не названного поэта, утратившего в Италии связь с Отечеством, с родными и близкими и друзьями, что убило его творчество.
Напрасно – ветреный поэт –
Я вас покинул, други,
Забыв утехи юных лет
И милые досуги!
Напрасно из страны отцов
Летел мечтой крылатой
В отчизну пламенных певцов
Петрарки и Торквато!
Веселья и любви певец,
Я позабыл забавы;
Я снял свой миртовый венец
И дни влачу без славы.
(…)
А вы, о милые друзья,
Простите ли поэта?
Он видит чуждые поля
И бродит без привета.
Как петь ему в стране чужой?
Даже приведённые выше строки показывают, что Пётр Александрович Плетнёв, популярный в ту пору литератор и критик, не слишком жаловал Батюшкова.
А состояние поэта из-за переживаний резко ухудшилось. Он постоянно говорил, что его преследуют враги. Очередное сильное обострение болезни произошло весной 1822 года. Он отправился на Кавказ, на воды, затем в Симферополь, но нигде не было успокоения. В Крыму он сделал несколько попыток самоубийства. Словом, искал и не находил себе места, пока на деньги, пожалованные Императором Александром I, не был отправлен в 1824 году в частное психиатрическое заведение Зонненштайн в Саксонии, где провёл четыре года, но никакого толка от лечения не было.
Его привезли в Россию и поселили в Москве, где «острые припадки почти прекратились, и безумие его приняло тихое, спокойное течение».
Ещё в 1815 году Батюшков, чувствуя неотвратимой наступление болезни, он признался Василию Андреевичу Жуковскому: «С рождения я имел на душе чёрное пятно, которое росло с летами, и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли – не знаю!»
Считается, что именно посещение Батюшкова вдохновило, если так можно выразиться в данном случае, на стихотворение «Не дай Бог мне сойти с ума».
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в тёмный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грёз.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверька
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров –
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
В 1833 году Батюшкова поселили в Вологде в доме его племянника Г. А. Гревенса. Там он прожил, а точнее «просуществовал до своей смерти ещё 22 года, и умер от тифа 7 июля 1855 года».
Пушкин словно предрёк его тяжёлую участь в последние годы жизни.
Те, кто вслед за Батюшковым опровергают подвиг Раевского под Салтановкой, ссылаются на книгу поэта «Опыты в стихах и прозе», над которой он работал в 1817 году, в разгар постоянных сильных обострений душевной болезни. Эта книга была переиздана в серии «Литературные памятники», в 1989 году. Так вот там как раз Батюшков и сообщил, будто бы Николай Николаевич Раевский признался, что никакого подвига не было. Что всё это выдумки. Вот так взял и разоткровенничался с офицером, который не прошёл с ним ни трудных вёрст отступления от границы к Смоленску, через Салтановку, ни Бородинской битвы. С какой стати генерал всё это рассказал штабс-капитану?
Верные слуги Аллена Даллеса нашли этот бред сумасшедшего и дружно бросились в атаку на того, кто был «в Смоленске щит – в Париже меч России».
И тут же были отметены восторженные отзывы о подвиге многих достойных современников. Мол, они-то откуда могут знать, а тут адъютант! Он был рядом! Рядом он был, да только год спустя. К тому же он был глубоко больным человеком. Как же можно принимать во внимание и ставить даже выше мнения командующего армией Багратиона, странные рассказы душевнобольного человека.
Ведь болезнь Батюшкова появилась не вдруг. Она была наследственной.
Посмотрели бы, что говорится, хотя уж в интернете о родителях поэта.
«Его отец, Николай Львович Батюшков, – человек просвещённый, но неуравновешенный…»
Мать, Александра Григорьевна (урождённая Бердяева), заболела, когда сыну исполнилось 6 лет; вскоре, в 1795 году, она умерла…. Её душевная болезнь по наследству перешла к Батюшкову и его старшей сестре Александре».
А вот и о болезни Батюшкова:
«В 1808 году… уже начало проявляться материнское наследство: его впечатлительность стала доходить до галлюцинаций необыкновенной яркости, в одном из писем Гнедичу он писал: «если я проживу еще лет десять, то, наверное, сойду с ума».
И спустя девять лет Батюшков пишет книгу «Опыты в стихах и прозе», где опровергает подвиг Раевского.
Слышал я и такие предположения. Мол, Николай Николаевич Раевский впоследствии сам испугался того, что произошло под Салтановкой. Как прореагирует жена? Ведь одно дело взять сыновей на войну, другое – вывести их под картечь на неминуемую гибель. Вот уж поистине «храброго пуля боится».
Но тут не всё сходится. Ведь сестре жены он рассказал о бое под Салтановкой по свежим следам. Но ведь и с женой, Софьей Алексеевной, он переписывался очень часто.
Видимо, в 1812 году её при корпусе не было. Как помним, даже Маргарита Тучкова согласилась уехать в Москву в первые же дни нашествия Наполеона.
А у Раевских было кроме двух сыновей, четыре дочери. Пятая умерла в младенчестве. А дочери – мал-мала меньше: Екатерина (1797 – 1885), в будущем супруга декабриста М. Ф. Орлова, Елена (1803 – 1852) – фрейлина, Мария (1805 – 1863), в будущем супруга декабриста С. Г. Волконского, Софья (1806 – 1883) – фрейлина. Как видим, самой старшей было пятнадцать лет, а младшей – шесть лет.
Поздновато спустя год рассказывать адъютанту о том, что ни в какую атаку сыновей не водил, в надежде, что тот всё это опишет, дабы успокоить родных и близких.
Батюшков сообщил, между прочим, что младший Николенька в это время вообще собирал ягоды в лесу.
Ну, представьте себе картину, дорогие читатели. Идёт жестокий бой. Решается судьба отвлекающего манёвра, а, следовательно, судьба корпуса и армии.
Раевский прекрасно понимает, что если не удастся опрокинуть французов под Салтановкой, по простой и ясной логике сражения враг немедленно нанесёт контрудар, пока наступающие не успели закрепиться на захваченных рубежах.
И вот Раевский перед тем как возглавить атаку, говорит своему одиннадцатилетнему сыну Николеньке:
– Мы тут сейчас повоюем немного, а ты пока сходи в лес, ягодки пособирай.
Как вам такая сцена?
Допускаю, что кому-то она покажется вполне нормальной. У нас давно уже стало так – военное дело и медицину знают все доподлинно, лучше, чем специалисты. Все врачи и все стратеги. Вот только редко кто знает, что, к примеру, взвод или рота в контрнаступление не переходят и даже контрудар не наносят, а контратакуют, что крупными соединениями командуют не военно-начальники, а военачальники, что командующие начинаются не с батареи – недавно по телеку было – а с армии.
Недаром Карл фон Клаузевиц говорил:
«Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно».
Ну а что касается подвига Раевского под Салтановкой, то здесь применимы такие его слова:
«Часто представляется чрезвычайно отважным такой поступок, который в конечном счёте является единственным путём к спасению и, следовательно, поступком наиболее осмотрительным».
Так что если, исключив эмоции, рассмотреть решение генерала Раевского под Салтановкой, то получается, что это его необыкновенное по силе и мужеству решение, явилось «наиболее осмотрительным». Именно оно вдохновило солдат на дерзкую атаку, заставившую маршала Даву отказаться от немедленного контрудара, который мог стать гибельным не только для корпуса, но и для всей армии, находившейся на переправе и потому не готовой к бою.
Ну и завершая эти размышления, хочу напомнить, что против заявления поэта замечательного, но безнадёжно больного душевно человек можно поставить высказывания подлинных героев Священной памяти Двенадцатого года.
«Следуемый с двумя отроками-сынами, впереди колонн своих…»
Денис Васильевич Давыдов, в тот момент ещё адъютант Багратиона, писал о подвиге:
«Раевский… следуемый двумя отроками-сынами, впереди колонн своих ударил в штыки на Салтановской плотине сквозь смертоносный огонь неприятеля… После сего дела я своими глазами видел всю грудь и правую ногу Раевского… почерневшими от картечных контузий. Он о том не говорил никому, и знала о том одна малая часть из тех, кои пользовались его особою благосклонностию».
Сергей Николаевич Глинка посвятил Раевскому такие поэтические строки:
Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин…
Вещал: «Сынов не пожалеем,
Готов я вместе с ними лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!
Мы Россы! Умирать умеем».
Василий Андреевич Жуковский в своей оде «Певец во стане Русских воинов» был предельно точен в описании подвигов героев Двенадцатого года. Точен и здесь:
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами….
Измышления Батюшкова отыскали и цитируют. А ведь есть и письмо Николая Николаевича Раевского к Софье Алексеевне, датированное 15 июля 1812 года:
«Александр сделался известен всей армии, он далеко пойдёт... Николай. находившийся в самом сильном огне лишь шутил. Его штанишки прострелены пулей. Я отправляю его к вам. Этот мальчик не будет заурядностью».
Дело под Салтановкой было 11-12 июля. Значит, Раевский написал письмо жене по горячим следам.
Главнокомандующий 2-й Западной армией генерал от инфантерии князь П.И. Багратион отметил подвиг Смоленского полка в донесении:
«Полк сей, отвечая всегдашней его славе, шёл с неустрашимостью, единым россиянам свойственною, без выстрела, с примкнутыми штыками, несмотря на сильный неприятельский огонь, и, увидев под крутизною у плотины сильную колонну неприятельскую, с быстротой, молнии подобною, бросился на оную.
Цепь стрелков егерских, видя генерал-лейтенанта Раевского, идущего вперёд, единым движением совокуплялись с предводительствоемою им колонною и, усилив оную, способствовали мгновенно уничтожить неприятельскую, двухкратно получившую сильные сикурсы».
«Он был в Смоленске щит…»
…3 августа 1812 года над русским городом Смоленском нависла смертельная опасность. В результате наступательных действий армии Багратиона и Барклая-де-Толли удалились от города по расходящимся направлениям, и Наполеон, воспользовавшись этим, решил ворваться в город.
Ближе всех к Смоленску оказался в то время 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского. Раевский быстро вернулся в предместья и стал готовиться к переправе на левую сторону Днепра, чтобы преградить путь французам. И тут к нему подъехал Беннигсен, состоявший в то время советником при штабе Барклая-де-Толли.
Обрисовав обстановку в самых мрачных красках, Беннигсен стал убеждать Раевского воздержаться от решительных действий, не брать на противоположный берег артиллерии, чтобы не потерять её, да и не спешить с переправой войск.
Барон уверял, что Раевский идёт на верную гибель, что ему не устоять против натиска французов и город защищать совершенно бессмысленно.
Николай Николаевич Раевский писал впоследствии:
«Сей совет несообразен был с тогдашним моим действительно безнадёжным положением. Надобно было воспользоваться всеми средствами, находившимися в моей власти, и я слишком чувствовал, что дело идёт не о сохранении нескольких орудий, но о спасении главных сил России, а может быть, и самой России. Я вполне чувствовал, что долг мой – скорее погибнуть со всем моим отрядом, нежели позволить неприятелю отрезать армии наши от всяких сообщений с Москвой».
Николай Николаевич Раевский не послушал совета Беннигсена. Он поступил так, как велела ему совесть, как велел долг перед Отечеством. Он остановил врага и удерживал Смоленск до подхода к нему главных сил.
А что было бы, если бы Беннигсен не советовал, а имел право приказать? На этот вопрос ответил сам Наполеон. Находясь в ссылке на острове св. Елены и размышляя над событиями той войны, он писал о Смоленской эпопее:
«Пятнадцатитысячному русскому отряду, случайно находившемуся в Смоленске, выпала честь защищать этот город в продолжении суток, что дало Барклаю-де-Толли время прибыть на следующий день. Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то она переправилась бы там через Днепр и атаковала бы в тыл Русскую Армию, в то время разделённую и шедшую в беспорядке. Сего решительного удара совершить не удалось…»
Не дал его совершить генерал Раевский, о котором Багратион сказал тогда:
«Я обязан многим генералу Раевскому. Он, командуя корпусом, дрался храбро».
А Денис Давыдов, в то время командовавший эскадроном Ахтырского гусарского полка, выразился более определённо:
«…Гибель Раевского причинила бы взятие Смоленска и немедленно после сего истребление наших армий, – и добавил далее, что без этого великого дня не могло быть «ни Бородинского сражения, ни Тарутинской позиции, ни спасения России».
Всё это отчётливо понимал Николай Николаевич Раевский и потому шёл навстречу численно превосходящему врагу, чтобы отстоять город, спасти армию и спасти Россию. И потому о Николае Николаевиче Раевском говорили, что он был в Смоленске щит – в Париже меч России.
Наполеон же заметил, что этот генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы.
Кому мешает Русская слава?
Итак, мы видели, что в письме к своей жене Николай Николаевич Раевский не побоялся сказать правду о той жестокой и кровопролитной атаке, в которую он повёл полк вместе со своими сыновьями.
Но вот что удивительно. Прицепившись к недоказанному фактику, многие шелкопёры бросились опровергать подвиг, который живёт уже в веках и является вдохновляющим примером не только для тех, кто уже надел погоны, но и для детей, для школьников, о чём скажу ниже.
А ведь эти нападки звенья одной цепи по исполнению вожделенной заокеанской воли. В начале девяностых море клеветы вылили на подвиги знаменитые – подвиги Александра Матросова и Зои Космодемьянской. А сколько подвигов, не менее знаменитых, вообще не допущено до читателей. Взять хотя бы подвиг Можайского десанта, который вошёл даже в учебник Бундесвера, как способ десантирования с самолёта на предельно малой скорости и предельно малой высоте без парашюта, правда, при наличии снежного покрова. А у нас соратники ниспровергателей подвига Раевского говорят – не было.
Ну а подвиг 28 героев панфиловцев. Сколько навыдумали, чтобы ниспровергнуть.
Но ничего не вышло у заокеанских человекообразных особей. Герои шестой роты псковских десантников дали ответ и Аллену Даллесу и его прихлебателям.
По этому поводу я написал…
Их было двадцать восемь под самою Москвой,
А в сорок первом осень была суровой, злой.
Под гусеницы пала пожухлая трава,
Со скрежетом металла война к Москве рвалась.
И небо под крестами, и горизонт в крестах,
И крупповскою сталью прикрыт был лютый враг.
Их было двадцать восемь, а танков пятьдесят.
А если тебя спросят: «А ты сумеешь так?»
Они остановили тевтонскою свинью.
На их святой могиле взгляни на жизнь свою,
Спроси себя построже: "Когда часы пробьют,
За Родину ты сможешь жизнь положить в бою?"
Ведь в ту лихую осень лицом к лицу с врагом
Сгорели двадцать восемь сердец в огне святом,
И враг не в силах пламя то погасить вовек,
Оно для нас как Знамя, как Русской Славы свет.
И не смывают годы Панфиловский запал.
В сердцах десантной роты огонь тот запылал,
Когда с несметной силой, с поганою ордой
В жестокий бой вступили так, словно под Москвой,
Сыны Святой России в беретах голубых,
Те витязи Святые – ровесники твои.
Встречая смерть словами: «За Русь, за ВДВ!»
За всю Россию дали Панфиловцам ответ!
Ну а теперь хочется привести слова нашего замечательного историка Иван Егорович Забелин, русского археолога и историка, автор многих замечательных книг:
«Всем известно, что древние, в особенности греки и римляне, умели воспитывать героев…
Это умение заключалось лишь в том, что они умели изображать в своей истории лучших передовых своих деятелей, не только в исторической, но и поэтической правде. Они умели ценить заслуги героев, умели отличать золотую правду и истину этих заслуг от житейской лжи и грязи, в которой каждый человек необходимо проживает и всегда больше или меньше ею марается. Они умели отличать в этих заслугах не только реальную, и, так сказать, полезную их сущность, но и сущность идеальную. То есть историческую идею исполненного дела и подвига, что необходимо, и возвышало характер героя до степени идеала.
Наше русское возделывание истории находится от древних совсем на другом, на противоположном конце. Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю и о каких-либо характерах и идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие были у нас идеалы, а тем более герои! Вся наша история есть тёмное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает большинство образованных Русских людей. Ясное дело, что такая история воспитывать героев не может, что на юношеские идеалы она должна действовать угнетательно. Самое лучшее как юноша может поступить с такою историею, – это совсем не знать, существует ли она. Большинство так и поступает. Но не за это ли самое большинство русской образованности несёт, может быть, очень справедливый укор, что оно не имеет почвы под собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону.
Действительно, твёрдою опорою и непоколебимою почвою для национального сознания и самопознания всегда служит национальная история… Не обижена Богом в этом отношении и русская история. Есть или должны находиться и в ней общечеловеческие идеи и идеалы, светлые и высоконравственные герои и строители жизни, нам только надо хорошо помнить правдивое замечание античных писателей, что та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит вовсе не от их славных или бесславных дел, вовсе не от существа исторических подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения и даже намерения писателей изображать в славе или унижать народные дела, как и деяния исторических личностей».
В 1986 году, в канун 175-летнего юбилея мой сын Дмитрий пошёл во второй класс. Мне довелось уже помогать классу в подготовке к школьному параду, посвящённому 23 февраля. А тут задумал попробовать подготовить постановку на сцене, посвящённую годовщины Отечественной войны 1812 года.
Учительница Нина Семёновна, директор, завуч, военрук – все поддержали.
Пришлось и родителям потрудиться на славу, потому что форму одежды мы, как умели, готовили сами. Но когда на родительском собрании поинтересовался, не проклинают ли меня за такие вводные, которые решить не так просто, все в один голос заявили, что целиком и полностью готовы поддержать подобные начинания.
И вот второклассники стали разучивать роли, которые мы вместе и набросали, используя историю Отечественной войны. И выбран был для постановки именно подвиг под Салтановкой. Ну и, конечно, совет в Филях. Бородинское сражение, конечно, на сцене актового зала школы никак не покажешь.
А начали мы с миссии генерала Балашова в ставке Наполеона. Выбрали девочку совсем маленького расточка, привязали к ней всякую всячину, чтобы напоминала пузатого коротышку Наполеона и поставили на небольшую подставочку, закамуфлированную под барабан. Ну а роль генерала Балашова исполнял самый крупный ученик класса – высокий, плотно сбитый. Министр внутренних дела России Балашов был ведь на самом деле высоким и статным генералом.
И какова сцена получилась. «Балашов» басом говорит о мире, а «Наполеон» задаёт вопрос, какой дорогой короче дойти до Москвы? Ну и получает знаковый ответ Балашова:
– В Москву, как и в Рим, ведут разные пути. Карл двенадцатый шёл через Полтаву.
Раевского играл мой сын, и я два дня потратил, чтобы сделать ему из картона кивер с султаном, ну и конечно эполеты.
Всё отрепетировали неплохо. Детьми Раевского назначили самых миниатюрных девочек. Все были с игрушечными шпагами, и сын с удовольствием восклицал: ««Вперед, ребята! Я и дети мои укажем вам путь!»
Потом сын, рассказывая о делах класса, называл всех по ролям: «Наполеон пятёрку получил», «Балашов заболел» и так далее.
Казалось бы игрушки. Но какое они оказали влияние на совсем ещё маленьких школьников. Они хорошо запомнили эту небольшую часть военной истории. Я и потом, вплоть до поступления сына в Тверское суворовское военное училища, частенько проводил беседы по истории.
Но потом «комуняк», как презрительно именовали членов КПСС ельциноиды, сменили «демоняки» – думаю справедливое противопоставление – и в классах стали звать друг друга не Раевскими, Балашовыми или Багратионами, а Крузами, Иуиденами, Клерками и прочим иноземным барахлом.
«…лучшее украшение женщины».
Эту картину, на которой княгиня Мещерская изображена с дочерью и с будущей послушницей, французы в 1812 году повредили сабельными ударами
Княгиня Мещерская - дочери: «…скромность есть лучшее украшение женщины».
Княгиня Евдокия Николаевна Мещерская так и не смогла забыть любимого супруга, с которым её связывали, судя по всему, не только несколько кратких месяцев супружеской жизни, но и долгое знакомство до замужества, ведь их имения были рядом. Быть может, пример вот такой любви, зародившейся с детства и сопровождавшей всю жизнь, и привёл к мысли о том, что дочери нужно помочь сделать главный выбор в её жизни..
Воспитанная в лучших русских традициях и получившая хорошее домашнее образование, в котором принимали самое действенное участие родители, не слишком полагавшиеся на учителей, особенно из числа залётных иноземных неучей-мошенников, решила она сама дать всё то лучшее, что досталось ей от родителей.
Относительно иноземных учителей нет никаких преувеличений в том, что сказано выше. Историк русского зарубежья А.Н. Фатеев привёл такой факт:
«Французский посланник при Елизавете Петровне Лопиталь и кавалер его посольства Мессельер, оставивший записки, были поражены французами, встреченными в России в роли воспитателей юношества. Это были большей частью люди, хорошо известные парижской полиции. «Зараза для Севера», как он выражается. Беглецы, банкроты, развратники, убийцы, воры. Этими соотечественниками члены посольства так были удивлены и огорчены, что посол предупредил о том русскую полицию и предложил, по расследовании, выслать их морем».
Занимаясь воспитанием дочери, княгиня Мещерская избрала весьма действенные и необычный способ. С того момента как Настеньке исполнилось десять лет, она стала писать ей небольшие наставления или поучения получили название «Беседы с моей дочерью».
Евдокия Николаевна завела специальную тетрадку и в день рождения, когда Анастасии исполнилось десять лет, вручила её.
В тетради она делала записи, в которых давала оценки поведения дочери, хвалила за успехи и деликатно журила за недостатки.
Начало положила «Беседа 1».
Княгиня обращалась к дочери уже не как к ребёнку, она разговаривала с ней как бы на равных, приглашая принять участие в оценке своего поведения, своих поступков.
«О многом я доселе не рассуждала с тобой, любовное дитя моё, теперь же, когда ты ещё не достигла полного развития телесного, а потому и умственного, но уже уклоняешься от детства и вступаешь в возраст, где всё должно делаться разумно, принимаю на себя труд, желая душевно видеть тебя благополучной и любя тебя нежно, рассуждать с тобою и указать тебе, как отныне ты должна себя вести.
Ты дашь веру моим словам, ибо убеждена, что никто так внимательно не следит за твоими поступками, как твоя мать, что весьма естественно, ибо никто не может наравне с твоею матерью столь истинно утешаться твоим добрым поведением и столь много огорчаться худым. Это убеждение вменяет тебе в обязанность всегда повиноваться воле моей и следовать моим искренним советам».
Удивительно это вступление. В нём сквозят и материнская любовь, и забота о том, чтобы дочь следовала правильным путём в своей жизни.
Евдокия Николаевна давала наставления, которые не худо было бы перенять и нынешним матерям, да и отцам, воспитывающим детей, порою, не на подвигах великих предков, а на отвратительных инородных «гарри- поттерах» и прочей мерзости, обильно истекающей из давно уже потерявшего благочестие Запада.
Княгиня Мещерская писала дочери:
«Люби Отечество своё и верховную власть... По твоим летам довольно и сего, тебе сказанного. Впредь будем рассуждать пространнее, как велики и в чем именно заключаются твои обязанности к Отечеству».
Вот так! Не нужно слишком многого в отроческом возрасте. «Довольно и сего», важного! Любовь к Отечеству! Не это ли нужно прививать каждому ребёнку, будь то мальчик или девочка, с самых ранних лет.
«Люби родственников своих, – писала далее княгиня. – Кто из них к тебе милостив, умей быть благодарной. Кто холоден и невнимателен, не досадуй и не огорчайся, но надейся, что постоянным вниманием и покорностью заслужишь благоволение старших, чтобы, когда состаришься сама и делами своими заслужишь уважение, искали бы и твоей благосклонности».
Здесь уже ощущается влияние христианских заповедей. И это неслучайно. С момента смерти супруга княгиня Евдокия Николаевна начала свой особый путь к Богу. Её связывало с земным миром только желание наставить на путь праведный самое дорогое существо – свою дочь.
И снова наставление:
«Люби и уважай приятелей и знакомых твоей матери. Примечай: с кем мать твоя короче и искреннее обходится, в тех и ты более ищи любви к себе и внимания, но и с прочими будь вежлива и учтива...
С товарищами твоих лет будь ласкова и обходительна, но не болтлива. Повторяю: скромность есть лучшее украшение женщины».
Начало бесед было положено наставлениям по поводу отношения к людям. Далее же княгиня коснулась и других важных вопросов.
Терпеливо, ненавязчиво, деликатно и участливо она готовила дочь к будущей взрослой жизни. Конечно же, она учила её каждый день и каждый час своим личным примером, своими советами, но тетрадь помогала внести во взаимоотношения с дочерью элемент особый, искренний и располагающий к ощущению особой доверительности.
А далее перед нами прямо-таки учебник хозяйствования, который заставляет подумать о том, что, если бы не нашествие «корсиканского чудовища» с бандитским отребьем, собранным со всей Европы, какая была бы замечательная жена у славного русского генерала Александра Кутайсова.
Вот советы относительно будущей взрослой жизни:
«Желая видеть тебя соблюдающей во всём порядок, дабы ввести тебя в оный и приучить к хозяйственному употреблению вещей, отделяю особую комнату, в которой помещу всё для тебя нужное. У тебя будет своя прислуга, и я дам тебе немного денег, чтобы ты с сего дня располагала своею собственностью по своему усмотрению. Я не вмешиваюсь в твои распоряжения, а буду ожидать твоего донесения и тогда сделаю тебе свои замечания. Но так как ты по сие время собственности не имела и никогда ничем не располагала, то считаю своею обязанностью сказать тебе несколько слов, после которых и мысли, и действуй уже сама.
В комнате найдёшь два шкафа: в одном – твои книги, бумага для письма, карандаши, ящик с чернильницей и прибором к ней, ящик с красками, деньги и всему этому реестр; в другом – твои платья, твоё бельё, ящик с лентами и другими мелочами и тоже всему опись. Куда что употребишь, отметь на записке. Что будет худо, к делу не годно, мне доложи, я заменю другим.
Найдёшь стол рукодельный, стол или бюро для письма и рисования, стол туалетный со всем, что нужно для одевания. Что откуда вынешь, опять на своё место положи или поставь, дабы не терять времени в бесполезном отыскивании вещей, в чём ты доселе слишком много упражнялась».
Прямо-таки учебное пособие для будущей невесты, жены, хозяйки, а впоследствии – будущей матери.
Но не только наставления были в тетрадке. Там содержались оценки, даваемые матерью дочери в разделе:
«Замечания по истечении года»
Княгиня писала:
«Хорошего заметила в тебе, любезная дочь:
1. Привязанность ко мне, которая особенно проявлялась, когда я бывала больна или грустила более обыкновенного. Ты жалела меня тогда, всячески старалась утешить, ласкала. Я благодарна за это и ставлю тебе в достоинство твою привязанность ко мне; но желаю, чтобы ты подумала, хорошенько рассудила, какое именно проявление твоей любви может меня особенно утешить, сделать покойной и счастливой: работа твоя над собою как в больших, так и малых случаях.
Хорошего заметила ещё:
2. Твою готовность уделять другому от всего, что имеешь.
3. Вежливость с родными и знакомыми.
4. Обходительность с подчинёнными: ты ценишь оказываемые ими услуги и вознаграждаешь их по возможности».
Были в тетрадке и замечания:
«Указала на всё, что заметила в тебе хорошего. По что, любезная дочь, заставляешь меня говорить и о худом?
1. Хотя ты ещё и молода, почему тебе и не предписывают и от тебя не требуют продолжительного моления, строгого соблюдения постов, воздержания, но в меру твоих лет и умственного развития, если бы даже тебе о том никто не напоминал, не следует ли тебе хотя краткой, но усердною молитвою обращаться ежедневно утром и вечером к Подателю жизни и соединённых с нею благ? Ты же, любезная дочь, часто забываешь значение молитвы и молишься нехотя, рассеянно.
2. В тебе иногда проглядывает желание учиться, но редко. Что касается до игры на фортепиано, то я почти всегда замечаю, что ты с крайним принуждением учишь свои уроки, отчего и время, и деньги пропадают даром.
3. Когда одеваешься, прилагаешь слишком много труда к этому делу, а в продолжение дня никогда не сделаешь на себя оборота: чисто ли на тебе платье? Так ли оно держится, как должно? А в сём-то и состоит опрятность. Не о красоте своей должна думать женщина, а чтобы все, что на ней надето, было во весь день чисто и опрятно.
4. Нет у тебя охоты ни к какому рукоделию, а для женщины рукоделие необходимое занятие. Оно бывает ей нужно в бедности, в которой человек, какое бы он ни имел состояние, находиться может; или даже как удовольствие, ибо случается работать для любезных нам людей, в знак памятования о них, и для себя, в дом (свой труд всегда приятнее иметь на глазах, нежели чужой), или ещё когда находишься в таком состоянии здоровья, что не можешь ни читать, ни рассуждать – сие часто бывает с людьми слабого здоровья, – тогда, чтобы не быть в праздности, занимаешь себя каким-либо рукоделием и время проходит не так скорбно.
5. С весьма недавнего времени, хотя не часто, случается с тобою, что, если кто тебя в чём оговорит или остановит, ты тотчас переменяешь выражение своего лица. Если бы перемена эта изъявляла сознание твоё в ошибке, было бы хорошо; но, напротив, на лице твоём тогда видна бывает досада, что очень дурно.
6. Часто споришь с товарищами и всегда стараешься, чтобы твой был верх.
Сего 1807 года, 19 мая».
«Жизнью своею украшал гражданство…»
Александр Кутайсов родился 30 августа 1784 года.
Его отец был мальчишкой подобран в Бендерах, взятых штурмом 2-й армией Петра Ивановича Панина в 1770 году, в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов, и подарен Императрицей Екатериной Великой наследнику престола великому князю Павлу Петровичу. Павел играл с ним и привязался к нему. Турчонок стал в крещении Иваном Павловичем, а фамилию получил Кутайсов, поскольку родился будто бы в городе Кутая (Кютахья).
Смышлёный турчонок постепенно продвигался по иерархической лестнице, служил камердинером, учился в Париже, куда Павел Петрович отправил его учиться парикмахерскому искусству, затем, как выразился о нём Суворов «чесал и брил своего господин. Став Императором, Павла I сделал его обер-шталмейстером двора (начальником императорских конюшен) и пожаловал графский титул.
Великий князь Николай Михайлович писал о нём:
«Кутайсов был одним из самых ненавистных всем фаворитов. Значение его было велико, но у него не было никаких убеждений, и широкие государственные интересы ему были чужды; склонность к интригам, корыстолюбие, страх за своё положение руководили им. В конце своей блестящей карьеры Кутайсов оставался тем же, чем был при её начале; влияние его было пагубно для его благодетеля».
А вот женил Император своего любимца на женщине высоких достоинств – Анне Петровне Резвой – происходившей из доброго дворянского рода.
О ней и о её предках – разговор особый… Но это в последующих главах.
У Кутайсова было три сына и три дочери. Сын Николай и дочь Софья умерли в детском возрасте. А вот Павел Иванович (1780-1840), старший брат нашего героя, генерала Александра Кутайсова, дослужился до чина камергера и стал уже в позднейшие годы членом Государственного Совета.
Сестра Мария (1787 – 1870), которая была замужем за графом Владимиром Фёдоровичем Васильевым, ничем особенным не отличалась, а вот фрейлина Надежда Ивановна (1796 – 1868), известна тем, что написала воспоминания, посвящённые восстанию 1830 – 1831 гг. в Польше. В 1821 году она вышла замужем за князя Александра Фёдоровича Голицына.
Десяти лет от роду Александр, второй по старшинству сын павловского фаворита, десяти лет отроду был записан в лейб-гвардии конный полк. В 1796 году был пожалован сержантом Преображенского полка, а вскоре получил назначение капитаном в Великолукский полк с причислением к штабу Михаила Илларионовича Кутузова.
После вступления на престол Павла Петровича отец Александра И.П. Кутайсов в короткий срок превратился из парикмахера во влиятельного царедворца и кавалера высших орденов. Естественно, всё это отразилось и на судьбе будущего генерала.
О предках Александра Кутайсова по материнской линии сохранились сведения значительно более полные.
Мать Александра Ивановича Кутайсова Анна Петровна, урождённая Резвая, родилась в семье подрядчика дворцового ведомства Петра Терентьевича Резвого, который был хорошо известен Императрице Екатерине Второй, частенько называвшей его «мой подрядчик».
Пётр Терентьевич продолжал дело, начатое его отцом, Терентием Резвым, родоначальником фамилии, название которой происходило от старинного правописания прилагательно «резвой», то есть «резвый». А нарекла «резвым» Терентия Императрица Елизавета Петровна за то, что тот однажды очень быстро и сноровисто исполнил какое-то её поручение. Она же своим указом освободила Терентия Резвого «от всякой службы», а дом «от всякого постоя», чтобы он мог всё своё внимание уделять основной задаче, поставленной ему, – поставкам для императорского двора живых стерлядей.
Терентий занимался этим делом ещё при Петре Первом, являясь, кроме того, поставщиком ряда петербургских учреждений. А, когда был создан в Петербурге Сухопутный шляхетный кадетский корпус, ему были поручены поставки рыбы и для кадет.
В Петербург Терентий приехал из Осташкова, где и сам он прежде, а, впоследствии, и его родственники пользовались всеобщим уважением и были в почёте, а один из них, Кузьма Резвой, стал депутатом от города Осташкова в «Екатерининской комиссии о сочинении нового Уложения».
Торговое дело у деда Дмитрия Петровича было поставлено неплохо. Продолжал традицию и отец, Пётр Терентьевич Резвой, открывший в Петербурге торговлю гастрономическими товарами и фруктами. Сохранились свидетельства о том, что это был человек широкой души, отличный, примерный семьянин. Он дал всем детям вполне достойное по тем временам образование. И не случайно на его памятнике было начертано: «Жизнью своею украшал гражданство и с пользою тому служил, а смертью причинил неутешную горесть многочисленно семье своей».
Одну из своих дочерей – Анну – как уже упомянуто выше, он выдал замуж за Кутайсова, тогда ещё, конечно, не графа, но любимчика наследника престола. То есть брак был весьма и весьма выгодным.
Сыну турка-брадобрея
«дала жизнь русская женщина… из чисто русской семьи»
Тут хотелось бы остановиться на одном весьма и весьма забавном эпизоде из моего литературного творчества, связанного именно с сыном Анны Петровны, Александром Кутайсовым.
В восьмидесятые годы я служил в Военном издательстве Министерства Обороны СССР. Конечно, для издательской деятельности более подходит слово работа, нежели служба. Но, поскольку я был до мозга кости военным: за плечами Калининское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, служба в войсках в должностях от командира мотострелкового взвода до командира батальона, то и работу в военном журнале, предшествующую издательской, и издательскую работу, всегда называл службой.
В военную печать я пришёл из войск, специального образования не имел, ну и занимался в основном теми темами, которые были мне близки по роду военной службы. Во всяком случае, на исторические темы до того случая, о котором хочу поведать, писать довелось лишь однажды. В журнале «Советское военное обозрение» опубликовал очерк «Гордость России», посвящённый 150-летию со дня рождения Александра Васильевича Суворова.
А тут на одном из Всеармейских семинаров молодых военных писателей, которые регулярно проводились Главным Политическим управлением Советской Армии и Военно-Морского Флота, подружился с молодым ещё в ту пору журналистом капитаном Александром Бондаренко. Вот он-то и решил привлечь меня к темам историческим… Ныне Александр Юльевич Бондаренко, полковник запаса, возглавляет отдел литературы и искусства газеты «Красная Звезда», а в ту пору руководил небольшой газеткой-многотиражкой военного училища.
Заняться историей он меня убедил не сразу. Я же, желая ему помочь, решил познакомить с ребятами из издательства «Молодая гвардия». Дружил я в ту пору с редакцией ЖЗЛ. Вот и привёл приятеля к редактору Владимиру Левченко, ну а тот сразу, с места в карьер: готовим, мол, к 175-летию Отечественной войны 1812 года ряд изданий, а потому предлагайте, о чём писать будете.
Бондаренко сразу сказал, что будет писать об Орлове…
– А ты? – спросил он у меня.
– О генерале Резвом, – упредил с ответом Бондаренко.
Я хотел возразить, но приятель мой шепнул, чтобы помолчал. Обещал всё рассказать, как и с чего начать.
Как раз готовился довольно объёмный том «Герои 1812 года». Володя Левченко согласился с предложенными героями, правда, с большими сомнениями – всё-таки не того они были уровня, что бы помещать очерки о них в столь престижный сборник. Ну и тогда же предложил сделать по очерку в альманах «Прометей», который издавала редакция ЖЗЛ. Бондаренко снова взял инициативу в свои руки и распределил между нами героев. Если о Дмитрии Петровиче Резвом я в ту пору и не слышал, то имя генерала Кутайсова было на слуху.
Ну а что касается моих сомнений, справлюсь ли, то, когда мы вышли из издательства, приятель мой пообещал подготовить список литературы, в которой я смогу найти нужные факты.
В конце концов, конечно, герои наши в большой том серии не попали, а вот очерк об артиллерии генерал-майоре Александре Ивановиче Кутайсове в альманахе «Прометей» был опубликован.
Вот я и подошёл к тому моменту, который и подвиг на это краткое воспоминание.
Рассказывая о родословной Александра Ивановича Кутайсова по материнской линии – по отцовской там и говорить не о чем, – я решил хоть в какой-то мере отделить славного генерала от прилипшего к его отцу прозвища, связанного с его национальностью, которая, впрочем, точно и не установлена. «Турок Кутайсов», «титулованный турок Кутайсов», «титулованный брадобрей Кутайсов» и так далее. Мне показалось, что и на славного героя Александра Кутайсова, в какой-то степени бросают тень такие вот определения. Ну и, рассказав о родословной его матери Анны Петровны, написал в очерке:
«Как видим, Александру Кутайсову, талантливому генералу и разносторонне одарённому человеку, дала жизнь русская женщина, происходившая из чисто русской семьи, корни которой уходят в исконно российские земли, в город Осташков, где берёт начало великая русская река Волга. Именно из этой семьи, давшей потом России многих замечательных сыновей, вынес Александр всё лучшее, что в нём было. Безусловно, не от отца, титулованного турка-брадобрея, он мог получить широту русской души, безудержную храбрость, замечательный военный талант…»
Когда работали с вёрсткой, Володя Левченко заметил, что к этому абзацу обязательно кто-то придерётся. Заменили «русская река Волга», на словосочетание «наша река Волга», но больше ничего менять у редактора рука не поднялась. Это и стало причиной забавного происшествия.
Вышел альманах к 175-летнему юбилею Отечественной войны, хотя и не был посвящён этой дате – просто очередной, выпуск – он так и назывался: «Прометей – 14», то есть четырнадцатый выпуск.
И вот как-то осенью, когда я был в гостях у сценариста-документалиста, Евгения Латия, позвонила ему одна его знакомая и сказала:
– Николай Шахмагонов у тебя? Да!? Так включи скорее телевизор, там Генрих Боровик его отца в передаче «Позиция» критикует…
В ту пору даже канал не надо было называть. Все важнейшие телепередачи шли по первому каналу.
Включить то включили, да вот опоздали, конечно. Генрих Боровик своё выступление закончил. Стали выяснять, о чём вообще речь была. Оказалось, что разговор был об очерке «На поле чести», опубликованном в альманахе «Прометей». Женя Латий знакомой своей сказал тогда:
– Так это не отца Боровик критиковал, а именно Николая.
Большого труда стоило выяснить, что же сказано было. Далеко не у всех была аппаратура, с помощью которой можно записать телепередачу. Но кто-то из знакомых записал звук, без видео.
Генрих Боровик вышел с книжкою альманаха, раскрыл её и заявил, что вот, мол, пример великодержавного шовинизма. В то время очень часто эту тему поднимали тогдашние либерасты. Боровик и заявил, мол, «посмотрите, что пишет молодой литератор Шахмагонов». Прочитал он тот абзац полностью, на всю страну прочитал и сделал заключение: почему же это Кутайсов все лучшие, указанные в очерке качества мог получить именно от матери Анны Петровны, а не от отца?
Что тут сказать? По-моему, и так ясно. Достаточно привести примеры из военной истории, примеры соотношения сил в сражениях и битвах с турками и соотношения потерь и станет ясно.
Вспомним, как относился к бывшему брадобрею Кутайсову Александр Васильевич Суворов. Мемуарист эпохи Николай Иванович Греч в «Записках о моей жизни» так описывает свидание Кутайсова с Суворовым:
«Кутайсов вошёл в красном мальтийском мундире с голубою лентою через плечо.
– Кто вы, сударь? – спросил у него Суворов.
– Граф Кутайсов.
– Кутайсов?! Кутайсов?! Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что же вы такое по службе?
– Обер-шталмейстер.
– А прежде чем были?
– Обер-егермейстером.
–А прежде?
Кутайсов запнулся.
– Да говорите же?
– Камердинером.
– То есть вы чесали и брили своего господина.
– То.. Точно так-с.
– Прошка! – закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофию. – Ступай сюда... Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты вечно пьян и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.
Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил Императору, что князь в беспамятстве и без умолку бредит».
Словом, что уж там говорить, какие такие высокие душевные качества, какую такую храбрость можно унаследовать у турка-брадобрея, кстати спустя менее чем через год после описанной встречи, 11 марта 1801 году сбежавшего из дворца и не осмелившегося прийти на спасение к своему благодетелю.
Сначала я хотел как-то ответить, высказать свои соображения на этот счёт. Даже отыскал адрес Генриха Боровика в справочнике Союза писателей СССР, но смутило количество указанных там отчеств – Аверьянович, Авиазерович и Эзеншульевич… Которое правильное? Впрочем, многие товарищи мне советовали не сердиться, а выразить сердечную благодарность за столь необыкновенную рекламу моего творчества.
Но реклама рекламой, а времена были такие, когда партийные организации ещё работали по устоявшимся принципам.
Утром пришёл я на службу в Воениздат, как ни в чём не бывало. Подумаешь, упомянули в передаче. Но «Позиция» в ту пору была очень и очень популярна. Дискуссии там развёртывались, порою, серьёзные.
И вот что сразу бросилось мне в глаза – странное какое-то отношение «старших товарищей», истых партийцев, ну то есть членов КПСС. Коммунистами их как-то вот всех назвать язык не поворачивается.
При встрече глаза отводили, руки прятали, чтобы не случилось рукопожатия дружеского. Все чего-то ждали. Ну а чего можно было ждать? Конечно же, реакции парткома. Я всё же, как никак уличён шовинизме. Надо реагировать. Во всяком случае, ещё несколько лет назад реакция была бы вполне предсказуемой. Но тут – тишина.
На обед мы ходили в столовую Воениздата. Нужно было немного в очереди постоять. Так вот и в очереди тоже почувствовал настороженность. Перед разбором персонального дела некоторые считали, что лучше бы не засвечиваться добрым отношением к провинившемуся.
Прошёл обед, я встал из-за стола – а зал у нас был просторный, широкий, с большими окнами. Словом, строение нового уже типа – «из стекла и бетона». И вот в зал как раз в тот самый момент вошёл заместитель главного редактора Воениздата полковник Евгений Павлович Исаков.
Это был строгий и требовательный начальник. Он – выпускник Казанского суворовского военного училища, я – Калининского СВУ. Конечно, существует девиз «кадет кадету друг и брат», но и поговорка известна: дружба дружбой, а служба службой. Дисциплина превыше всего. И никаких поблажек, если речь о деле.
Одно можно сказать твёрдо – Евгений Исаков был не из когорты либерастов и им сочувствующих, не из компании сокрушителей России. Но тут случай особый. Я перед всей страной был уличён в шовинизме, строго осуждаемый партией! И кому было дело до того, что Румянцев, Потёмкин, Суворов, Кутузов били турок даже в тех случаях, когда те превосходили числом в десять, а то и более, раз. Кому было дело в данном случае до того, что даже при штурме мощнейших крепостей, коими были Очаков и Измаил, и Потёмкин, и Суворов брали крепости, имея силы, вдвое меньшие, чем в крепостях. А ведь любая даже полевая наступательная операция требует для того, что бы добиться успеха, пятикратное преимущество.
Как можно оскорблять извечных врагов! Вот если бы было в девятнадцатом веке телевидение, глядишь, какой-нибудь либерал мог бы назвать шовинистом русского генерала Валериана Мадатова, армянина по национальности, заявлявшего, что «в сражениях с азиатскими народами не соотношение сил, а решительный натиск и смелость дают перевес, что уступить неприятелю один шаг, значит, придать ему бодрости и отважности и, следовательно, при превосходстве сил его обречь себя на поражение».
Я был уверен в правильности того, что написал. Но не все были уверены в том же…
И вдруг Евгений Павлович Исаков пошёл прямо ко мне, широко раскинув руки и провозглашая на весь зал своим командирским голосом – большинство сотрудников различных учреждений печати были в прошлом строевыми офицерами.
– Коля! – провозгласил Исаков, а ведь если командир недоволен, то подчинённый для него не Коля или Серёжа или Миша, – Коля, дорогой! Ну, поздравляю. Каков успех! Когда враг ругает – высшая оценка!
И вокруг сразу все наши партийцы заулыбались. Начальство определило, что нарушения в моём очерке нет! Кстати, партком никак не отреагировал, потому что там тоже уже был вполне нормальный офицер, грамотный, авторитетный, полковник Войнов.
Но и это ещё не всё. Передача была в среду. А в четверг и пятницу в кабинете, в котором работал я не один, а с двумя своими сослуживцами, находиться было просто невозможно. Поздравления не прекращались до самых выходных, и накал их спал лишь на следующей неделе. Либерасты, конечно, были недовольны и осуждали, но то, что осуждают либерасты, которым всегда хорошо, если России плохо и всегда плохо, если России хорошо, любо и дорого тем, кому дорога Россия.
Ну а в издательстве «Молодая Гвардия» выступление тоже не осталось незамеченным. В редакции ЖЗЛ порадовались. Но вот ещё что интересно. В вестибюле там был, да, наверное, и сейчас есть киоск. Только в восьмидесятые в нём можно было приобрести книги, которые на прилавки обычных магазинов практически не поступали. Так вот уже на следующий день после передачи этот киоск атаковали посланцы из множества самых различных учреждений, расположенных по соседству с издательством. Альманах брали целыми пачками…
Остаётся добавить, что Художественный образ графа Ивана Павловича Кутайсова нам знаком по кинокартине «Крепостная актриса». А из биографии брадобрея известно, что была у него и внебрачная дочь. С её матерью, актрисой мадам Луизой Шевалье, урождённой Пуаро, интимных связей своих он не скрывал.
Вероятнее всего брадобрей Кутайсов впервые увидел свою возлюбленную на премьере комической оперы «Рено д`Аст», которая состоялась 17 июня 1797 года в придворном театре, в Павловске. Ну а потом Император устроил торжественный ужин в честь актрисы и её супруга, танцовщика Пьера Шевалье. На ужине, разумеется, присутствовал и бывший брадобрей граф Кутайсов.
Подробности завязки романа на поверхности не лежат. Их, наверное, можно отыскать не в архивных документах, а в воспоминаниях современников. Известно же, что вскоре брадобрей граф Кутайсов (приходится постоянно повторять приставку «брадобрей», чтобы отвести сочетание «граф Кутайсов», от блистательного генерала Александра Ивановича Кутайсова), приобрёл дома для актрисы Шевалье на набережной Невы в Петербурге и в Гатчине, поскольку Павел Петрович подолгу, порой, находился там.
Архитектор Н.В. Якимова в статье повествовании, посвящённом «Усадьба Клодницких», опубликованной в Историческом журнале «Гатчина сквозь столетия», предположила, что в одном из гатчинских домов, специально приобретённых для любовных утех, «происходили интимные встречи с актрисой Шевалье, которая была не только влиятельной фавориткой Кутайсова, но и платной шпионкой Наполеона. Не исключено, что именно здесь формировался мирный договор с Францией, только разговоры о котором послужили одной из причин убийства 11 марта 1801 года».
О договоре необходимо сказать несколько слов, поскольку он имел колоссальное значение для предотвращения столкновений в Европе, которые впоследствии получили название Наполеоновских войн.
Император Павел Петрович вовремя уловил важные перемены в европейской политике. Предательство союзников в 1799 году открыло ему глаза. В те дни датский посланник докладывал своему двору о важном разговоре с Императором: «Государь сказал, что политика его остаётся неизменною и связана со справедливостью, где Его Величество полагает видеть справедливость. Долгое время он был того мнения, что она находится на стороне противников Франции, правительство которой угрожало всем странам; теперь же во Франции в скором времени водворится король, если не по имени, то, по крайней мере, по существу, что изменяет положение дела».
Идея, по словам биографа Павла Первого Н.Шильдера, заключалась в «предложении тесного союза с представителями мятежной, но теперь успокоенной Франции, и связанного с ним раздела Турции. Центром плана должен быть Бонапарт, который должен был найти в предполагаемом разделе вернейший способ к уничтожению Великобритании и утверждению при общем мире всех завоеваний, Францией сделанных… «России он уделяет Романию, Булгарию и Молдавию, а по времени греки и сами пойдут под скипетр Российский». Союз с Францией предполагался во имя освобождения славян».
Вскоре представитель Императора Павла Первого встретился с Наполеоном, уже ставшим первым консулом Франции. Наполеон сразу заговорил о своём желании заключить прочный мир с Россией, объясняя это тем, что географическое положение обеих государств создаёт условие для того, чтобы жить в мире и согласии. Так от союза с первым министром Англии Вильямом Питом Император Павел Первый перешёл к союзу с первым консулом Франции Наполеоном, которого назвал монархом «если не по имени, то по существу». Вот и ещё одна причина, по которой слуги тёмных сил зла готовили расправу над Русским Государем, желавшим управлять Державой в интересах самой Державы, а не её врагов. Между тем, над Англией стали сгущаться тучи, что ещё более ускорило подготовку к покушению на Русского Государя.
12 января 1801 года по приказу Императора Павла Донской казачий корпус был направлен в Индию. Этот приказ иные историки рассматривают, как факт ненормальности Русского Государя, либо умышленно скрывая правду, либо, по собственному невежеству, не зная её. Ведь одновременно с Павлом Первым Наполеон тоже отдал распоряжение корпусу французских войск идти в Индию. Причём этот корпус Бонапарт собирался возглавить сам. Его, однако, интеллигентские историки сумасшедшим за это решение не посчитали. Император Павел придавал казаков в помощь Наполеону для осуществления общей задачи – изгнания англичан из Индостана.
Французский корпус должен был выступить от берегов Рейна. Маршрут его пролегал по реке Дунаю, Чёрному и Азовскому морям, до устья Дона. По Дону предполагалось подняться до переволоки (там, где ныне канал «Волга–Дон»), переволокой добраться до Волги, затем уже по Волге, войти в Каспий. Соединение русских и французских войск планировалось в Астрабаде. Были даже заготовлены специальные прокламации и воззвания к мусульманскому населению стран, через которые предстояло следовать соединённым силам. В них говорилось: «Армии двух могущественных стран в мире должны пройти через ваши земли. Единственная цель этой экспедиции – изгнать англичан из Индостана… Два правительства решились соединить свои силы, чтобы освободить индусов от тиранического и варварского ига англичан».
Как тут было не торопиться разорвать союз России и Франции, становившийся губительным для Англии!
Так вот актрисаЛуиза Шевалье работала на Наполеона, но в заключении мира с Францией Император был заинтересован и содействие в этом шпионки Бонапарта не мешало. О её тайной роли, скорее всего было известно, поскольку сразу после убийства Императора, соучастник злодейства, вступивший на престол, выслал Луизу Шевалье к большому огорчению Кутайсова, который до конца дней своих носил медальон с её изображением. Но вступиться он уже не мог, поскольку потерял всякое влияние, да и вообще на некоторое время предпочёл покинуть Россию.
Правда новоиспечённый Император повелел выдворить шпионку без конфискации всех несметных богатств, которые она приобрела в России благодаря своей неуёмной алчности и жадности.
Возможно, показывая брадобрея, авторы кинофильма «Крепостная актриса» не ушли далеко от правды в изображении самого Кутайсова, но вот графиня Анна Петровна Кутайсова, урождённая Резвая, представленная там в шутовском стиле, явно не заслужила того, что ей приписано. Думается, эта женщина заслуживает другого к ней отношении. Ведь она дала России талантливого генерала, героя Отечественной войны 1812 года, сложившего голову на Бородинском поле и оставившего заметный след в русской военной истории.
Кстати, род Резвых, богатый славными именами, тянется до нашего времени…
«Впервые участвуя в бою, выказал храбрость и распорядительность».
Конечно, военная судьба Александра Кутайсова складывалась значительно легче, нежели у его дяди Дмитрия Петровича Резвого, участника разгрома турецкого флота в Днепровско-Бугском лимане в июне 1788 года и штурма Очакова 6 декабря того же года, штурма предместья Варшавы Праги, Швейцарского похода Суворова и многих других славных походов. Он получил генеральский чин в зрелые годы.
Александр Кутайсов был, безусловно, одарённым человеком. Современники отмечают, что он знал несколько иностранных языков, причём по-французски он мог не только говорить, но и писать стихи. Он хорошо рисовал, разбирался во многих вопросах архитектуры, но с особым пристрастием изучал военное дело и прежде всего, артиллерию и фортификацию.
Всё это способствовало успехам, но главную роль на первых порах, конечно, сыграло высокое положение отца.
Особенно быстро пошло продвижение по службе после того, как на престол вступил Император Павел.
В 1799 году, пятнадцати лет от роду, Кутуйсов был уже полковником лейб-гвардии артиллерийского полка.
Артиллерию он избрал не случайно. Прежде всего, конечно, повлиял на выбор его дядя Дмитрий Петрович Резвой, который, кстати, в том же 1799 году стал генерал-майором, пройдя большой и славный путь боевого артиллерийского офицера.
Все племянники Дмитрия Петровича, в том числе и Александр Кутайсов, души не чаяли в добром, остроумном дядюшке, влюблённом в артиллерию и знавшем её досконально.
И вот результат – сын младшего брата его Орест Павлович Резвой стал артиллеристом и дослужился до чина генерала от артиллерии. Все три сына старшего брата Николая Петровича – Пётр, Дмитрий и Николай – тоже стали офицерами-артиллеристами. В артиллерию пришёл и сын сестры Анны Александр Кутайсов. Любознательный, способный к наукам, он легко постигал всё, чему учили, много занимался сам.
Важную роль в службе Кутайсова сыграла работа в «Воинской комиссии для рассмотрения положения войск и устройства оных», в работе которой он участвовал вместе со своим дядей Дмитрием Петровичем.
Комиссия была образована 24 июня 1801 года и имела задачу определить численность и устройство войск, порядок пополнения, вооружения и обмундирования.
Генерал Резвой и полковник Кутайсов занимались преобразованиями артиллерии. Необходимость таких преобразований назрела давно. Дело в том, что уже во второй половине XVIIIвека линейная тактика стала постепенно заменяться новой – тактикой колонн и рассыпного строя. А как известно, развитие нового способа военных действий предопределяет в первую очередь совершенствование новой техники.
Появление ударно-кремниевых ружей, стального штыка и гладкоствольной артиллерии, которая оказывалась привязанной к строю и не могла выполнять задачи, не имея возможности совершать манёвры, сосредоточивать огонь по наиболее важной цели или рассредоточивать его по различным целям.
Одним словом, потребовалось разрабатывать новую тактику и новую стратегию генерального сражения.
Артиллерия стала приобретать манёвренность, а манёвр огнём и колёсами повысил её эффективность. Изменения в тактике, в свою очередь, потребовали реконструкции артиллерийских систем и совершенствования организации артиллерийских произведений.
Задачи решались самые разнообразные: рассматривался вопрос о необходимости ликвидации фурштата и введения нового положения о содержании артиллерийских лошадей, а также введения вместо зарядных фур зарядных ящиков, одинаковых для всех орудий, принятия на вооружение единообразных орудий и лафетов и диоптра Маркевича, удобного для стрельбы.
Значительная реорганизация проводилась в строевом обучении: устанавливались единые команды, поскольку артиллерийского устава ещё не было. Комиссия дала необходимые установки по проведению занятий и практических учений.
До начала войны с Францией, то есть до 1805 года, комиссией была проделана важная работа, в результате которой русская артиллерия с успехом выдержала все испытания наполеоновских войн.
Все эти годы Кутайсов усиленно изучал военные науки, в совершенстве освоил новую тактику действий артиллерии и к своему боевому крещению подошёл хорошо подготовленным артиллерийским командиром.
Не только и не столько работа комиссии оказала в то время влияние на реорганизацию русской армии. Значительную роль в этом сыграли кампании 1805 и 1806-1807 годов.
К примеру, учреждением постоянных дивизий было раз и навсегда покончено с импровизированными высшими войсковыми соединениями, характерными для организации войск в XVIIIвеке. Они страдали отсутствием достаточной внутренней спайки между отдельными частями, говоря языком нынешним, невозможно было добиться должного боевого сколачивания.
Дивизии имели разнообразную численность – в среднем 10 600 штыков, 2700 сабель, 54 полевых орудия, – но заключали в себе все роды войск. Примерно было 6 – 7 пехотных полков, 4 – 5 кавалерийских полков с казаками, 4 – 6 рот батарейной или тяжёлой, лёгкой и конной артиллерии, атак же пионерную (сапёрную) роту.
Полевая артиллерия взамен батальонов и полков была переформирована в бригады, причём к каждой дивизии приписывалась своя артиллерийская бригада. Этим достигалось более тесное взаимодействие между пехотой и артиллерией.
В те годы русская артиллерия не раз показывала образцы блестящего ведения боя. Артиллерийские роты искусной стрельбой, смелым манёвром, своевременным массированием сил нередко оказывали решающее влияние на ход и исход сражений.
В июле 1803 года Александр Кутайсов был определён во 2-й артиллерийский полк. В этом полку 11 сентября 1806 года он получил генеральское звание.
А 14 декабря 1806 года принял боевое крещение под Голымином.
В тот день Наполеон, ошибочно посчитав, что главные силы русской армии находятся не под Пултуском, где они были на самом деле, а под Голымином, атаковал небольшой отряд князя Голицына, численностью в 10-12 тысяч человек.
Этот отряд образовался случайно из полков различных дивизий, частью заблудившихся во время отступления от реки Вкры вследствие противоречивых указаний главнокомандующего графа Каменского, частью отрезанных от своих соединений при наступлении французов в северном направлении.
Генерал Кутайсов спас отряд от разгрома, умело командуя артиллерией и рассеивая метким огнём атакующих французов.
Сам Каменский сделал отзыв: «Впервые участвуя в бою, выказал храбрость и распорядительность».
Возглавив артиллерию корпуса генерал-лейтенанта Николая Алексеевича Тучкова, Кутайсов успешно действовал в сражении при Прейсиш-Эйлау, где как уже говорилось, спас от разгрома всю русскую армию. Затем он отличился под Ломитеном, за что получил орден Св. Владимира 3-йстепени, и при Гейльсберге, где артиллерия корпуса оказалась в критическом положении и была спасена лишь благодаря личной отваге Кутайсова.
В послевоенные годы, обобщая полученный опыт, Кутайсов написал «Общие правила для артиллерии в полевом снаряжении».
Это был труд, отражавший передовые взгляды на роль артиллерии и принципы её боевого применения. Генерал Кутайсов, иллюстрируя свои рассуждения примерами из опыта войны, доказывал необходимость своевременного сосредоточения сил артиллерии на главных направлениях, расположения батарей на высотах для стрельбы через головы своих войск, манёвра силами артиллерии в бою.
В 1812 году инструкция была принята для всей русской армии. Она сыграла важную роль в установлении единых взглядов на боевое применение артиллерии и восполнила отсутствие боевого устава.
Работая над документами и наставлениями, Кутайсов чувствовал недостатки своего образования. Он часто повторял: «Надобно спешить учиться».
В 1810 году он взял годовой отпуск и отправился за границу. В Вене он изучил арабский и турецкий языки настолько, что мог свободно разговаривать на них. В Париже занимался математикой и баллистикой.
По утрам, переодеваясь в штатское платье, слушал лекции известных учёных или работал в библиотеках, а вечерами беседовал на военные темы с французскими генералами – участниками недавних кампаний.
Привлекательный внешне, весёлый и приветливый, он был принят в любом обществе, где нередко читал свои стихи и музицировал.
Не удивительно, что юная княжна Анастасия Мещерская проводив его в путешествие, тосковала и с нетерпением ждала возвращения.
С ранних лет считала своим суженым…
Когда Александр Кутайсов, взял отпуск и отправился в Европу, княжне Анастасии шёл всего лишь четырнадцатый год, а княгиня Евдокия Николаевна Мещерская и княгиня Анна Петровна Кутайсова мечтали, что поженят своих чад, когда Настеньке исполнится шестнадцать или семнадцать. Шестнадцать ей должно было исполниться 2 июня 1812 года.
Кто знал в 1810 году, когда Кутайсов отправлялся в Вену и Париж, что будет в том, впоследствии столь памятном для России году?
Летом 1809 года Александр часто гостил у родителей в имении, видел юную княжну, да, пожалуй, даже не юную, а совсем ещё княжну-ребёнка. Он знал о планах матери, не противился им, но о чём-то серьёзном думать было рано. И всё же он охотно бывал в гостях у соседей, принимал участие в вечерах, на которых читал стихи, играл на рояле…
А княгиня Мещерская продолжала готовить дочь к будущей жизни, и остались замечательные свидетельства этой удивительной подготовки.
Мы видели, как воспитывала княгиня совсем ещё маленькую, десятилетнюю дочь.
Вслед за первой беседой, была «Беседа 2»:
«Скажу здесь о праздности, что она губит совершенно все добрые свойства человека, ибо кто ничем не занят в продолжение дня, у того мысли не сосредоточиваются, стремясь к какой-либо разумной цели, не имеют между собою связи, остаются в бездействии. Лишь только мыслящая способность остаётся без должного употребления, человек уже не существует, он делается подобием машины, которая не сама собою двигается, а разными пружинами, дающими ей ход. Таков и человек, не мыслящий, а действующий под влиянием одних физических побуждений. Он уже ничего ни правильного, ни основательного сделать не способен, переходит от смеха к слезам, от пустой скуки в пустую же радость, и если настанет для него минута проверить себя и обсудить свои действия, он ужаснётся своего положения, ибо уже не найдёт себя разумной тварью, а неким животным с свойственными последнему, а не человеку побуждениями.
Сего 30 мая, 1807 года»
Так писала она дочери, когда ещё шла русско-прусско-французская война 1806-1807 годов, когда Александр Кутайсов закалял свою волю от сражения к сражению, что потом, осмысливая свой опыт, работать, работать и работать умственно. Вот именно так, как воспитывала княгиня Мещерская его будущую невесту.
Важными поучениями полна и «Беседа 3»
«Твоя чрезмерная робость меня огорчает, а для тебя самой она крайне невыгодна. Не следует смешивать скромность с робостью. Скромность – добродетель и украшение женщины, а неуместная робость – подобие глупости. Скромность научает нас, когда и что говорить, не соваться на глаза старшим, не вмешиваться в разговоры, до нас не касающиеся, не хвалиться нашими познаниями и т.д. Такая робость происходит частью от самолюбия, которое внушает тебе желание казаться лучше, чем ты есть на самом деле, почему и являешь из себя дурочку. Надо помнить, что я везде слежу за тобою, и буде что по детству сделаешь не так, я остановлю; следовательно, робеть нечего. Если даже и в моё отсутствие ты что неудачно сделала бы, то по молодости лет твоих тебя всякий извинит, лишь не уклонилась бы ты от скромности и благопристойности и действовала бы в простоте сердца своего.
1809 года, 20 июня, во время пребывания в селе Рековичах».
А время шло, Настенька подрастала и распускалась как прекрасный цветок… 1810 год принёс ей первую грусть разлуки с тем, кого она с ранних лет считала своим суженым…
В том году княгиня Мещерская писала в «Беседе 4»:
«Тебе минуло четырнадцать лет. Бог благословил меня взрастить тебя и дождаться от тебя некоторых добрых плодов в награду за труды мои. В кратком замечании на истекший год увидишь, что я тобою довольна.
Призывая Бога к помощи, я направляла твоё воспитание к тому, чтобы ты всегда могла, в каких бы ни была обстоятельствах, находить в самой себе убежище, не зависела бы от других и не искала бы своего отдохновения в пустом рассеянии, которое только химерически облегчит бремя жизни, а на самом деле, окончательно утомив, оставляет пустоту в душе, призванной к вкушению истинного блаженства, а потому не удовлетворяющейся одними наружными приманками. Бесспорно то, что человеку бывает нужно временное рассеяние, но не иначе как после трудов».
И далее уже говорит прямо о предназначении дочери, поскольку предназначение женщин в ту пору было в первую очередь хранить семейный очаг, ну а жёнам военным предстояло обеспечивать, как принято говорить ныне, тыл! Княгиня не забывала о том, что решили они с Анной Петровной Кутайсовой, её радовало, что дочь не противится материнскому выбору и похоже будущий жених тоже не противится желанию своей матери. Радовало то, что Александр Кутайсов, не в пример некоторым «современным» молодым людям тянется к знаниям, работает над собой, что он, будучи и так образован более своих сверстников, не останавливается на достигнутом. И она писала дочери:
«Тебя ожидает семейная жизнь, ты призвана заимствовать счастие от того семейства, к которому будешь некогда принадлежать, а также и доставлять ему оное. Питаю себя лестною надеждою, что кротостью, послушанием, ровностью характера ты действительно не возмутишь семейного спокойствия, но чтобы быть довольной собою и чтобы тобою другие были довольны, нужно ещё иметь те качества, о которых я говорила выше: знание своих обязанностей как в отношении своих семейных, так и общества. Знание хозяйства и наблюдение в оном порядка – необходимое условие семейной жизни.
Расход денежный, который сама ведёшь и своевременно вносишь в книгу, уже научает тебя ограничивать свои желания, чтобы в конце года не войти в долги, которые, как бы ни казались малы сравнительно с состоянием того, кто их делает, причиняют ему много забот и, незаметно накопляясь, часто окончательно его разоряют».
Удивительно то, что княгиня Евдокия Николаевна всё раскладывает по соответствующим уровням значимости в жизни. Да, прежде всего духовность и задушевные отношения с близкими людьми, в семье, но нельзя забывать и делах насущных, надо заботиться о том, чтобы желания не превышали возможностей. Она, как человек глубоко верующий, часто говорила дочери о том, что сравнивать своё положение, свой достаток надо не с теми, кто выше в иерархической лестнице, кто богаче материально, а с теми, кто уступает в достатке, кто стоит ниже тебя в тех условностях, которые создали люди и за которые они держатся на протяжении многих веков.
Не указана дата, но, видимо, «Беседа 5» относится к несколько более позднему времени. Возможно, минул ещё один год, приближая час вступления Анастасии в возраст уже полетам юный, а по общественным правилам вполне подходящий для строительства семьи. Вот строки из очередной беседы:
«В нынешнем году я не заметила большой разницы в проявлениях твоего характера с теми, что отметила в предшествующем. Не сделаю никаких новых замечаний, только обращу твоё внимание на расход истекшего года, из которого явствует, что много лишнего было принесено в жертву малодушию, почему и недоставало денег на священнейшую для всех нас обязанность: нашими избытками помогать ближнему, который, быть может, нуждается в необходимом в то самое время, как мы роскошествуем и прихотничаем».
Благотворительность была в характере княгини Евдокии Николаевны. Милосердие, доброе отношение к людям она унаследовала от матери. В первые годы своего вдовства она много внимания уделяла помощи сиротам, очень сильно прочувствовав, что это такое. Пусть дочь и не осталась круглой сиротой, но она росла без отца, а что такое расти без мужской защиты, мужской силы, княгиня испытала, когда набросились на неё братья покойного супруга, пытаясь отсудить состояние, по праву её принадлежавшее.
И вот, наконец, «Беседа 6». Княжне 16 лет… Евдокия Николаевна написала в тетрадке:
«Приятно мне, любезнейшая дочь, встречать дни твоего рождения. Ныне тебе минуло шестнадцать лет!
Ты вступаешь в такой возраст, где должна уже быть моим сотоварищем и отчасти даже помощницею в моих делах и заботах – так и держи себя.
Да пребывает на тебе благословение Божие и моё до конца дней твоих».
«Артиллерия должна жертвовать собою…»
В начале Отечественной войны 1812 года генерал-майор Кутайсов был назначен начальником артиллерии 1-й Западной армии, которой командовал генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклая-де-Толли.
В трудные месяцы отступления под давлением превосходящего противника Кутайсов отличился в кровопролитном и упорном сражении за Витебск, в героической обороне Смоленска.
В «Описании Отечественной войны 1812 года», сделанном А.И. Михайловским-Данилевским, есть такие строки:
«Неустрашимость Неверовского, подкреплённого гвардейскими егерями, и искусные распоряжения начальника артиллерии графа Кутайсова, лично управляющего действиями орудий, восторжествовали над усилиями Понятовского и поляков его. Неоднократно кидались поляки к самым стенам, даже врывались в ворота небольшими толпами, от 15 до 20 человек… Ни один из ляхов не возвращался…»
Другой автор, Ушаков, в своём труде «Деяния российских полководцев, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Франциею в 1812, 1813, 1814 и в 1815 годах», посвящает Александру Кутайсову такие строки:
«Где только было сражение, и он полагал, что распоряжение его и личная деятельность могут быть полезны для успеха российского оружия, он удивлял и восхищал всех своею неустрашимостью и присутствием духа в самом пылу губительного огня и, служа личным примером подчинённым своим, оказывал великое содействие в приобретении победы».
Зная беззаветную храбрость молодого талантливого генерала, Михаил Илларионович Кутузов во время представления генералов по случаю назначения его главнокомандующим, сказал Кутайсову, что просит его не подвергать себя излишней опасности, помнить об ответственности, возлагаемой на него званием начальника артиллерии.
А ответственность оказалась необычайно высокой. В Бородинском сражении Кутайсов был поставлен начальником артиллерии всей русской армии.
Накануне сражения Кутайсов лично осматривал позиции батарей, занимался организацией доставки боеприпасов. Артиллерийские батареи он поставил на всех пяти основных опорных пунктах русской позиции: на высотах между рекой Колочей и ручьём Стонец, у деревни Горки; на Курганной высоте в одном километре к югу от Бородина (Центральная); между нижним течением реки Семёновки и ручьём Огник, впадающим в Стонец; на высоте в 200 метрах юго-западнее деревни Семёновское; на кургане, восточнее деревни Утицы.
Всё в точности по разработанной им же самим инструкции. Такое расположение батарей позволяло вести огонь через головы своих войск, а следовательно, поддерживать их не только в оборонительном бою, но и при проведении ими контратак.
Позаботился Кутайсов и об обеспечении флангов. Правый прикрыл 26 орудиями, поставив их у села Маслова, чтобы в случае необходимости препятствовать артогнём глубокому обходу неприятелю.
Ближе к левому флангу, где местность не благоприятствовала ведению оборонительного боя, юго-западнее деревни Псарёво, разместил артиллерийский резерв, который мог в любое время выдвинутся на помощь тем, обороняющимся корпусам, который в нём наиболее нуждались в складывающейся обстановке.
Памятуя об указаниях Михаила Илларионовича Кутузова, который не уставал повторять, что «резервы должны быть оберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранил резерв, не побеждён», Александр Кутайсов запретил без его ведома трогать резервные батареи. Примерно в том же духе распорядились Барклай-де-Толли и Багратион.
Барклай требовал:
«Командирам без особой надобности не вводить в дело резервы свои, разумея, о второй линии корпусов, но и по надобности распоряжаться ими по усмотрению».
Князь Багратион указывал:
«Резервы иметь сильные и сколько можно ближе к укреплениям как батарейным, так и полевым».
Понимая, сколь важная задача, возлагаемая на артиллерию, Кутайсов отдал приказ, который стал широко известен впоследствии:
«Подтвердить от меня во всех ротах, чтоб они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что, отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции.
Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесёт неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий».
Этот приказ был особенно важен потому, что внушение артиллерийским командирам чрезмерного опасения за потерю орудий приводило к тому, что артиллеристы раньше времени снимались с позиций и не использовали возможностей своего оружия для поражения противника.
К сожалению, это опасение не только внушалось свыше, но и спускалось в руководящих документах и приказах.
Вот строчки из рескрипта Александра I, данного Кутузову: «…тех командиров артиллерийских рот, у которых в сражениях потеряны орудия, ни к каким наградам не представлять».
Отдавая свой приказ, Кутайсов брал всю ответственность за него на себя. А исходил он из того, что артиллерийские командиры, не опасающиеся возмездия за потерю орудий, будут держаться до последнего, и картечные выстрелы, выпущенные в упор, в подавляющем большинстве случаев не позволят неприятелю взять орудия, поскольку зачастую именно «последний выстрел в упор» решит судьбу позиций, которыми противнику так и не удастся овладеть.
Ночь перед сражением Кутайсов провёл вместе с начальником штаба 1-й армии генерал-лейтенантом Алексеем Петровичем Ермоловым и полковником Петром Андреевичем Кикиным, исполнявшим должность дежурного генерала при ставке главнокомандующего.
Говорили о грядущем дне…
В русском лагере наступила тишина, зато с французской стороны доносился шум, здравицы во имя Наполеона…
Вспомним знаменитое Лермонтовское «Бородино»:
…И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус….
Не знали французы, куда завёл их император, которого впоследствии их же историки назвали «французским Гитлером», а современники – «корсиканским чудовищем».
Вечером, объезжая боевые порядки артиллерии, Кутайсов,по воспоминаниям одного из офицеров «соскочил с лошади, сел на ковер и пил с нами чай из черного обгорелого чайника».
Пояснил:
– Я сегодня еще не обедал
Потом высказал некоторые соображения по поводу грядущего сражения.
Офицер с горечью отметил:
«Мы следили долго этого любимого нами человека, и кто знал, что в последний раз».
Денис Васильевич Давыдов в своих воспоминаниях«Гусарская исповедь. Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» писал:
«Проведя вечер 25-го августа с Ермоловым и Кикиным, он был поражен словами Ермолова, случайно сказавшего ему: «Мне кажется, что завтра тебя убьют». Будучи чрезвычайно впечатлителен от природы, ему в этих словах неизвестно почему послышался голос судьбы»
Произнёс же Ермолов эту фразу не случайно. Историк Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенант М.И. Богданович отметил:
«Уверяют, что ввечеру, накануне Бородинского сражения, он Кутайсов, беседуя с несколькими избранными друзьями... сказал: «Желал бы я знать кто-то из нас завтра останется в живых?»
Этими «избранными друзьями» были Ермолов и Кикин. Странно только то, что чаще человек сам чувствует, что ждёт его в грядущей кровавой битве. А тут почувствовал Ермолов. А что же Кутайсов? На сей счёт тоже есть воспоминание одного из участников тех событий…
Адъютант Барклая-де-Толи Павел Хористофорович Граббе рассказал в своих воспоминаниях о встрече с Александром Ивановичем 14 августа:
Он «В Вязьме я зашёл к графу Кутайсову под вечер. Он сидел при одной свечке, задумчивый, грустный: разговор неодолимо отзывался унынием. Перед ним лежал Оссиан в переводе Кострова. Он стал громко читать песнь Картона. Приятный его голос, дар чтения, грустное содержание песни, созвучное настроению душ наших, приковали мой слух и взгляд к нему. Я будто предчувствовал, что слышу последнюю песнь лебедя».
Не случайно тонкая душа Александра Кутайсова требовала таких стихов, таких песен. Видно, интуитивно чувствовал молодой генерал приближения чего-то рокового в его жизни. Ведь Оссиан – легендарный шотландский народный певец III века н. э., воспевавший былую славу соей родины, пел песню в ожидании смерти, и была она обращена к уже ушедшим в мир иной.
Современник Кутайсова известный поэт и переводчик Николай Иванович Гнедич (1784-1833) писал по поводу этих поэтических произведений:
«Мне и многим кажется, что к песням Оссиана никакая гармония стихов так не подходит, как гармония стихов русских». А о переводе Ермила Ивановича Кострова (1755-1796), русского переводчика и поэта славного Екатерининского века, сделал пометку: «Это не перевод, но подражание Оссиану».
То, что Александр Иванович Кутайсов не только знал творчество Оссиана, но даже брал с собой поход его произведения, ещё раз свидетельствует о его уникальном образовании, о его тонком понимании поэзии.
Почему он взял с собой в свой последний военный поход среди прочих именно эту книгу, ведь он не знал, да и не мог знать, что этот поход последний?
А ведь последний приезд домой и последнее свидание с родными были совсем не печальными. К тому же добавилось много радостного. Княжна Анастасия Мещерская необыкновенно расцвела. В июне 1812 года ей исполнялось шестнадцать лет! А мы помним, что графиня Анна Петровна Кутайсова и княгиня Евдокия Николаевна Мещерская решили поженить своих чад, когда Анастасии исполнится шестнадцать – семнадцать, то есть, фактически обозначили временные рамки венчания.
Графиня Анна Петровна не могла не оценить отношение княгини Мещерской к себе, к своей семье и к своему сыну. Нелегко пришлось семье Ивана Павловича Кутайсова после убийства Императора Павла Петровича, которое, кстати, он вполне мог предотвратить. Но об этом позже.
Филипп Филиппович Вигель, знаменитый мемуарист, писал:
«После перемены царствования всякий почитал обязанностью лягнуть падшего фаворита, который поспешил удалиться за границу, а жену и детей оставил в Петербурге на жертву ненависти и презрения...»
Ну а причина известна. Вспомним, что писал о нём русский историк великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, в своих исторических произведениях, посвящённых прошлому России:
«Кутайсов был одним из самых ненавистных всем фаворитов….». Ну и так далее – полностью цитата приведена в предыдущей главе.
Примеров тому множество. Об одном таком «влиянии», которое могло оказаться пагубным для Императора, рассказал в своих «Записках» Николай Александрович Саблуков:
«Однажды, на одном из балов, данных в Москве по случаю его приезда в 1798 году, Император был совершенно очарован огненными чёрными глазами девицы Анны Лопухиной. Кутайсов, которому Павел сообщил о произведённом на него впечатлении, немедленно же рассказал об этом отцу девицы, с которым и был заключён договор, имевший целью пленить сердце Его Величества».
Ну а цель, думаю, понятна – получить хоть какую-то личную выгоду от возможной интриге. Но в данном случае замысел провалился. Анна Лопухина призналась, что влюблена в князя Гагарина, находившегося в это время в армии Суворова. Н.А. Саблуков рассказал реакции Павла Петровича:
«Император был поражён, но его врождённое благородство тотчас проявило себя. Он немедленно же решил отказаться от любви к девушке, сохранив за собою только чувство дружбы, и тут же захотел выдать её замуж за человека, к которому она питала такую горячую любовь. Суворову немедленно посланы были приказания вернуть в Россию князя Гагарина. В это самое время последний только что отличился в каком-то сражении, и его потому отправили в Петербург с известием об одержанной победе... И вечером на «маленьком дворцовом балу» он имел положительно счастливый и довольный вид, с восторгом говорил о своем красивом и счастливом сопернике и представил его многим из нас с видом искреннего добродушия. Со своей стороны, я лично ни на минуту не сомневался в искренности Павла, благородная душа которого одержала победу над сердечным влечением».
Как видим, Иван Павлович Кутайсов и с семьёй поступил бесчестно, ведь все, кто был хоть чем-то обижен на павловского фаворита или просто питал неприязнь от завести, старались выместить эти свои обиды и выказать оскорбительное презрение к семье.
Но, как сообщил Вигель, «на спокойное, благородное и прекрасное лицо меньшего его сына ни один дерзкий взгляд не смел подняться». И пояснил: «Что удивительного, если все женщины были от него без ума, когда мужчины им пленялись?»
Влюблена была в Александра Кутайсова и юная княжна Мещерская.
Перед отъездом молодого генерала в армию состоялась помолвка. Обряд этот, хоть и очень давний, но достаточно живучий. Иногда помолвку называли обручением. То есть после того, как жених просил руку избранницы своей у её родителей, он надевал ей на пальчик кольцо, к которому порою добавлялось ещё одно, венчальное, а порою оставалось и то, что вручено при помолвке единственным.
Мы помним описание в романе «Война и мир» помолвки князя Андрея с Наташей Ростовой, правда, там она была проведена тайно, и жених оставил невесте свободу выбора на целый год.
Здесь же обручение графа Кутайсова с княжной Мещерской не скрывалось – об этом знала, как свидетельствую современники, вся армия, и друзья Кутайсова, и обожавшие его подчинённые, искренне радовались за молодого графа.
Конечно, к началу девятнадцатого века многое сильно изменилось, но всё же и тогда помолвленные или обручённые считались почти что супругами, правда, до венчания не имели права вступать в близкие отношения.
Быть может история любви графа Александра Кутайсова и княжны Анастасии Мещерской особенно волновала современников своею необыкновенной трогательностью и, конечно же, чистотой. Долгое знакомство – ведь юный граф знал свою будущую невесту, когда и невестой то ещё её нельзя было считать. Ещё летом 1801 года, когда графиня Кутайсова поселилась по соседству с Мещерскими, княжне исполнилось 5 лет.
Как воспитывалась Анастасия, мы уже узнали. Ну а воспитанием Александра занималась в основном его мать Анна Петровна, урождённая Резвая, не без помощи брата Дмитрия Петровича Резвого. Ивану Павловичу Кутайсову было не до семьи.
Его интересовали интриги, забавы, женщины. Ведь даже в ночь покушения на Императора он бежал в одном нижнем белье, босиком не куда-то, а к своей любовнице.
История знает немало примеров, когда дети небезгрешных родителей, становятся их противоположностью, порою, едва ли не праведниками.
Елизавета Петровна Яньковая, автор воспоминаний «Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово» писала: «...неподалеку было имение Кутайсовых. Этот Кутайсов… был женат на Анне Петровне Резвой, очень доброй и почтенной женщине, которая умерла гораздо спустя после своего мужа, дожив до преклонных лет. Она была очень дружна с княгиней Мещерской, и они между собой положили, чтобы меньшой Кутайсов, Александр Иванович, женился на княжне Мещерской, когда ей исполнится шестнадцать или семнадцать лет. Но родители улаживали, а Господь решил иначе: 26 августа [1812 г.] граф Кутайсов, не имея еще и тридцати лет, но, будучи уже генералом, был убит под Бородином. Это очень поразило графиню и не менее опечалило и княгиню, которая желала этого брака; но, видно, не было суждено ему совершиться».
«…Твоею, граф, рукой воздвигнут памятник нетленный твой»
В день сражения, как писал генерал-лейтенант А. Михайловский-Данилевский, «граф присутствовал повсюду, где было нужно, и с неустрашимостью свойственною одним только великим душам, распоряжался орудиями, наносившими неприятелю великий вред».
Далее историк отметил:
«Несколько раз во время сражения призывал его к себе Кутузов и разговаривал с ним о ходе битвы». Причём, когда сам Кутузов, требовавший оберегать резервы до последней возможности, предложил Кутайсову подкрепить артиллерию на переднем крае, «Кутайсов до такой степени был уверен в возможности удержать за нами поле сражения, что сказал Кутузову: «Я не вижу необходимости посылать за резервною артиллерией».
Обладая великолепной памятью и талантом военачальника, Кутайсов держал в голове всю организацию и систему огня артиллерии, своевременно отдавал распоряжения на пополнение боеприпасов, на замену выбывших из строя орудий, на постепенное, в случаях острой необходимости, введение некоторых подразделений из резерва в бой.
В разгар сражения прискакал офицер связи с левого фланга и доложил, что неприятель подтянул свежие батареи и усилил артиллерийский огонь, что убит командир пехотной бригады генерал генерал-майор Александр Алексеевич Тучков 4-й и раненначальник Главного Штаба 2-й Западной армии генерал-адъютант Эммануил Францевич Сен-При.
– Алексей Петрович, – спокойно, словно ничего серьёзного не произошло, обратился Кутузов в Ермолову, – поезжай туда, голубчик, погляди, что случилось и чем помочь надобно…
Едва Ермолов отошёл от главнокомандующего, к нему подбежал Кутайсов и заявил:
– Я поеду с тобой!
– Тебе надо находиться возле главнокомандующего. И так уж он сердился, что не мог найти тебя, – попытался отговорить Ермолов, но это было сделать невозможно.
Кутайсов, возглавлявший артиллерию всей русской армии, ему не подчинялся. Доводы же он привёл убедительные:
– Необходимо усилить огонь нашей артиллерии. Кто ж, как не я, может сделать это лучшим образом.
– Хорошо, только возьми с собою три конно-артиллерийские роты, – согласился Ермолов и сел на коня. – Не сам же ты её усилишь.
Они поскакали на левый фланг. Артиллеристы едва поспевали за ними.
Впереди, на холме, открылись бастионы центральной (курганной) батареи, той самой, которая впоследствии получила наименовании батареи Раевского, поскольку располагалась в боевых порядках пехотного корпуса генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского.
На батарее были французы…
Алексей Петрович Ермолов впоследствии вспоминал в своих Записках:
«Кутузов запретил мне от него отлучаться, равно как и... Кутайсову, который на него за это и досадовал, ибо отличная храбрость уже влекла его в средину опасности... Когда послан я был во 2-ю армию, граф Кутайсов желал непременно быть со мною. Дружески убеждал я его возвратиться к своему месту, напомнил ему замечание князя Кутузова, с негодованием выраженное, за то, что не бывает при нём, когда наиболее ему надобен (Граф Кутайсов с самоотвержением наблюдал за действием батарей, давая им
направление, находился повсюду, где присутствие начальника необходимо, преимущественно, где наиболее угрожала опасность): не принял он моего совета и остался со мною... Проезжая недалеко от высоты …пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского, названная, я увидел, что она была уже во власти неприятеля, остановил бежавших стрелков наших... Три
конные роты облегчили мне доступ к высоте, которую я взял... в десять минут... Граф Кутайсов, бывший со мною вместе, подходя к батарее, отделился вправо, и, встретив там часть пехоты нашей, повел её на неприятеля…»
А.Н. Михайловский-Данилевский отметил: «На долю Кутайсова досталось вести пехоту на левое крыло французов... Пожав руку Паскевичу, Кутайсов двинулся вперед, ударил в штыки, и – более не видали его».
А вот строки из воспоминаний ... 2-й батарейной роты 11-й артиллерийской бригады, подпоручика Гавриила Петровича Мешетича:
«В одиннадцать часов одно возвышенное место, где поставлена была одна значительная российская батарея, которая имела выгоду действовать весьма удачно по равнине по атакующим, вдруг покрылась несметным множеством врассыпную конницы и в нескольких колоннах идущей из-за лесу их правого фланга пехотою, и с этим вместе оное место облеклось облаками густого порохового дыму, сверканием огней, блеском разного оружия, и слышны поминутные крики «Ура!» и «Виват император Наполеон!»
Уже французская конница на батарее – летит на помощь оной юный герой, уже известный своею доблестью, доброю душою и умом, начальник артиллерии в звании генерал-майор граф Кутайсов, схватил ближайший полк кавалерии – «Вперед, в атаку, защитить свою батарею!» Увы! защитил, но не остановил порыва бегу своей лошади, не оглянулся, далеко ли от него позади полк, померк в очах его сей свет, множество посыпалось на него сабельных неприятельских ударов, лошадь его одна назад только возвратилась; он имел уже Георгия 3-й степени на шее, и дух его отлетел для украшения небесными лаврами.
Французы же, заваливши трупами ров батареи, тут нашли свою смерть от картечных выстрелов и тучи пуль позади стоявших второй линии густых колонн с артиллериею. Дивизионный их начальник, будучи окружен одними трупами своих войск, среди оных был взят в плен бригадный генерал Шарль-Август Бонами, не могший завладеть артиллериею».
Весть о гибели молодого генерала Александра Ивановича Кутайсова опечалила не только его подчинённых, которые в нём души не чаяли, но стала большой, горестной потерей для всей русской армии…
Известная поэтесса того времени Анна Бунина посвятила этому горькому событию одно из лучших своих стихотворений:
Ужель и ты!.. и ты
Упал во смертну мрежу!
Ужель и на твою могилу свежу
Печальны допустил мне рок бросать цветы,
Потоком слёзным орошенны!
Увы! Где блага совершенны?
Где прочны радости? Их нет!
Вотще объемлюща надежду лживу
Нежнейша мать тебя зовет:
Твой заперт слух к её призыву!
Вотще в свой дом, ликуя твой возврат,
Отец, сестры и брат
Заранее к тебе простерли руки!
Их дом ликующий стал ныне храмом скуки!
Как светлый метеор для них
Ты миг блистал лишь краткой!
И сонм друзей твоих,
Алкающих твоей беседы сладкой,
И сонм отборнейших мужей,
Что юного тебя с собой чли равноденным,
с кончиною твоей
Увяли сердцем сокрушенным!
Вотще и сонм краснейших дев,
Устроя громкие тимпаны,
Ждёт в пиршества тебя избранны:
Не будешь ты!.. тебя похитил смерти зев!
Так жизни на заре коснулся он заката!
На место гипса и агата
На гробе у него с бессмертным лавром шлем,
И вопли слышны Муз на нём!
Но что герою обелиски?
Что мой несвязный стих?
Не будет славен он от них!
Поверженные в ад враги российски
Твоею, граф, рукой
Воздвигнут памятник нетленный твой,
А жизнь Отечеству на жертву принесенна
Есть слава, храбрых вожделенна!
30 августа в Санкт-Петербург пришла весть о Бородинском сражении.
Адъютант управляющего свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части князя П.М. Волконского, записал в своём дневнике:
«Август…30. Так как сегодня тезоименитство Императора Александра, я отправился на Каменный остров. Курьер привёз известия из нашей Главной армии о генеральном сражении, которое было дано 26 числа сего месяца при деревне Бородино. Утверждают, что неприятель был разбит по всем статьям, но, несмотря на победу, мы должны были отступить на следующий день. Это вызывает сомнения. Мы потеряли невероятное количество людей. Вся гвардия была введена в бой. Генералы князь Багратион, князь Горчаков, Тучков, Кретов, граф Воронцов, два брата Бахметевы были ранены. Граф Кутайсов пропал. Полагают, что он взят в плен. Один из братьев Тучковых был убит…».
Запись относительно плена Кутайсова несколько сгладила огромное горе, которое ворвалось в семью Кутайсовых. Тем не менее, оно в первую очередь, сразило графиню Анну Петровну, как помним, урождённую Резвую. Весть безмерно опечалила и подругу Анны Петровны княгиню Мещерскую, и юную княжну Анастасию, с нетерпением ожидавшую с войны своего возлюбленного.
О любви Кутайсова и княжны Мещерской было известно в армии, ей посвящены прославленным поэтом Василием Андреевичем Жуковским трогательные строки знаменитой оды «Певец во стане русских воинов».
Княгиня Евдокия Николаевна Мещерская и княжна Анастасия в это время были вгороде Моршанске Тамбовской губернии. Они покинули Аносино при приближении французской бандитской армии, уже прославившейся жесточайшим беспределом. Нашествия на Россию всегда сопровождались дикими грабежами, разорениями, убийствами мирных граждан.
Бесчинствовали наполеоновские мародёры и в Аносине. Они разграбили дом, в котором проводили летние месяцы мать с дочерью, сгорел и в Москве на Староконюшенном переулке дом, доставшийся княгине от мужа.
В Аносине висела картина, на которой были изображены княгиня Мещерская с княжной и своей подругой Елизаветой Алексеевной Ельчаниновой.
Трудно сказать, чем уж так не понравилась картина «просвещённым» обладателям европейских ценностей, неизменных во все времена, но на ней остались отметины от сабельных ударов. Рубили, но не изрубили. Скорее всего, это просто показатель европейского отношения к искусству вообще и к живописи в данном случае. Хотя шедевры, которые имели большую ценность, перекочёвывали в Лувр, метко названный «музеем грабежа» и в личные коллекции Наполеона и его маршалов. Что делать – они же просвещённые европейцы! Для европейцев воровство и грабёж – норма.
Как же тогда хотелось и матери Александра Кутайсова, и княгине Мещерской и княжне Анастасии верить, пропажу, пусть связанную с пленом… И они верили.Верили и ждали известий от французов…
Между тем, Михаил Илларионович Кутузов спустя месяц после сражения написал письмо отцу героя…
Милостивый Государь мой Граф Иван Павлович,
Несколько дней уже прошло, как получить я имел честь письмо Вашего Сиятельства и доселе не смел приняться за перо, дабы не быть первым
горестным вестником родительскому вашему сердцу. Есть ли общее участие, приемлемое всею армиею в значительной потере сделанной ею (в потере) на
поле чести достойного сына вашего может усладить, хотя несколько живую скорбь вашу, то примите, Ваше Сиятельство, уверение в таковых же чувствах
имеющего быть с отличном почтением. Вашего Сиятельства вечно скорбный слуга Князь Михайла Г-Кутузов.
Сентября 24 дня».
Кутузов употребил слова «потеря», ведь и плен тоже потеря. Но надеждам не суждено было сбыться. Александр Иванович Кутайсов пал смертью героя на поле чести.
Княжна Анастасия Мещерская ждала своего жениха до последней возможности, и лишь когда Русская армия вошла в Париж и стало окончательно ясно, что среди пленных Кутайсова не было,она вышла замуж за Семёна Николаевича Озерова, который впоследствии стал сенатором, тайным советником и кавалером ордена Белого Орла.
Василий Андреевич Жуковский выразил общее горе в поэтических строчках…
И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?..
Пойдёт прекрасная в слезах
Искать, где пепел милой...
Там чище ранняя роса,
Там зелень ароматней,
И сладостней цветов краса,
И светлый день приятней,
И тихий дух твой прилетит
Из таинственной сени;
И трепет сердца возвестит
Ей близость дружней тени.
После того как дочь вышла замуж, княгиню Евдокию Николаевну уже не могли удержать мирские дела. Она и так много лет занималась сиротами, которых воспитывала у себя дома с помощью дочери. Теперь же окончательно решила посвятить себя служению Богу.
Восстановила разрушенную французами церковь, пригласила священника заново освятить приделы храма, а затем и основной престол.
Шли годы. Она продолжала воспитывать сирот, одновременно всё глубже уходя в служение Богу. В 25-летие кончины супруга князя Бориса Мещерского, в 1821 году она в его память основала женскую общину и дом призрения, а в 1823 году положила начало поныне действующему Борисоглебскому Аносину женскому монастырю (Аносина пустынь).
Название своё монастырь получил в честь русских князей и святых страстотерпцев Бориса и Глеба и память о князе Борисе Ивановиче Мещерском…
Император: «Моё дело... не забыть вашей услуги».
Император: «Моё дело будет никогда не забыть вашей услуги».
Военный историк генерал-лейтенант Александр Иванович Михайловский-Данилевский так описал сложившуюся обстановку после прорыва французов:
«В то время Русская Армия образовала почти прямой угол, стоя под перекрёстным огнём Наполеона и Даву. Тем затруднительнее явилось положение её, что посылаемые к Беннигсену адъютанты не могли найти его. Желая ускорить движение Лестока, он сам поехал ему навстречу, заблудился, и более часа армия была без главного предводителя.
Сильно поражаемый перекрёстными выстрелами и видя армию, обойдённую с фланга, Сакен сказал графу Остерману и стоявшему рядом начальнику конницы левого крыла Панину: «Беннигсен исчез; я остаюсь старшим; надобно для спасения армии отступить…».
Кому не известно, сколь опасно для войск потерять управление, да ещё в те минуты, когда противник владеет инициативой! Можно представить себе, чем могло кончиться сражение, но «вдруг неожиданно, – сообщает историк далее, – вид дел принял выгодный нам оборот появлением тридцати шести конных орудий».
Что же произошло в эти, едва не ставшие трагическими для Русской армии часы? Куда и с какой целью ездил главнокомандующий барон Беннигсен? Указание историков на то, что отправился искать корпус Лестока, сделаны со слов самого барона и не выдерживают никакой критики. Неужели необходимо самому главнокомандующему отправляться на поиски корпуса? Ведь для этого всегда и всеми используются адъютанты, ординарцы и офицеры квартирмейстерской (штабной) службы, которым и поручается подобное дело.А тут, в разгар сражения, главнокомандующий бросил армию на произвол судьбы, ради того, чтобы исполнить роль обычного штабного офицера.
Французы продвигались вперёд на левом фланге Русской армии и были близки к тому, чтобы отрезать ей пути отхода, окружить и начать её уничтожение. Русским трудно было, не имея единого плана, что-то противопоставить врагу, который уже находился в тылу.
Но в этот момент двадцатидвухлетний генерал-майор граф Александр Иванович Кутайсов, возглавлявший артиллерию корпуса генерал-лейтенанта Тучкова, действовавшего на правом фланге, слабо атакованном неприятелем, решил взглянуть, что же делается на других участках сражения. Вскочив на коня, он отправился на левый фланг корпуса. Застоявшийся без дела конь резво взял с места, рысью пронёс седока по дороге, и с трудом преодолевая сугробы, поднял его на высокий холм.
Адъютант Кутайсова поручик Арнольди подал подзорную трубу. Александр Иванович вскинул её, провёл с юга на восток и ужаснулся: там, где ещё недавно был тыл расположенного в центре Русской армии корпуса генерал-лейтенанта Ф.В. Остен-Сакена, разгуливали французы. Впрочем, они не просто разгуливали, их передовые колонны рвались вперёд и уже заняли мызу Ауклаппен, берёзовую рощу и своим правым флангом овладели селением Кушиттен.
«Коммуникации нарушены, – понял Кутайсов, – путь на Фридланд, а через него и в Россию, отрезан…»
Действительно, главная цель, которую преследовали французы в кампании 1807 года, – отрезать Русскую армию от сообщения с Россией, окружить и уничтожить её – оказалась близка как никогда. Неприятелю уже удалось захватить господствующие над окружающей местностью Креговские высоты. Там он установил орудия. Батареи конной артиллерии приближались к ручью, рассекающему лес юго-западнее Ауклаппена.
Оценить обстановку было делом одной минуты. Но что предпринять? Указаний никаких не поступало. Даже командира корпуса никто не известил о том, что произошло, ибо извещать было некого – бегство Беннигсена парализовало управление.
И Кутайсов принял самостоятельное решение: срочно провести манёвр артиллерией и ударить в упор по прорвавшемуся неприятелю. Спасти положение, по его мнению, было ещё не поздно.
Обернувшись к Арнольди, приказал передать распоряжение о выдвижении с правого фланга в центр трёх конно-артиллерийских рот князя Л.М. Яшвиля, А.П. Ермолова и Богданова. Большего он взять не мог, не рискуя ослабить артиллерийскую группировку правого фланга, где вполне можно было ожидать активизации действий французов. Французы вполне могли атаковать с целью завершения окружения, угроза которого нависла в результате успешных действий Даву.
Арнольди умчался на позиции артиллерии, и вскоре артиллерийские роты вытянулись на полевой дороге, ведущей в тыл. Кутайсов возглавил колонну, скомандовав:
– За мной, рысью, марш! – и поскакал в сторону Ауклаппена.
Порывистый, горячий и беззаветно храбрый, граф Александр Иванович с раннего утра безуспешно ждал момента, когда представится случай «исполнить обет, которому он посвятил жизнь, – прославить имя Кутайсова». И вот настала славная минута!
Две роты он развернул на пологой высоте перед Ауклаппеном, приказав ударить картечью по пехоте противника и брандкугелями по Ауклаппенской мызе. Третью сам повёл к ручью, рассекающему лес, где ещё раньше заметил французов.
Внезапный огневой удар в упор ошеломил французов. Их продвижение остановилось.
Одновременно с конноартиллерийскими ротами прибыл к месту схватки и пехотный резерв под командованием генерала князя Багратиона, «который, – как отметил в своих воспоминаниях Денис Давыдов, – в минуты опасности поступал на своё место силою воли и дарования…»
Ободрённые артиллерийской поддержкой, 2-я и 3-я пехотные дивизии русских перешли в контратаку. Французы были выбиты из Ауклаппена. Положение вскоре окончательно восстановилось, но не по воле главнокомандующего, а благодаря инициативе и распорядительности русских генералов и прежде всего Александра Кутайсова.
А спустя два месяца после сражения Император побывал в Прейсиш-Эйлау, выслушал подробный доклад о ходе битвы и сказал Кутайсову, с которым пожелал непременно встретиться на следующий же день:
«Я осматривал вчера то поле, где вы с такою предусмотрительностью и с таким искусством помогли нам выпутаться из беды и сохранить за нами славу боя. Моё дело будет никогда не забыть вашей услуги».
Но где же прятался в критические моменты битвы главнокомандующий барон Беннигсен и как он объяснил своё исчезновение?
Поняв, что опасность чудодейственным образом отведена и разгрома, на грани которого, по мнению, барона находилась армия, не случилось, он поспешил придумать более или менее удобное для себя объяснение своего исчезновения. Но разве можно представить себе главнокомандующего, который в критический момент сражения легко слагает с себя руководство боевыми действиями, даже не ставя никого в известность и не поручая никому командования, и покидает командный пункт, предоставляя подчинённым самим решать, что и как делать? Главнокомандующий в критические минуты обязан быть на месте и принимать срочные меры, использовать все имеющиеся под рукой силы и средства для достижения успеха.
Именно в сражении при Прейсиш-Эйлау молодой генерал Кутайсов впервые был озарён лучами воинской славы, именно там доказал, что высокий чин, пожалованный ему, благодаря положению отца, он получил по заслугам. А было ему всего лишь 22 с половиной года.
Впрочем, мы несколько отвлеклись от основной темы, темы любви, и хотя говорить об этом чувстве, быть может, ещё очень и очень рано, поскольку будущей невесте нашего славного героя шёл всего лишь одиннадцатый год, но нельзя не упомянуть о том, как росла, как воспитывалась будущая неотразимая красавица княжна Настенька Мещерская.
«Кутайсов, вождь младой…»
"Кутайсов, вождь младой..."
***
...О горе! Верный конь бежит
Окровавлен из боя;
На нём его разбитый щит…
В 1987 году в канун празднования 175-летия Бородинского сражения в альманахе, выпускаемом редакцией ЖЗЛ Издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» был опубликован мой очерк «Павший на поле чести», посвящённый славному герою Отечественной войны 1812 года артиллерии генерал-майору графу Александру Ивановичу Кутайсову.
В очерке не ставилась задача показать личную жизнь Кутайсова, да и какая уж там личная жизнь, если в свои 28 лет он либо воевал, либо учился военному делу, и в России, и даже за границей, хотя, в общем-то у европейских пораженцев особенно учиться и нечему.
При работе над очерком не мог не обратить внимания на некоторые намёки, сделанные и Василем Андреевичем Жуковским в поэме «Певец во стане русских воинов» и поэтессой Анной Буниной в стихотворении.
Но ничего более конкретного найти не удалось, а потому привёл в конце очерка лишь строки из стихотворения В.А. Жуковского:
А ты, Кутайсов, вождь младой…
Где прелести? Где младость?
Увы! Он видом и душой
Прекрасен был, как радость;
В броне ли, грозный, выступал –
Бросали смерть перуны;
Во струны ль арфы ударял –
Одушевлялись струны…
О горе! Верный конь бежит
Окровавлен из боя;
На нём его разбитый щит…
И нет на нём героя…
А между тем, любовь успела озарить сердце героя, причём, любовь, необыкновенно нежная, чистая, трогательная, которая достойна того, чтобы рассказать о ней.
Василий Андреевич Жуковский ограничился лишь намёком…
И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?..
Пойдёт прекрасная в слезах
Искать, где пепел милой…
Там чище ранняя роса,
Там зелень ароматней,
И сладостней цветов краса,
И светлый день приятней,
И тихий дух твой прилетит
Из та́инственной сени;
И трепет сердца возвестит
Ей близость дружней тени.
Начнём рассказ с упомянутой поэтом «прекрасной», с истории той, которая зажгла сердце юного генерала, Александра Кутайсова, начавшего службу в десятилетнем возрасте и получившего генеральские погоны уже в 22 года. Иначе как юным генералом и не назовёшь.
Конечно, столь стремительное продвижение по службе можно приписать тому обстоятельству, что Александр Кутайсов был сыном знаменитого Павловского вельможи графа Ивана Павловича. Но не будем спешить с выводами. Поговорим в последующих главах и о том, каким генералом стал юный Кутайсов и какую пользу успел принести Русской армии за свой короткую, но такую яркую жизнь.
Так, кто же та прелестная дама, которая заставила трепетать его сердца?
Оказывается, и не дама вовсе.
Александр Кутайсов родился в 1884-м, а его возлюбленная княжна Анастасия Мещерская – в 1996 году и была, как видим, на двенадцать лет моложе. А история княжны уже с самого рождения была печальна и трагична.
Её мать Евдокия Николаевна Мещерская (урождённая Тютчева, приходившаяся родной тёткой нашему великому поэту) в 1995 году вышла замуж за князя Бориса Ивановича Мещерского, в 1993 году получившего чин поручика.Он был сыном надворного советника князя Ивана Никаноровича Мещерского (1735-1792), человека очень богатого, оставившего приличное состояние сыну. Умер князь И.Н. Мещерский в 1992 году.
Сын Борис ненадолго пережил своего отца. Как-то, вскоре после свадьбы, молодой князь Мещерский отправился на охоту. Он любил охотиться, и ничего особенного в этой поездке не было, да и ничто не предвещало беды. Но на этот раз не повезло. Князь сильно простудился и вскоре умер. Смерть его буквально сразила и выбила из колеи молодую любящую жену. В счастливом супружестве ей посчастливилось быть всего лишь два месяца.
А спустя несколько месяцев, 2 июня 1796 года, у безутешной вдовы родилась дочь, которую она назвала Анастасией, Настенькой.
Это радостное событие было омрачено тем, что дочь появилась на свет без отца, столь безвременно и нелепо покинувшего сей мир.
Новоиспечённая княгиня Евдокия овдовела в 22 года. Она была хороша собой, происходила, если уж и не слишком знатного, но вполне достойного рода, а по мужу и вовсе получила княжеское достоинство. Многие в её положении стремились устроить свою жизнь, обрести семью, и многим это удавалось. Но княгиня Евдокия Мещерская решила посвятить себя воспитанию дочери.
Постепенно оправившись от потрясения, вызванного смертью супруга, Евдокия Николаевна занялась хозяйственными делами. Тем более родственники мужа «сильно поторопили» в этом деле.
Она появилась на свет в Брянском поместье отца – в Овстуге, впоследствии прославленном её родным племянником Фёдором Ивановичем Тютчевым. Там провела детство и юность. А по соседству располагалось имение Рековичи, принадлежавшее с 1992 года (то есть после смерти отца) князю Борису Ивановичу Мещерскому, ставшему супругом Евдокии Николаевны. Так вот после его смерти на богатейшее наследство, доставшееся вдове и дочери, набросились братья покойного, пытаясь отсудить всё, в том числе и Брянские имения, доставшиеся Евдокии Мещерской (Тютчевой). Впрочем, их требования были противозаконны, и суд оказался на стороне вдовы. Тем не менее, тяжба оставила неприятные воспоминания о брянских имениях, и в 1799 году Евдокия Николаевна выбрала себе край подмосковный, Звенигородский уезд, который часто называют за необыкновенную красоту, русской Швейцарией. Там и приобрела скорее даже не для постоянной жизни, а дачного отдыха в летнее время небольшое село Аносино.
В 1801 году после злодейского убийства сановными уголовниками Императора Павла Петровича, по соседству с Аносино, в имении Рождествено, поселилась семья графа Ивана Павловича Кутайсова. Тогда-то младший сын Кутайсова Александр, которому всего-то было 17 лет, впервые увидел свою будущую невесту. Впрочем, увидел совсем ещё ребёнком, и вряд ли вообще обратил внимание на пятилетнюю соседку по имению.
А вот мамы будущих влюблённых, Анна Петровна Кутайсова и Евдокия Николаевна Мещерская сдружились. Связало их то, что обе были настоящими русскими женщинами, воспитанными на воистину русских патриархальных традициях. Впрочем, об Анне Петровне Кутайсовой, урождённой Резвой, мы ещё поговорим.
Подруги сдружились настолько, что твёрдо решили поженить Александра и Анастасию, когда будущая невеста достигнет шестнадцати-семнадцати лет.
В ту пору время, обозначенное для женитьбы, казалось ещё таким далёким! Напомним: будущей невесте едва исполнилось 5 лет.
А вот о будущем женихе – Александре Кутайсове – сказать, несмотря на его короткую жизнь можно очень и очень много, поскольку жизнь эта была необыкновенно яркой и героической.
Император: «Моё дело будет никогда не забыть вашей услуги».
В полдень 27 января 1807 года, в разгар сражения при Прейсиш-Эйлау, над русской армией нависла смертельная опасность. Проведя на рассвете отвлекающие атаки против её правого фланга, успешно отбитые корпусом генерал-лейтенант Николая Алексеевича Тучкова, сделав неудачные попытки прорваться в центре, отражённые с большими для них потерями, французы нанесли удар против левого фланга, где занимал оборону корпус генерал-лейтенанта Александра Ивановича Остермана-Толстого, и добились успеха, сильно потеснив русских.
Военный историк генерал-лейтенант Александр Иванович Михайловский-Данилевский так описал сложившуюся обстановку после прорыва французов:
«В то время Русская Армия образовала почти прямой угол, стоя под перекрёстным огнём Наполеона и Даву. Тем затруднительнее явилось положение её, что посылаемые к Беннигсену адъютанты не могли найти его. Желая ускорить движение Лестока, он сам поехал ему навстречу, заблудился, и более часа армия была без главного предводителя.
Сильно поражаемый перекрёстными выстрелами и видя армию, обойдённую с фланга, Сакен сказал графу Остерману и стоявшему рядом начальнику конницы левого крыла Панину: «Беннигсен исчез; я остаюсь старшим; надобно для спасения армии отступить…».
Кому не известно, сколь опасно для войск потерять управление, да ещё в те минуты, когда противник владеет инициативой! Можно представить себе, чем могло кончиться сражение, но «вдруг неожиданно, – сообщает историк далее, – вид дел принял выгодный нам оборот появлением тридцати шести конных орудий».
Что же произошло в эти, едва не ставшие трагическими для Русской армии часы? Куда и с какой целью ездил главнокомандующий барон Беннигсен? Указание историков на то, что отправился искать корпус Лестока, сделаны со слов самого барона и не выдерживают никакой критики. Неужели необходимо самому главнокомандующему отправляться на поиски корпуса? Ведь для этого всегда и всеми используются адъютанты, ординарцы и офицеры квартирмейстерской (штабной) службы, которым и поручается подобное дело.И вот теперь, в разгар сражения, он и вовсе бросил армию на произвол судьбы.
Французы продвигались вперёд на левом фланге Русской армии и были близки к тому, чтобы отрезать ей пути отхода, окружить и начать её уничтожение. Русским трудно было, не имея единого плана, что-то противопоставить врагу, который уже находился в тылу.
Но в этот момент двадцатидвухлетний генерал-майор граф Александр Иванович Кутайсов, возглавлявший артиллерию корпуса генерал-лейтенанта Тучкова, действовавшего на правом фланге, слабо атакованном неприятелем, решил взглянуть, что же делается на других участках сражения. Вскочив на коня, он отправился на левый фланг корпуса. Застоявшийся без дела конь резво взял с места, рысью пронёс седока по дороге, и с трудом преодолевая сугробы, поднял его на высокий холм. Адъютант Кутайсова поручик Арнольди подал подзорную трубу. Александр Иванович вскинул её, провёл с юга на восток и ужаснулся: там, где ещё недавно был тыл расположенного в центре Русской армии корпуса генерал-лейтенанта Ф.В. Остен-Сакена, разгуливали французы. Впрочем, они не просто разгуливали, их передовые колонны рвались вперёд и уже заняли мызу Ауклаппен, берёзовую рощу и своим правым флангом овладели селением Кушиттен.
«Коммуникации нарушены, – понял Кутайсов, – путь на Фридланд, а через него и в Россию, отрезан…»
Действительно, главная цель, которую преследовали французы в кампании 1807 года, – отрезать Русскую армию от сообщения с Россией, окружить и уничтожить её – оказалась близка как никогда. Неприятелю уже удалось захватить господствующие над окружающей местностью Креговские высоты. Там он установил орудия. Батареи конной артиллерии приближались к ручью, рассекающему лес юго-западнее Ауклаппена.
Оценить обстановку было делом одной минуты. Но что предпринять? Указаний никаких не поступало. Даже командира корпуса никто не известил о том, что произошло, ибо извещать было некому – бегство Беннигсена парализовало управление.
И Кутайсов принял самостоятельное решение: срочно провести манёвр артиллерией и ударить в упор по прорвавшемуся неприятелю. Спасти положение, по его мнению, было ещё не поздно.
Обернувшись к Арнольди, приказал передать распоряжение о выдвижении с правого фланга в центр трех конно-артиллерийских рот князя Л.М. Яшвиля, А.П. Ермолова и Богданова. Большего он взять не мог, не рискуя ослабить артиллерийскую группировку правого фланга, где вполне можно было ожидать активизации действий французов. Они вполне могли атаковать с целью завершения окружения, угроза которого нависла в результате успешных действий Даву.
Арнольди умчался на позиции артиллерии, и вскоре артиллерийские роты вытянулись на полевой дороге, ведущей в тыл. Кутайсов возглавил колонну, скомандовав:
– За мной, рысью, марш! – и поскакал в сторону Ауклаппена.
Порывистый, горячий и беззаветно храбрый, граф Александр Иванович с раннего утра безуспешно ждал момента, когда представится случай «исполнить обет, которому он посвятил жизнь, – прославить имя Кутайсова». И вот настала славная минута!
Две роты он развернул на пологой высоте перед Ауклаппеном, приказав ударить картечью по пехоте противника и брандкугелями по Ауклаппенской мызе. Третью сам повёл к ручью, рассекающему лес, где ещё раньше заметил французов.
Внезапный огневой удар в упор ошеломил французов. Их продвижение остановилось.
Одновременно с конноартиллерийскими ротами прибыл к месту схватки и пехотный резерв под командованием генерала князя Багратиона, «который, – как отметил в своих воспоминаниях Денис Давыдов, – в минуты опасности поступал на своё место силою воли и дарования…»
Ободрённые артиллерийской поддержкой, 2-я и 3-я пехотные дивизии русских перешли в контратаку. Французы были выбиты из Ауклаппена. Положение вскоре окончательно восстановилось, но не по воле главнокомандующего, а благодаря инициативе и распорядительности русских генералов и прежде всего Александра Кутайсова.
А спустя два месяца после сражения Император побывал в Прейсиш-Эйлау, выслушал подробный доклад о ходе битвы и сказал Кутайсову, с которым пожелал непременно встретиться на следующий же день:
«Я осматривал вчера то поле, где вы с такою предусмотрительностью и с таким искусством помогли нам выпутаться из беды и сохранить за нами славу боя. Моё дело будет никогда не забыть вашей услуги».
Но где же прятался в критические моменты битвы главнокомандующий барон Беннигсен и как он объяснил своё исчезновение?
Поняв, что опасность чудодейственным образом отведена и разгрома, на грани которого, по мнению, барона находилась армия, не случилось, он поспешил придумать более или менее удобное для себя объяснение своего исчезновения. Но разве можно представить себе главнокомандующего, который в критический момент сражения легко слагает с себя руководство боевыми действиями, даже не ставя никого в известность и не поручая никому командования, и покидает командный пункт, предоставляя подчинённым самим решать, что и как делать? Главнокомандующий в критические минуты обязан быть на месте и принимать срочные меры, использовать все имеющиеся под рукой силы и средства для достижения успеха.
Именно в сражении при Прейсиш-Эйлау молодой генерал Кутайсов впервые был озарён лучами воинской славы, именно там доказал, что высокий чин, пожалованный ему, благодаря положению отца, он получил по заслугам. А было ему всего лишь 22 с половиной года.
Впрочем, мы несколько отвлеклись от основной темы, темы любви, и хотя говорить об этом чувстве, быть может, ещё очень и очень рано, поскольку будущей невесте нашего славного героя шёл всего лишь одиннадцатый год, но нельзя не упомянуть о том, как росла, как воспитывалась будущая неотразимая красавица княжна Настенька Мещерская.
(Продолжение следует...)
Фавориты и любовники в фантазиях пасквилянтов
Сегодня получена из типографии 4-я книга серии
"Любовные драмы"
Представляю главу из третьей части книги.
Фавориты и любовники в фантазиях пасквилянтов
Настала пора поговорить о фаворитизме. Но давайте посмотрим на эту проблему не с бульварной, а документальной точки зрения.
Возьмём три примера. Не брать же в самом деле десятки сплетен, опровергать которые весьма сложно в силу их глупости и полной никчёмности.
Первое обвинение, которое предъявляли Екатерине, заключалось в её развратном поведении в период до встречи с Потёмкиным.
К сожалению, даже Валентин Пикуль поймался на удочку пасквилянтов и, «художественно» развивая клевету, навалял в романе «Фаворит» такую сцену…
«Сдаваясь без боя, женщина однажды не вытерпела и, потупив глаза, как стыдливая девочка, сказала, что снова ночует на пустой елагинской даче:
– Навести меня, одинокую вдову…
Как бы не так! Потемкин переслал ей через Елагина записку: у тебя, матушка, перебывало уже пятнадцать кобелей, а мне честь дороже, и шестнадцатым быть никак не желаю».
Кто читал роман, наверняка помнит исполненную историзма сноску, мол, это письмо было известно среди современников. Архив ЧБС (чья-баба сказала)? Очень похоже, что так.
Интересно, это что же, Государыня сама распространила это письмо в светском обществе, чтобы оно стало известно современникам?
Не было такого письма в природе, да его и не могло быть в природе, потому что, во-первых, Григорий Александрович Потёмкин был человеком высочайшей культуры и никогда бы не позволил такого хамского обращение к женщине вообще, а тем более, к Императрице, которую, кстати, искренне уважал с первых лет знакомства; во-вторых, ни одна настоящая, уважающая себя женщина не стерпела бы такого оскорбления, да к тому же ещё и незаслуженного – в «Чистосердечной исповеди» она откровенно и честно рассказала, с кем и по какой причине имела любовные связи.
Она написала, что не пятнадцать, а третья доля от сих! Даже такое написать женщине нелегко. Но она писала своему избраннику, причём, как показало время, действительно избраннику всей её жизни.
Интересно, что свидетельство современника, причём иностранца, дошедшее до нас, тоже опровергает ложь о, якобы, пятнадцати любовниках.
В 1770-1772 французский дипломат Оноре-Огюст Сабатье де Кабр был поверенным в делах при дворе Императрицы Екатерины Второй.
В своём донесении в Париж он писал о Государыне:
«Не будучи безупречной, она далека в то же время от излишеств, в которых её обвиняют. Никто не мог доказать, чтобы у неё была с кем-нибудь связь, кроме трёх всем известных случаев: с Салтыковым, с польским королем и с графом Орловым».
Сабатье де Кабр не назвал Васильчикова, потому что, вероятнее, всего просто не застал его, ведь он был в России до 1772 года.
Фраза «никто не мог доказать» говорит о многом. Да, всё, что выдумывали о связях Екатерины, на проверку оказалось клеветой.
Ну а теперь остановимся на обвинении в фаворитизме после 1776 года. В 1774 – 1776 году рядом с Императрицей был Потёмкин – тут разночтений нет.
Ну а далее… Каких только гадостей не навыдумывали. Иные авторы, забыв о чести и совести, со знанием дела списки фаворитов составляли.
Не будем разбирать эти списки – противно. Однако, навскидку, проверим хотя бы один факт. Возьмём так называемого фаворита, наиболее известного своим именем. Вот что говорится о нём в интернете. (См. Самые известные фавориты Екатерины II. Интересно знать anydaylife.com› Факты›post/1026
А также: Фавориты Екатерины Великой. Григорий Орлов - фаворит...
fb.ru›article…favorityi-ekaterinyi…ekaterinyi…)
Начало таково:
«Правление Екатерины II было омрачено не только многочисленными социальными проблемами в стране, но и тем фактом, что фаворитизм достиг невиданных до этого времени масштабов».
Ну а далее приводится длинный список, неведомо кем составленный, а финал великолепен!
«Несколько слов в заключение
Фавориты Екатерины II, бывшие в основном адъютантами Светлейшего князя Потёмкина, стали сменять один другого. Некоторые из них, наподобие будущего героя Отечественной войны, Алексея Петровича Ермолова, получили известность и народную любовь…»
Ну и ещё один перл, для закрепления:
«Фавориты Екатерины II, получившие наибольшую известность: Алексей Петрович Ермолов (будущий герой войны с Наполеоном), Григорий Александрович Потемкин (великий государственный деятель той эпохи) и Платон Зубов, последний фаворит Императрицы…»
Ну и, конечно, указаны годы, когда Ермолов состоял в фаворитах. Это 1783 – 1786 годы.
Что ж, характерный образчик клеветы. Алексей Петрович действительно стал героем Отечественной войны 1812 года. Да и не только этим он знаменит. Немало подвигов на его счеты.
Ну а первый «подвиг», если верить клеветникам Государыни, он совершил в 6 лет от роду. И совершал его на протяжении трёх лет, то есть пока ему не исполнилось 9 лет. Да, да… Герой Отечественной войны 1812 года Алексей Петрович Ермолов родился в 1777 году и ко времени, указанному пасквилянтами, ему исполнилось шесть лет.
Можно было бы ещё разобрать ложь о Милорадовиче и других, да только зачем занимать внимание читателей этакой дребеденью.
Часто любители сплетен и хулы на великих деятелей прошлого любят, когда им это выгодно, требовать, к примеру, а вот докажите, что Иоанн Грозный сына не убивал? Но ведь сначала следовало бы доказать, что Государь своего сына убил. А таковых доказательств в природе нет. Есть выдумки папского шпиона Антонио Поссевино, секретаря генерала ордена Общества Иисуса, папский легат в Восточной Европе и первого иезуита.
Клевета была подхвачена шпионом германского императора Генрихом Штаденом, а спустя годы растиражирована некоторыми недобросовестными русскими историками «по свистку из-за бугра».
Точно так же и здесь. Ни одного документального свидетельства о том, что некоторые генерал-адъютанты Императрицы Екатерины II были её любовниками, нет. Так и говорить не о чем. Мы не можем утверждать, что ничего не было. Да ведь то, что было, это дело самой Государыни…
То же самое можно сказать и о других всевозможных пасквилях.
Возьмём сплетню об истопнике, превращённом в постели Государыни в графа Теплова.
В течение двадцати лет занимаясь исследованием золотого века Екатерины, опровергая сплетни, домыслы и клеветы, я так и не добился от своих оппонентов хотя бы одного достоверного документа, подтверждающего их сладострастные выдумки. Понятно, что пасквилянты, а все они в большинстве своём, обличием своим напоминали особей мужского рода, именно потому с таким сладострастием заглядывают под чужое одеяло, что сами им в силу определённых патологий, под одеялом собственным делать нечего.
В 2004 году в невероятно популярной в советские времена серии «ЖЗЛ», доктор исторических наук Н.И. Павленко опустился до безобразной клеветы, касающейся истопника-любовника.
Да, простит меня читатель за мерзкую и пошлую цитату из книги господина Павленко и в особенности да, простят меня женщины:
«Случайных, кратковременных связей, не зарегистрированных источниками, у Императрицы, видимо, было немало».
А позвольте узнать, сколько зарегистрированных источниками связей может назвать господин Павленко? И в каком архиве находится сия документальная регистрация? Доказал бы хоть одну, но доказал так, как это принято доказывать в суде – со свидетельскими показаниями столь занимающих вас интимных подробностей. Уверен. Не назвал бы ни одного факта. И даже список так называемых фаворитов, приведённый на станице 355 книги «Екатерина Великая» рассыплется в прах, ибо все эти лица по официальным документам проходят чаще всего как генерал-адъютанты. Все же иные их назначения имеют подтверждение лишь в одном всем известном источнике – архиве ЧБС.
Заключение же о «кратковременных связях» господин Павленко делает на основании, так называемых семейных преданий. Он пишет:
«Основанием для подобного суждения можно считать семейное предание о происхождении фамилии Теплова. Однажды Григорий Николаевич, родоначальник Тепловых, будучи истопником, принёс дрова, когда императрица лежала в постели.
«Мне зябко», – пожаловалась она истопнику. Тот успокоил, что скоро станет тепло, и затопил печь. Екатерина продолжала жаловаться, что ей зябко. Наконец робкий истопник принялся лично обогревать зябнувшую императрицу. С тех пор он и получил фамилию Теплов».
Садясь за книгу, тем более историческую, надо несколько унимать свои сладострастные воображения и хоть чуточку думать над тем, что пишешь.
Семейное предание!? А ведь семейное предание, если говорить о семье Екатерины и её преданиях, это предания Павла Первого и его семьи, Николая Первого и его семьи и так далее вплоть до Николая Второго, приходящегося, ей уже пра-пра-правнуком. Представьте себе, как все эти достойные Государи и достойные их супруги скабрезно улыбаясь, обсуждают, как их мать, бабушка, прабабушка (и т.д.) затащила в пастель истопника. Быть такого не может. Да ведь ничего подобного и не было, ибо «предание» плод воображения г. Павленко. Впрочем, известно, что каждый судит о поступках других по своим собственным. Переведите на себя, дорогие читатели, всё сказанное г. историком, и вы, несомненно, вздрогните от омерзения при одной только мысли о существовании подобных преданий.
Прочитав следующий абзац книги Н. Павленко, я невольно ещё раз взглянул на обложку – не ошибка ли, ужель это книга серии ЖЗЛ? Увы, господин Павленко со знанием дела указывает, что «Екатерина не пренебрегала случайными связями, и Марья Саввишна Перекусихина выполняла у неё обязанности «пробовальщицы», определявшей пригодность претендента находиться в постели у Императрицы. Таким образом, императрица имела за 34 года царствования двадцать одного учтенного фаворита. Если к ним приплюсовать…».
Всё, далее цитировать эти сплетни, недостойные звания мужчины, сил нет. Лишь гнев и возмущение могут вызвать рассуждения очередного самозваного учетчика фаворитов, уподобляющегося представителям известной профессии…
А ведь Православная Церковь учит: «Клевета является выражением недостатка любви христианской или даже обнаруживает ненависть, приравнивающую человека к убийцам и поборникам сатаны: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8,44)»; «Дети Божии и дети дьявола узнают так: всякий, не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» (1Ин. 3,10); «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей» ( 1Ин. 3,15); В то же время клевета – порождение зависти, гордости, стремящейся к унижению ближнего, и других страстей. Поэтому то дьявол и называется в Св. Писании клеветником».
Ну а что касается самого Теплова, то документов о нём существует более чем достаточно и все они не за семью печатями скрыты. Вот вам самые краткие о нём данные:
Григорий Николаевич Теплов родился 20 ноября 1717 в Пскове. В Википедии говорится, что он «русский философ-энциклопедист, писатель, поэт, переводчик, композитор, живописец и государственный деятель. Сенатор, действительный тайный советник, противник Петра III, ближайший сподвижник Екатерины Великой, близкий друг и наставник графа Кирилла Разумовского, глава гетманской канцелярии в Малороссии с 1741 года и фактический инициатор её упразднения. Действительный член Академии наук и художеств, адъюнкт по ботанике (с 1742 года), почётный член Императорской Академии наук и художеств (с 1747), фактический руководитель Академии с 1746 по 1762 год. Создатель устава Московского университета и «Проекта к учреждению университета Батуринского».
Перечисляется немало и других заслуг. Но заслуживает внимание один факт: родился Теплов в семье истопника. Но случилось это в годы правления Петра I. Вот и перепутал господин историк самую малость. Ошибся этак на полсотни лет. Да ведь и в те годы Тепловы фамилию свою вовсе не в постели заработали.
Ну и далее: «Во время обучения в петербургской школе Феофана Прокоповича, куда попал по его настоянию, привлёк внимание последнего и в 1733 году был направлен на учёбу в Пруссию. По возвращении (1736) служил переводчиком в Академии наук и искусств. 3 (14) января 1741 года определён адъюнктом Академии по ботанике, выбыл 7 (18) марта 1743 года, но в апреле снова принят адъюнктом. Затем продолжил обучение в Париже и в «городе Тубинге». …Граф Алексей Разумовский, под впечатлением от образованности Теплова приставил его воспитателем к своему младшему брату Кириллу. После путешествия по Европе 18-летний брат фаворита 21 мая (1 июня) 1746 года получил назначение президентом Академии наук и художеств, хотя в реальности всеми делами Академии занимался Теплов».
Кто сочинил совершенно несуразную сплетню, теперь уж не установить. Зато весьма известны имена тех, кто её распространяет. Казалось бы, удивительно слышать, что доктор исторических наук Н.И. Павленко писал свои перлы, пользуясь известным во все временя источником – ЧБС… Но давно уже подмечено русскими мыслителями, что зачастую историки и являются главными специалистами по извращению русской истории.
Полагаю, что нет смысла разбирать все клеветнические выпады против Императрицы. Они не более достоверны, чем те, что приведены выше. Ну а этот краткий экскурс необходим для того, чтобы пояснить читателям, почему в дальнейших главах, посвящённых любви Императрицы Екатерины, считаю недопустимым касаться каких-либо «неслужебных» отношений её с генерал-адъютантами.
Не лучше ли придерживаться здравого смысла и не забывать о том, что клевета в любом случае омерзительна.
Адмирал Павел Васильевич Чичагов, сын знаменитого екатерининского адмирала Василия Яковлевича Чичагова, не понаслышке, не по сплетням изучивший золотой век Екатерины и имевший все основания писать о нём правду, а не «сладострастно» измышлять с приставками «думается» и «иначе и не могла поступать» в своих «Записках…» заявил:
«Всё, что можно требовать разумным образом от решателей наших судеб, то – чтобы они не приносили в жертву этой склонности (имеется в виду любовь – Н.Ш.) интересов государства. Подобного упрёка нельзя сделать Екатерине. Она умела подчинять выгодам государства именно то, что желали выдавать за непреодолимые страсти. Никогда ни одного из фаворитов она не удерживала далее возможно кратчайшего срока, едва лишь замечала в нём наименее способности, необходимой ей в благородных и бесчисленных трудах…
Самый упрёк, обращённый к её старости и обвинявший её в продолжении фаворитизма в том возрасте, в котором, по законам природы, страсти утрачивают силу, – самый этот упрёк служит подтверждением моих слов и доказывает, что не ради чувственности, а скорее из потребности удостоить кого-то своим доверием она искала существо, которое по своим качествам было бы способно быть её сотрудником при тяжких трудах государственного управления».
То есть, П.В. Чичагов вовсе не отрицает, да и мы не можем отрицать, что любовные связи, конечно, могли иметь место в жизни Государыни, но они не доказаны и всю правду о них знала лишь она сама, да тот, кто был выбран ей. Ну а каков был характер отношений, судить не нам, да и тем более уж не всякого рода «Павленкам», заражённым явно не здоровым сладострастием в виду определённых личных патологий
Пасквилянты даже не принимали во внимание возраст Императрицы, состояние её здоровья. Ведь она венчалась с Потёмкиным в сорок пять лет, а рассталась – наверное, определение не совсем точно – разъехалась с ним, поручив ему в управление южные губернии России, когда ей уже исполнилось сорок семь. Ну а далее, она, вполне понятно, не молодела. Разумно ли приписываться ей возрастающую не по дням, а по часам любвеобильность?
В 1789-м, когда появился Платон Зубов, Императрице было 60 лет, а ему – 22 года. Когда мужчина старше на 38 лет, уже многовато, а когда старше женщина?
Дорогие читатели мужчины, прошу вас, представьте себя ухаживающими в двадцать лет за шестидесятилетней женщиной. Вряд ли получится.
Дорогие читательницы женщины, прошу вас, представьте себя в почтенном возрасте, а рядом юнца… Ну сами понимаете, что сказать хочу.
Думаю, что после таких представлений вы отнесётесь к пасквилям соответствующим образом.
И не надо искать объяснений в том, что Екатерина, мол, Императрица… Она, прежде всего – Женщина! Я же привёл её письма к Потёмкину, в которых она забывает о своём Императорском Величестве и помнит лишь о своей любви! Искренней, женской любви. Что же чувства такие превращать в балаган, как делали и, увы, порой делают недомущинки, желая заработать на изощрённых выдумках.
Достоверно известно, что в последние годы царствования Императрица Екатерина часто болела, причём состояние здоровья постепенно ухудшалось. Она уже не могла без посторонней помощи подняться на второй этаж. Когда родился внук Николай Павлович, будущий Император Николай Первый, Екатерина, писавшая о нём своим корреспондентам восторженные письма, не смогла полностью выстоять обряд на крестинах малыша…
Разве Государыня, которая возвела страну на высоты славы и могущества, которая на государственной службе Державе Российской растратила своё здоровье, не заслуживает более деликатного отношения к со стороны всякого рода биографов и исследователей, особенно если эти биографы и исследователи – мужчины?!
Рассуждая же на тему «Екатерина Великая в государственной деятельности и любви» не лучше ли сосредоточить внимание на том, большая любовь, которую она пронесла через всю свою жизнь, от бракосочетания и до ухода в мир иной любимого человек.
В тридцатые годы Анна Кашина, русская женщина, эмигрантка, на основе изучения переписки Екатерины Великой и Потёмкина, которую готовила к выходу в свет по заказу французского издателя Жоржа Удара, сделала вывод, что Потёмкин – не любовник, не фаворит, а горячо любимый супруг, соединяя свою жизнь с которым. Анна Кашина отметила, что Екатерина «впервые узнала, что значит любить по-настоящему». Она с убеждением писала, что «любовь к нему заполняет её (Екатерины) жизнь», что Императрица понимает: «уже никогда больше она не полюбит так, как она любит сумасшедшего, но гениального Потёмкина» и заключила: «При желании дать какое-то определение любви Екатерины к Потёмкину, я бы сказала: суеверная любовь…». Любовь, которую Императрица пронесла через всю свою жизнь!
Вот об этой любви и о том, как она способствовала успеху государственных дел, мы и поговорим в последующих главах.
Принимай решение, военврач!
Первый бой, и сразу первое ранение, да к тому же ранение тяжёлое. Жгут накладывается на два часа, после чего неминуемо омертвение конечности. Два часа, всего два часа в запасе у хирурга, а выход к своим возможен не раньше чем через двое суток… Принимай решение, военврач!
***-
Решайте, товарищ военврач!
Впрочем, обо всём по порядку.
В конце ноября 1-й воздушно-десантный корпус был в основном готов к боевым действиям, а когда советские войска начали мощное контрнаступление под Москвой, его перебросили к линии фронта.
Бригада разместилась побатальонно в районе города Люберцы и в посёлках Дзержинский, Капотня, Малаховка.
2-й отдельный воздушно-десантный батальон дислоцировался близ аэродрома. Личный состав расписали по самолётам. Каждую минуту ждали приказа на десантирование в тыл врага.
Морозным декабрьским вечером 1941 года к Михаилу Гулякину на медицинский пункт пришёл комиссар батальона. Он раскрыл свою командирскую сумку и достал топографическую карту.
– Смотри Миша, знакомые места?
– Ещё бы, вот Мценск, Чернь, Скуратово, – оживился Михаил. – Я здесь всё исходил вдоль и поперёк. А вот и Акинтьево моё родное. Ну что ж, Николай Иванович, эту местность знаю хорошо, быть может, буду полезен не только как военврач.
А сам подумал: «Эх, если бы удалось повидать маму, сестру, брату Анатолия. А то ведь никаких вестей от них…»
– Как ты, наверное, понял, Миша, ориентировали нас на действия именно в этом районе. А там уж как решит командование. Обстановка на фронте меняется быстро.
И действительно, всё вышло несколько иначе. 10 декабря, вскоре после начала контрнаступления советских войск под Москвой, бригада была выброшена небольшими группами на пути отступления врага.
С одной из групп было приказано десантироваться и Михаилу Гулякину со своими помощниками – санинструктором Таракановым и санитаром Мельниковым. Только вот действовать пришлось не южнее, как предполагалось первоначально, а северо-западнее Москвы.
Морозной ночью взревели двигатели самолётов. Летчики опытные, многие прошли закалку за Полярным кругом. Им сам чёрт не брат. Совсем недавно, пару недель назад производили выброску красноармейцев-добровольцев из стрелковых полков, чтобы остановить движение вражеских танков под Можайском. Без парашютов, в глубокий снег с минимальной высоты и на минимально возможной скорости. Теперь проще, теперь и высота нормальная и скорость обычная, разве что под крылом белая пелена, да и самолеты, словно не по воздуху летят, а в молоке плывут. С другой стороны, вражеских истребителей не встретишь.
Заняли места, приготовились. Пока проводилась посадка, кто-то раза два упомянул о необыкновенном, героическом десанте. Гулякин заинтересовался. А когда самолёт набрал высоту, услышал рассказ о том подвиге. И ясно представил себе картину…
Представим и мы себе, что произошло буквально в последние дни вражеского наступления на Москву, и буквально за несколько дней до начала контрнаступления. Тем более, сегодня нам известно уже значительно больше, нежели мог услышать военврач 3 ранга Михаил Гулякин в ту декабрьскую ночь, когда десантный самолёт уносил его в тыл врага для выполнения боевого задания.
Сталин разговаривал с командиром 3–й авиадивизии дальнего действия полковником Головановым, когда раздался звонок по ВЧ (высокочастотной телефонии). Командующий фронтом генерал Жуков доложил встревоженным голосом о том, что со стороны Можайска на Москву движется шестьдесят танков и до трёх полков пехоты на автомобилях. Остановить их нечем. Никаких наших подразделений и частей на этом направлении нет.
Не время было спрашивать, почему оборона на этом направлении оказалась эшелонирована столь слабо. Сталин спросил лишь одно:
– Ваше решение?
Командующий фронтом доложил, что решил собрать артиллерию двух стрелковых дивизий пятой армии, 32-й и 82-й, но для того, что бы перебросить их на участок прорыва, нужно любой ценой задержать танки, а задержать их нечем.
Сталин тут же позвонил командующему авиацией московской зоны обороны генералу Жихареву, коротко ввёл в обстановку и попросил ударить по танковой колонне силами фронтовой авиации.
– Это невозможно, товарищ Сталин. Низкая облачность не позволит нам нанести точный бомбовый удар, а против танков удар по площади не эффективен.
Сталин согласился с ним и обратился к Голованову:
– Может быть, выбросить десант?
– Вероятно, это единственный выход, – согласился Голованов, – Но здесь есть сложности. Выбрасывать десант с шестисот – тысячи метров в данной обстановке бессмысленно. Низкая облачность сведёт на нет точность выброски, а глубокий снег не позволит десанту быстро сосредоточиться в районе прорыва. К тому же, противник сможет расстрелять парашютистов в воздухе.
– Но не сажать же самолеты в поле перед танками противника? – с раздражением спросил Сталин.
– Да, это тоже невозможно, – подтвердил Голованов. – Часть самолётов неминуемо погибнет при посадке, да и приземление под огнём противника не приведёт к успеху.
– Каков же выход?
– Выход есть. Нужно высадить десант с предельно малых высот и на предельно малой скорости самолётами транспортной авиации. Глубокий снег в этом случае нам на руку.
Сталин долго молчал, затем сказал:
– Без парашютов? Как же это? Ведь люди погибнут.
– При выброске с парашютами погибнет больше. А в данном случае снег смягчит удар. Можно надеяться на незначительные потери. К тому же иного выхода у нас нет, – убеждённо сказал Голованов.
– Погибнут люди, – повторил Сталин, всё ещё внутренне сопротивляясь такому решению, хотя нельзя было не понять, что иного выхода просто нет.
– Товарищ Сталин, немецкие танки идут на Москву.
– Как вы собираетесь выбросить десант?
Голованов доложил, что на аэродроме транспортной авиации близ села Тайнинское находятся самолеты ПС-84 и ДС-З. Лётчики на них опытные, у каждого солидный налёт в различных метеорологических условиях. Пройти на бреющем над полем и обеспечить выброску десанта они вполне способны и прибавил:
– Остаётся найти резервные части, которые можно быстро доставить в Тайнинское.
У Сталина на карте были нанесены все самые свежие данные об обстановке, о расположении частей и соединений, о подходе резервов. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить: ближе всех к Тайнинскому находились части стрелковых дивизий, следовавших маршем на формирование 1-й ударной армии в район Пушкино. Верховный попросил уточнить, где находятся они в данный момент, и, узнав, что подходят к Мытищам, приказал повернуть два стрелковых полка на аэродром.
– Какие силы мы можем десантировать? – спросил Сталин у Голованова.
– Каждый самолет может взять до тридцати десантников с противотанковыми ружьями из расчёта одно на двоих, с противотанковыми гранатами и личным оружием.
– Хорошо. Сколько у нас есть самолётов?
– Надо количество транспортников довести до тридцати, – сказал Голованов. – Пятнадцать в Тайнинском уже есть. Ещё пятнадцать прикажу перебросить с аэродрома Внуково из состава особой авиационной группы.
– Поезжайте в Тайнинское, – размеренно сказал Сталин. – Лично поставьте задачу лётчикам. Когда прибудут стрелковые полки, поговорите с людьми, обрисуйте обстановку и попросите от моего имени выполнить эту опасную задачу. Отберите только добровольцев. Только добровольцев, – повторил он.
Два стрелковых полка, направленные в Тайнинское, выстроились на аэродроме. Командиры перед строем в ожидании. Вскоре проявилась эмка. Из неё вышел генерал Голованов, поздоровался с командирами и остановился перед строем. Заговорил громким голосом. В морозной тишине его было слышно и на флангах строя.
– Сынки, я приехал к вам прямо от товарища Сталина. На Можайском направлении – критическая обстановка. Прорвалось шестьдесят танков с пехотой. Идут прямо на Москву. Остановить их нечем. Вся надежда на вас. Задание опасное. Нужны только добровольцы. Необходимо десантироваться с малой высоты, а, если точнее, попросту прыгнуть с самолётов в сугробы, и остановить танки. Иного способа нет. Верховный просил меня лично от его имени обратиться к вам с такой просьбой. Повторяю, задание опасное, а потому только добровольцы пять шагов вперед, – он сделал внушительную паузу, чтобы смысл его слов мог дойти до каждого и закончил краткое своё выступление резкой и отрывистой командой: – Шагом-марш!
Пять шагов вперёд сделали полностью оба полка.
В первую очередь отбирали расчёты противотанковых ружей, причём брали красноармейцев и младших командиров наиболее крепких, выносливых. Ведь прыжок в сугроб, как бы он не был опасен, это только начало. А затем предстоял бой с превосходящим противником, бой с танками.
И вот первые пятнадцать самолётов, поднимая при разбеге снежные вихри, стали один за другим подниматься в воздух.
Первая волна самолётов выбросила 450 бойцов. Около 90 человек разбились сразу. Уцелевших хватило тоже ненадолго. Но они сделали своё дело, задержав танки, заставив их развернуться в боевой порядок, причём во время развёртывания часть танков увязло в глубоком снегу. Когда же гитлеровцам показалось, что они справились с десантом и можно продолжить движение, из-под облаков вынырнули ещё пятнадцать тяжёлых краснозвёздных машин, и снова посыпались в снег красноармейцы, готовые вступить в жестокий бой – люди, презревшие смерть, люди, одолеть которых казалось уже делом невозможным. Снова выстрелы противотанковых ружей, снова взрывы противотанковых гранат, снова беспримерные подвиги бойцов, бросающихся под танки.
Головные подбитые танки загородили остальным путь вперёд. Но взрывы уже гремели и в глубине колонны, и в её тылу. О чём думали гитлеровцы в те минуты огненной схватки? Как оценивали они происходящее? Перед ними было что-то из области фантастики. Огромные Русские самолеты, проносящиеся над землей на высоте от пяти до десяти метров, и люди, прыгающие в снег, а потом, правда, уже не все, поднимавшиеся в атаку и шедшие на броню, на шквальный огонь пулемётов с единственной целью – уничтожить незваных гостей, топтавших Русскую Землю.
Можайский десант задержал колонну немецких танков, дав возможность перебросить под Кубинку артиллерию. Совместными согласованными усилиями артиллерии и стрелковых полков противник был отброшен на исходные рубежи, потеряв 51 танк, сгорело также около шестидесяти автомашин, было уничтожено до трёх полков пехоты.
Это была последняя, судорожная попытка врага прорваться к Москве.
Говорят, что те немецкие солдаты и офицеры, которые встретились в заснеженных полях Росси с беспримерным десантом, получившим название Можайского, были надломлены морально и уже не могли воевать так, как воевали до сих пор. А ведь Русский десант атаковал не каких-то трусливых вояк, отдавших к тому времени Гитлеру и Варшаву, и Париж, и вообще всё, что можно было отдать. Атаковали наши воины не британцев, спустя полгода после беспримерного Русского десанта наваливших в штаны при сопровождении конвоя PQ-17 при одном известии о выходе им навстречу линкора «Тирпиц». Британцев, бессовестно, бесчеловечно и аморально бросив на растерзание авиации и подлодкам безоружные траспортные корабля. Перед нашими воинами были не янки, что в сорок пятом драпали под Арденами от фольксштурма, гитлерюгенда, да потрёпанных на советско-германском фронте дивизий Вермахта, имевших весьма ограниченный боекомплект и по одной заправке топлива на танк.
Русский десант атаковал бронированный авангард одной из сильнейших армий в мире, а если точнее, то одной из двух сильнейших армий. Солдаты этой армии, на протяжении всей своей многовековой истории, уступали воинам только одной армии – Русской и только от неё одной терпели поражение. Поэтому в мировой военной истории известны только две армии, которые достойны того, чтобы называться армиями, а не стадом изнеженных наёмников. Два государства, обладающих этими армиями, тёмные силы зла постоянно сталкивали с единственной целью – выбить как можно больше людей и у тех, и у других. И, несмотря на то, что подвиг Можайского десанта некоторые американоидные интеллигенты пытались стереть в памяти Русских людей, именно в Германии, в 1946 году вышла книга, в которой обобщался опыт боевых действий воздушно-десантных войск. И в книге этой было прямо указано на возможность высадки в критической обстановке десанта без парашютов в глубокий снег, с предельно малой высоты. Этот метод не был проверен самими немцами, но они оценили по достоинству то, что совершили сибиряки 2 декабря 1941 года на Можайском направлении под Москвой.
Этот опыт достался нам дорогой ценой. Но гитлеровцы дрогнули и повернули назад. Их танкам стоило большого труда вырваться из гигантского кострища. Они уходили, сбрасывая в кюветы грузовые автомашины, сдвигая на обочины обгоревшие коробки танков. И ушли немногие.
Впрочем, в ту декабрьскую ночь из уст в уста передавались только самые свежие, самые первые сведения о беспримерном подвиге красноармейцев, волею судьбу мгновенно превратившихся в десантников во имя спасения Отчизны. Но даже те краткие рассказы о небывалом подвиге, поднимали настроение, вызывали гордость за свою страну, своей народ, свою армию и внушали уверенность в успех предстоящей операции.
Впоследствии Михаил Филиппович не раз удивлялся, почему вдруг сведения о той беспримерной операции оказались под запретом, почему рассказ о ней маршала авиации в мемуарах, опубликованных в журнале «Октябрь» в конце 60-х, был выброшен, волею знатного партийного боса, из его книги, вышедшей позже.
Но тот подвиг остался в памяти особенно тех, кто слышал его из первых уст и кто бил врага также крепко и беспощадно, как воины десанта, получившего в истории наименование Можайского.
Рассказ несколько отвлёк, от того, что предстояло с минуты на минуту. И вот сигнал… Поочерёдно десантники покинули самолёт. Вот и над Михаилом раскрылся светлый купол, наполненный то ли ветром, толи мириадами снежинок, вместе с ним, опускающихся к земле.
Мягкое приземление – снежный покров глубок.
Приглушённые команды… Десантники собирались как можно быстрее, ведь на всё про всё время ограничено. Ещё затемно разведывательно-диверсионная группа оседлала большак возле неширокого деревянного моста через скованную морозом речушку. Командовал молодой, но уже опытный, побывавший в боях командир парашютно-десантной роты лейтенант Семёнов. За безудержную храбрость и лихую удаль в боях десантники прозвали его Чапаевым. Так и говорили с любовью – «наш Чапай».
Диверсионная быстро оборудовала опорный пункт на берегу. На опушке леса, за пригорком, занял позицию расчёт приданного миномёта. Мост подготовили к взрыву.
Издалека доносился грохот канонады, слышался приглушённый расстоянием стук пулемётов.
Мороз, будучи не в силах забраться добротные, тёплые плотно облегающие комбинезоны, пощипывал щёки, нос, пальцы в повлажневших от работы перчатках.
Позицию заняли своевременно, как и было приказано.
– Запаздывают фрицы, – перешучивались десантники. – Застряли где-то. Пора, пора гостинцы получать.
Ждали час, другой…. Наконец, с большака донёсся гул автомобильных моторов. Шла колонна, и судя, по шуму её, немалая.
«Ну, вот и настал час, – подумал Гулякин, наполняясь удивительным спокойствием, сосредоточиваясь на главном. – Что же медлит командир, враг уже рядом…»
– Приготовиться! – вполголоса передали по цепи команду лейтенанта Семёнова. – Огонь открывать только по команде!
Вражеская колонна шла на большой скорости, автомобили – с зажжёнными фарами. Пурга. Налётов авиации фашисты не опасались.
Прозвучала команда «Огонь», и закрутилось, завертелось всё вокруг. Опорный пункт ощетинился вспышками выстрелов. От разрыва мины, точно выпущенной из миномёта, опрокинулась и загорелась головная машина, вторая, наскочив на неё, опрокинулась и сползла в кювет. Из кузова посыпались ошарашенные гитлеровцы. Они залегли вдоль дороги, беспорядочно паля наугад.
Но минутную растерянность прекратили отрывистые команды. Вражеские солдаты развернулись в цепь и, сделав короткий бросок вперёд, залегли. А к мосту, объезжая перевёрнутые машины, двинулся бронетранспортёр. Хороший аргумент в бою с подразделением, не имеющим тяжёлого оружия…
Пулемёт трещал, поливая свинцом берег. К счастью, позиции диверсионной группы хорошо замаскированы, лишь случайные пули залетали на них.
Бронестранспортёр с ходу ворвался на мост, но едва достиг середины, как прогремел взрыв, доски, куски перил взлетели вверх и рухнули в полынью, в которой уже скрылся бронетранспортёр.
А гитлеровцы уже покидали автомобили, колонна которых ещё не успела полностью выйти из леса, остановленная внезапной атакой десантников.
Подразделения врага быстро выстраивались в боевой порядок. У них оставался один выход – прорыв сквозь заслон десантников, поскольку позади наседали передовые подразделения советских войск.
И вот началась атака. Впервые Гулякин видел врага и сразу так близко… Тёмные силуэты солдат, сполохи автоматных очередей. Вражеская цепь надвигалась. Река для атаки – не преграда. Мороз надёжно сковал её русло.
Рота встретила атакующих метким огнём, теперь уже полностью демаскировав свои позиции. Огонь атакующих стал прицельным. И вот уже, слабо вскрикнув, уткнулся в снег один десантник. К нему тут же бросился санитар Мельников. После короткой перебежки он прополз открытый участок среди взбиваемых пулями фонтанчиков снега, взвалил на себя раненого и оттащил его в небольшую ложбинку. Придерживая врачебную сумку, заполненную различными медикаментами, туда поспешил и Гулякин.
Мельников действовал быстро и сноровисто. Расправил складки на одежде десантника в том месте, где нужно было наложить жгут, подготовил резиновую ленту и сделал два кольца не бедре выше раны.
Подоспевшему Гулякину Мельников доложил, что было фонтанирующее кровотечение из голени, но после наложения жгута оно остановилось.
«Артериальное кровотечение, – понял Гулякин. – Вот так – первый раненый в первом боя и сразу тяжёлый».
Он знал, насколько опасны артериальные кровотечения. За короткое время потеря крови может вызвать серьёзную опасность для жизни.
– Мельников, вы всё сделали правильно, – сказал Гулякин. – Теперь давайте вместе его перевяжем. А что это за бумажка под жгутом?
– Записка с указанием времени наложения жгута.
– А кому она адресована? Самому себе? Эвакуировать раненого некуда. Я даже ещё не получил от командования указаний о месте сосредоточения раненых и способах их эвакуации. Вот вам и отличие медицинского обеспечения в десанте…
– У нас пока один раненый.
– Но в других подразделениях, возможно, тоже есть. Возьмите в помощь бойца и отнести раненого в безопасное место, вон в ту рощицу.
«Вот она, академическая тактика медицинского обеспечения военно-воздушных сил», – подумал Гулякин.
Вспомнились слова военврача 1 ранга Борисова о том, что каждый десантник – человек мужественный, готовый к самопожертвованию. Он видел их в героических делах начала войны. Теперь увидел всё это и Гулякин.
Только тактика-то, которую он изучал в стенах института и в период лагерного сбора, пока оказывалась неприменимой.
В санитарной сумке врача были стерильный перевязочный материал, хирургические инструменты, ампулированный шёлк. Всё, увы, в ограниченном количестве для очень небольшого числа раненых. Предусматривалось, сколько способен унести военврач на себе, да ещё при условии того, что перед боем предстоял прыжок с парашютом.
А что делать с теми ранеными, что нуждались с серьёзной хирургической помощи?
Лекторы говорили, что сложные операции выполняются в армейских лечебных учреждениях. Но это на фронте! А где такие учреждения при действиях за линией фронта? Таких учреждений в тылу врага нет и быть не может. Конечно, при десантировании крупных сил и освобождении значительных территорий можно было рассчитывать на больницы. Но сохранились ли они? Да если и сохранились, то, наверняка, только сами здания. А внутри… Внутри этих зданий – пусто.
Так размышлял Михаил Гулякин, прислушиваясь к утихающему бою. Не сломив с ходу оборону десантников, они отошли. Что собирались предпринять теперь? Подготовиться к новым атакам или искать другие пути отхода? Где найти эти пути в морозную и снежную зиму?
И всё-таки атаки прекратились. Значит, всё-таки гитлеровцы приняли решение искать другие маршруты. А диверсионной группе было приказано углубиться в тыл и перехватить шоссейную дорогу, по которой отходили другие вражеские колонны. Удар, разгром отходящих колонн, создание паники и неразберихи, и переход на новый рубеж. С теми, кто остановлен, разберутся уже передовые наступательные части.
Боеприпасов было пока достаточно. К тому же лейтенант Семёнов приказал десантникам собрать вражеские автоматы и гранаты. В тылу противника это хорошее подспорье.
Гулякину ротный выделил носильщиков для раненого. Две смены выделил. Нести раненого по бездорожью, сквозь лесные чащи тяжело.
Гулякин установил между носильщиками очерёдность и приказал соорудить из подручного материала носилки. Как это сделать, личный состав был обучен ещё во время занятий в дни доукомплектования корпуса.
Всё было выполнено быстро, и группа двинулась в путь.
Гулякин догнал лейтенанта Семёнова и сообщил:
– У нас раненый со жгутом на бедре. Необходимо окончательно остановить кровотечение.
– Так остановите, – отмахнулся лейтенант. – Не мне же этим заниматься.
– Остановить сильное кровотечение можно только в тёплом помещении и при свете, – пояснил Гулякин.
– Извините, Михаил, я неправильно вас понял. В таких тонкостях не разбираюсь.
Лейтенант старался замять свою резкость.
А Гулякин подумал:
«Лейтенант не разбирается. Не удивительно. Учили красноармейцев, учили сержантов, а о командирах забыли».
Но теперь, в тылу врага, не время было исправлять ошибки.
– Того, что просите, обещать не могу – подумав, сказал Семёнов. – Район, где бы должны встретиться со своими в тридцати пяти – сорока километрах отсюда. И будем мы там самое раннее через трое суток. Но допускается, что и через пять суток.
– Более двух часов жгут оставлять нельзя… Произойдёт омертвление конечности.
Лейтенант даже остановился и проговорил:
– Да… Вот дела… Как же быть? В деревнях-то наверняка фашисты.
Он развернул карту, посветил на неё крохотным карманным фонариком (очевидно, трофейным), пробежал глазами вдоль нанесённой карандашом коричневой линии, обозначавшей маршрут движения.
– Вот! – проговорил оживлённо: – Домик лесника. Он почти на маршруте. Можно воспользоваться. Какое потребуется время?
– Постараюсь управиться за полчаса.
Лейтенант что-то прикинул и твёрдо сказал:
– Хорошо! Идём к домику лесника.
На высоком берегу реки, у моста, где лишь редкий кустарник укрывал от ветра, мороз обжигал щёки, а в густом лесу, через который шла разведывательно-диверсионная группа, было тихо. После ветра, казалось, что даже тепло, хотя зима 1941/42 осталась в памяти одной из самых холодных военных зим. Десантники пробирались сквозь чащи, утопая в снегу. Держались подальше от проезжих дорог и населённых пунктов.
К дому лесника подошли с подветренной стороны, остановились на безопасном удалении, прислушались. Семёнов направил двух бойцов разведать, что там и как. Тем осмотрели двор, подсобные помещения и подали сигнал, что всё в порядке. Постучали в дверь. Через минуту сверкнула в проёме полоска света, и на пороге показался кряжистый старик. После короткого с ним разговора разведчики подали условный сигнал: можно нести раненого.
Хозяин дома был суров. Хозяйка же встретила радушно, засуетилась, указывая:
– Сюда, сюда проносите… в горницу. На диван, на диван кладите. Там ему удобнее будет.
Старик заговорил, обращаясь к Семёнову:
– Вижу, что наши, вижу… Но кто ж будете? Из окружения что ли?
– Какое окружение? По делам мы здесь, отец. Слышь, как пушки говорят? Гоним мы фашистов, гоним! Просто мы впереди идём. Понимаешь?
– Теперь понимаю. Скорей бы уж. Лютуют они, ох лютуют. В соседней деревне половину домов пожгли. А народу сгубили! Ребят малых да баб постреляли. Во всех партизан видят.
Михаил прошёл в горницу, затворил за собой дверь и продолжения разговора не слышал. С помощью санинструктора Тараканова он снял с раненого верхнюю одежду, осмотрел, теперь уже при свете, рану и достал из сумки настойку йода, спирт, шёлк в ампулах и кровоостанавливающие средства.
Сняв повязку, Гулякин начал тщательно обрабатывать рану. Убрал из неё кусочки одежды, слегка ослабил жгут. Сразу возобновилось кровотечение.
Оно помогло определить порванные сосуды. Началась кропотливая работа. Сначала на каждый сосуд Гулякин накладывал зажим, затем перевязывал его шёлковой лигатурой. И так много раз.
Наконец, жгут был снят, записка о времени его наложения выброшена. Гулякин наложил на рану повязку и вышел, чтобы сообщить лейтенанту Семёнову об окончании операции.
– Что ж, тогда выходим. Время не ждёт, – сказал Семёнов и, обращаясь к носильщикам, прибавил: – Берите раненого.
– Куда вы его собираетесь нести? – подивился лесник. – Не дворе мороз, пурга. Загубите парня. Что ж мы, не русские люди? Оставьте его у нас. Сбережём до прихода наших и в госпиталь передадим.
– Уход ему нужен, – сказала хозяйка. – Оставляйте.
Семёнов заколебался.
– Вы не сомневайтесь. У нас ведь сынок тоже бьёт гадов-фашистов. Где он теперича сердешный? – хозяйка приложила краешек фартука к глазам. – может, и ему помощь надобна, может, и ему кто пособит…
– Как решим, доктор? – спросил Семёнов у Гулякина. – Может, и правда оставим?
Нужно что-то отвечать… Михаил Гулякин далёк был от того, что бы не доверять людям, но ведь всякое могло случиться. А если фашисты нагрянут к леснику? Если найдут у него десантника? Тогда ведь всем не поздоровится. И с бойцом расправятся, да и с хозяевами тоже церемониться не станут.
С другой стороны, рейд диверсионной группы рискован. А что если придётся уходить от преследования превосходящих сил противника или сражаться на каком-то важно рубеже насмерть? До последнего патрона? Чем тогда помочь раненому? И так риск, и этак.
Решайте, товарищ военврач!
Оставить у лесника надежнее. Фашисты отступают. Вряд ли они сунутся в глубину леса в такой обстановке. Им бы теперь только ноги унести.
Ответил спокойно, обстоятельно:
– Раненому нужен покой, необходим уход хороший. Это верно. Пожалуй, воспользуемся предложением хозяев. Оставим. Тем более, наши здесь раньше здесь будут, нежели мы закончим выполнением всех задач.
– Что ж, так и порешим! – сказал Семёнов. – Спасибо вам, хозяева, огромное спасибо. Действительно, мы в походах своих угробим парня. Хороша больничная палата – лес, да поле, ветер, да мороз.
Попрощался командир с десантником раненым и первым, крепко пожал руку леснику, обнял хозяйку, которая по-матерински перекрестила его, и первым вышел в сени. Дохнуло морозным воздухом. А через минуту в этот свежий, перехватывающий дух воздух морозный, окунулся и Гулякин, а за ним и десантники, которые выделены были для транспортировки раненого. Теперь они поспешили в свои подразделения.
Когда лес принял в свои объятия небольшую группу, ходившую в дом лесника, Гулякин обернулся. Мела пурга, и в её круговерти скрылся дом лесника, в котором хозяева, очевидно, сразу затемнили окна.
– Ну, дай-то Бог, чтоб всё обошлось! – сказал Гулякин ротному, а часа через два пришлось убедиться в том, что решение оставить раненого у лесника было правильным.
Продолжение следует
Кутузов Беннигсена рогоносцем сделал
Как и почему Кутузов Беннигсена рогоносцем сделал
О любви Кутузова к женщинам и многочисленных, даже не романах, а просто связях, писали некоторые его завистники и недруги из иноземцев, прибывших в Россию «на ловлю счастья и чинов».
Они пытались, что вполне соответствовало «европейским ценностям» уже в ту пору следовать известному принципу мерзавцев: «клевещи, клевещи, что-нибудь да останется». Им хотелось хоть какую-то тень бросить на великого полководца, ставшего спасителем Отечества и окунувшего Европу, мордой туда, куда указал Лев Николаевич Толстой в заключительных главах романа «Война и мир».
К примеру, этакий ловец-иноземец Граф Ланжерон каких только небылиц не выдумал. А кто был он, этот выдумщик? Участник заговора великосветских уголовников, совершивших чудовищное преступление 11 марта 1801 года, только чудом, по случаю командировки, не оказавшийся в их числе той страшной ночью. Он командовал одной из трёх колонн в битве при Аустерлице. Если колонна Дмитрия Сергеевича Дохтурова почти насквозь прорезала боевой порядок французов, то колонная Ланжерона никаких успехов не добилась, благодаря «скромности в бою» своего предводителя.
Словом, даже рассматривать сплетни Ланжерона и ему подобных смысла не имеет. У всех одна подоплёка, один подтекст – опорочить природных русских, занять их места, ослабить и пограбить Россию.
А вот одно признание Кутузова относительно прекрасного пола не может не заинтересовать.
28 декабря 1810 года Михаил Илларионович Кутузов в письме дочери, Елизавете Михайловне, которую после геройской гибели её супруга в Аустерлицком старался развлекать разными жизненными историями, сообщил о том, как «была привязана к нему в Вильне жена генерала Беннигсена». О своём отъезде из Вильны Михаил Илларионович писал: «…мадам Беннигсен рассталась со мной только при самом выходе моём на улицу, хотя было холодно, и она меня утопила в слезах. …Госпожа Фишер же проскакала 80 верст, чтобы догнать меня и попрощаться со мной».
В Вильно Кутузов находился с июня 1909 года в должности военного губернатора. Это была почётная ссылка, вызванная интригами Прозоровского, у которого Михаил Илларионович был заместителем, того самого Прозоровского, который подобострастно предлагал наградить Императора за Аустерлиц орденом Св. Георгия 1-степени.
На Дунае шла война, а Вильно, как и многие другие города, продолжал оставаться весёлыми беззаботным городом.
Определив, что жизнь там недёшево стоит, Михаил Илларионович не стал вызывать туда свою супругу Екатерину Ильиничну, а написал ей:
«Я, мой друг, был иногда в отчаянье, думая о твоём положении; даже с горестию всегда принимал твои письма; а иногда не мог собраться и писать к тебе, и беспокоюсь день и ночь. Наконец вот мог сделать для тебя: посылаю за поташ жемчугу, тысяч на тридцать ассигнациями. На всякой связке написана цена, сверх того, два векселя Комаровскому… Всего у тебя сберётся пятьдесят и несколько тысяч, и когда изворотишься, то отдай из них Парашеньке, Катеньке и Дашеньке по три тысячи. Аннушке и Лизоньке уже я отправлю. Ты видишь, мой друг, что это, что я тебе послал, гораздо больше моего полугодового дохода...
Уведомь, все ли в банк внесены проценты. Ежели мало чего недостаёт, то доплатишь. Я взял ещё две тысячи за поташ, но должен был на контрактах заплатить долгу князю Долгорукову две тысячи червонных за долг, который сделан, едучи в армию, тысячу червонных за хлеб, что в деревне куплен на фабрики, да плутовской процесс проиграли без меня на полторы тысячи червонных; да на перевод банкира виленского также заплатил. Да Лизонька что-нибудь стоит. Этого не жаль, только бы было ей в пользу...»
О финансовых проблемах Кутузов писал супруге и прежде, из Житомира, где были имения, дарованные Императрицей за успешную дипломатическую миссию в Турции:
«Посылаю, мой друг, 1000 р., и ещё, сколько могу, присылать буду до отъезда своего. Скучно работать и поправлять экономию, когда вижу, что состояние так расстроено; иногда, ей Богу, из отчаяния хочется всё бросить и отдаться на волю Божию. Видя же себя уже в таких летах и здоровье, что другова имения не наживу, боюсь проводить дни старости в бедности и нужде, а все труды и опасности молодых лет, и раны, видеть потерянными; и эта скучная мысль отвлекает меня от всего и делает неспособным. Как-нибудь надобно, хотя на время, себе помочь: посмотрю, что можно будет сделать на контрактах в Киеве...»
О финансовых трудностях Кутузова я упомянул не случайно. Тот, кого Кутузов, явно не без удовольствия, сделал рогоносцем, в средствах не нуждался, бесцеремонно наживая их путём обкрадывания русского солдата в боевых походах, да и в дни мирной учёбы. Не нуждались в средствах и вороватые друзья и сообщники Беннигсена, о чём будет рассказано далее.
Подробности романа Кутузова с четвёртой женой Беннигсена неизвестны. Зато известно другое. Кутузов не сторонился светской жизни в тех городах, где ему доводилось служить. Бывал на балах и прочих увеселительных мероприятиях во время губернаторства в Киеве, не чурался их и в Вильно.
Правда, все эти выходы на балы носили, скорее, «дипломатический» характер, поскольку помогали воздействовать лично на светские общества крупных городов, которыми приходилось управлять ему, не привыкшему к такой деятельности боевому генералу.
Супруге он писал: «29 марта, Киев (1803). Здесь такая скука, что я не удивляюсь, что многие идут в монахи. Всё равно жить, что в монастыре, что здесь, в городе...».
Тонко сказано. Веселье – веселью рознь. Подобно своим умнейшим и эрудированнейшим учителям Румянцеву, Потёмкин и Суворову, он тяготился тупостью светского общества, хотя и не подавал виду. Настоящим же, опять же по примеру вышеназванных своих учителей, он был в узком кругу, о чём поведал в своих записках Фёдор Глинка:
«В кругу своих Кутузов был веселонравен, шутлив, даже при самых затруднительных обстоятельствах. К числу прочих талантов его неоспоримо принадлежало искусство говорить. Он рассказывал с таким пленительным мастерством, особливо оживлённый присутствием прекрасного пола, что слушавшие всякий раз меж собой говорили: «Можно ли быть любезнее его?»
А Сергей Иванович Маевский, который одно время заведовал канцелярией полководца, в своих мемуарах, напечатанных с сокращениями в VIII томе «Русской старины» в 1873 году и названных ««Мой век, или История генерала Маевского», отметил:
«Можно сказать, что Кутузов не говорил, но играл языком: это был другой Моцарт или Россини, обвораживавший слух разговорным своим смычком. Но, при всем его творческом даре, он уподоблялся импровизатору; и тогда только был как будто вдохновен, когда попадал на мысль, или когда потрясаем был страстью, нуждою, или дипломатическою уверткою... Никто лучше его не умел одного заставить говорить, а другого – чувствовать…»
Недаром, как замечает в своей книге Олег Михайлов, «жена генерала Беннигсена Марья Фадеевна с горячей поклонницей Кутузова пухленькой госпожой Фишер… заговорили о том, что Вильна теперь, с отъездом генерала, потеряет для них свою прелесть».
И далее, писатель добавляет:
«Когда подошло время расставания, баронесса Беннигсен, несмотря на жесточайший декабрьский холод, вышла с Михаилом Илларионовичем на улицу и перед каретой облила его слезами. Не менее десятка первых дворян города громко прокричали: «До видзеня!» Накануне от виленской знати Кутузову была преподнесена богатая табакерка».
Барон Беннигсен, к тому времени баснословно обогатившийся на воровстве продовольствия, снаряжения и военного имущество в ходе кампании 1807 года, когда он был главнокомандующим, был взбешён, и по словом биографа «Кутузова за этот роман с его женой особенно возненавидел».
Марья Фадеевна (Мария-Леонарда (или Екатерина) Фаддеевна, баронесса, впоследствии графиня, урождённая Буттовт-Андржейкович (в некоторых источниках указываются два её первых имени – дочь дворянина Гродненской губ. Ф.Р. Андржейковича – четвёртая супруга Беннигсена, была недурна собой. Родилась она, по мнению биографов, между 1770-1775 годами, то есть в Вильно шестидесятитрёхлетний Кутузов встретил женщину в возрасте примерно тридцати пяти лет, которая была очарована им.
Личность «остзейского чудовища» Беннигсена – одна из самых отвратительных в истории. Он залетел в Россию на ловлю чинов, но так и не удосужился выучить русский язык и принять российское подданство. То поступал на службу, то увольнялся, в боях отваги не проявлял, но, тем не менее, тёмные силы двигали по служебной лестнице эту марионетку. Ну и продвинули до царедворца.
В 1798 году он был произведён в генерал-лейтенанты, правда, вскоре вновь был уволен в отставку за тесные связи с братьями Зубовыми. Зубовы – сыновья нечистого на руку управляющего, не ушли далеко от отца, во всяком случае, Николай и Платон. Валериан был воином, и его братья даже не посвятили в тайны заговора великосветских уголовников против Императора.
Что удивляться? Среди заговорщиков порядочных людей не могло быть по определению. В шайке оказались далеко не идейные борцы, а стяжатели, казнокрады, агенты тёмных сил Запада и прежде всего Англии, да и просто отпетые мерзавцы. Деяния их известны, и благопристойными их назвать могут только подобные им ненавистники России. Зубовы – сыновья вороватого управляющего А.Н. Зубова, названногоИваном Михайловичем Долгоруковым (1764–1823), писателем, поэтом, государственным деятелем и добропорядочным мемуаристом, «бесчестнейшим дворянином во всём государстве». Николай Зубов «отличился» в воровстве у Суворова, о чём рассказано в повествовании, посвящённом Александру Васильевичу, да и вообще был весь в своего отца, ну а Платон, на которого свалились все высшие чины и все блага государственные, превзошёл отца в наглом воровстве и скаредности. Удалённый Императором Павлом Петровичем за границу, он там занимался аферами, уголовного характера. Прусский король, не желая портить отношений с Россией – всё же вороват был князь, генерал от инфантерии и прочая и прочая – обратился к Павлу Первому с просьбой как-то воздействовать на подданного. Император в 1800 году вызвал его в Россию. На свою голову вызвал, поскольку тот сразу примкнул к банде сановных уголовников, готовивших преступное убийство.
После совершения преступления 11 марта 1801 года звезда Платона Зубова быстро закатилась и, как указывают документы, он «в последние годы жизни отдался увеличению своего богатства, входил в подряды, промышлял контрабандой, барышничал. Скаредность его дошла до крайних пределов. Жил он экономно, одевался плохо. Седой, сгорбленный, в 50 лет Зубов казался дряхлым стариком».
Ну и прочие друзья и сообщники Беннигсена были не лучше…
Впрочем, Беннигсен занимал средь них особое место. Его цинизм поразителен. Достаточно даже вскользь взглянуть на его поведение в трагические для России часы исхода дня 11 марта 1801 года.
Гвардейский полковник Николай Александрович Саблуков так описал
События той ночи:
«Взломав дверь в опочивальню, заговорщики бросились в комнату, но Императора в ней не оказалось. Начались поиски, но безуспешно, несмотря на то, что дверь, ведшая в опочивальню Императрицы, тоже была заперта изнутри. Поиски продолжались несколько минут, когда вошёл генерал Беннигсен, высокого роста, флегматичный человек. Он подошёл к камину, прислонился к нему и в это время увидел Императора, спрятавшегося за экраном. Указав на него пальцем, Беннигсен сказал: «Он здесь», после чего Павла Петровича тотчас вытащили из его прикрытия.
Платон Зубов, действовавший в качестве оратора и главного руководителя заговора, обратился к Императору с речью. Отличавшийся, обыкновенно, большой нервозностью, Павел на этот раз, однако, не казался особенно взволнованным и, сохраняя полное достоинство, спросил, что им всем нужно? Платон Зубов отвечал, что деспотизм его сделался настолько тяжёлым для нации, что они пришли требовать его отречения от престола. Император… вступил с Зубовым в спор, который длился около получаса и который, в конце концов, принял бурный характер».
В момент спора между Императором и сановными злодеями в коридорах послышался шум. Решив, что это идёт подмога Павлу, заговорщики разбежались, кто куда. У Павла Петровича появился шанс спастись, но его снова подвело доверие к людям, которое в данном случае обратилось в доверчивость к нелюдям. Император остался один на один с наиболее циничным из убийц, бароном Беннигсеном. Известно, что Император был не робкого десятка, прекрасно владел шпагой, и Беннигсен не представлял для него никакой опасности. Этот омерзительный инородец отличался от русских генералов, ходивших в бой во главе своих войск тем, что личного участия в схватках избегал.
Беннигсен, понимая, что Павел Петрович может немедленно уйти и поднять тревогу, но, не решаясь противодействовать этому силой, вкрадчиво заговорил:
– Ваше Величество, оставайтесь на месте, иначе ни за что нельзя поручиться при этой пьяной толпе. Гарантией Вашей безопасности будет моя шпага.
Более циничного и лживого заявления из уст убийцы, удерживающего в капкане жертву и знавшего, что часы, даже минуты этой жертвы сочтены, представить трудно. А через несколько минут выяснилось, что шум создала отставшая группа заговорщиков. Убийцы воротились в спальню ещё более распаленные от сознания своего ничтожества и трусости, ну, и, конечно, осмелевшие оттого, что паника оказалась ложной. Для опасений же основания, безусловно, были, поскольку заговорщикам не удалось найти изменников среди нижних чинов, и некоторые караулы в других частях замка не подозревали о происходящем.
Фонвизин писал: «Услыша, что в замке происходит что-то необыкновенное, старые гренадеры, подозревая, что Царю угрожает опасность, громко выражали свои подозрения и волновались. Одна минута – и Павел мог быть спасён ими. Но поручик Марин, не потеряв присутствия духа, громко скомандовал: «Смирно!». От ночи и во всё время, как заговорщики расправлялись с Павлом, продержал своих гренадер под ружьём недвижными, и ни один не смел пошевелиться…».
А между тем в опочивальне Павла назревала развязка. Те из заговорщиков, что были сильно пьяны, стали оскорблять Императора. Павел Петрович, чтобы перекричать их, стал говорить громче и сильно жестикулировать.
Н.А. Саблуков далее рассказал:
«В это время шталмейстер Николай Зубов, человек громадного роста и необыкновенной силы, будучи совершенно пьян, ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так кричишь!». При этом оскорблении Император с негодованием оттолкнул левую руку Зубова, на что последний, сжимая в руке массивную золотую табакерку (которую, как говорят некоторые источники, взял, чтобы умыкнуть – ред.), со всего размаха нанёс правою рукою удар в левый висок Императора, вследствие чего тот без чувств повалился на пол. В ту же минуту француз-камердинер Зубова вскочил с ногами на живот Императора…»
Его примеру последовали князь Яшвиль, Татаринов, Гордонов, Скарятин и другие. Они рубили саблями, кололи шпагами.
«Началась отчаянная борьба, – писал Фонвизин. – Павел был крепок и силён: его повалили на пол, топтали ногами, шпажным эфесом проломили голову».
Но Государь всё ещё дышал. И тогда на арене вновь появился бесчеловечный барон Беннигсен, наблюдавший со стороны за этой оргией. Он с убийственным хладнокровием подошёл к злодеям и протянул свой офицерский шарф, который подхватил Скарятин. Скарятин тут же задушил Императора.
Беннигсен же вышел, как указал Фонвизин, в «предспальную комнату, на стенах которой развешаны были картины, и со свечкою в руках преспокойно разглядывал их… Удивительное хладнокровие!.. Зверская жестокость!».
Именно с той поры, со дня зверского убийства, в котором Беннигсен был одним из самых жестокосердных и циничных участников, получил он прозвище «остзейского чудовища».
Николай Александрович Саблуков подвёл такой итог кровавой драме:
«Называли имена некоторых лиц, которые выказали при этом случае много жестокости, даже зверства, желая выместить зло и ненависть на безжизненном теле, так что докторам и гримёрам было нелегко привести тело в такой вид, чтобы можно было выставить его для поклонения, согласно существующим обычаям. Я видел покойного Императора, лежащего в гробу. На лице его, несмотря на старательную гримировку, видны были чёрные и синие пятна. Его треугольная шляпа была так надвинута на голову, чтобы, по возможности, скрыть левый глаз и висок, который был зашиблен. Так умер 12 марта 1801 года один из Государей, о котором история говорит как о монархе, преисполненном многих добродетелей, отличавшемся неутомимой деятельностью, любившем порядок и справедливость, и искренно набожном. В день своей коронации он опубликовал акт, устанавливающий порядок престолонаследия в России. Земледелие, промышленность, торговля, искусства и науки имели в нём надёжного покровителя. Для насаждения образования и воспитания он основал в Дерпте университет, в Петербурге училище для военных сирот (Павловский корпус). Для женщин – институт ордена св. Екатерины и учреждения ведомства Императрицы Марии».
Свои записки Саблуков заключил следующими словами:
«Нельзя без отвращения упоминать об убийцах, отличавшихся своим зверством во время этой катастрофы. Я могу только присовокупить, что большинство из них я знал до самого момента кончины, которая у многих представляла ужасную нравственную агонию в связи с самыми жестокими телесными муками».
О том же писал и Адам Чарторыйский, сообщая, что заговорщики «частью сами удалились со сцены, частью же были сосланы на Кавказ при содействии весьма многочисленных их соучастников, сохранивших своё место и положение. Все они умерли несчастными, начиная с Николая Зубова, который, вскоре после вступления на престол Александра, умер вдали от двора, не смея появляться в столице, терзаемый болезнью и неудовлетворенным честолюбием. Кара Провидения поразила каждого злодея, причём по делам их и воздано было каждому».
Я уже упомянул, что Беннигсен обогатился в кампанию 1807 года, что как-то осталось не особенно замечено Императором. Доклады он пропускал мимо ушей.
А вот, когда по возвращении в Россию из заграничного похода Беннигсен получил назначение главнокомандующим 2-й армией со штаб-квартирой в Тульчине, вредительства его и баснословные хищения уже скрыть было нельзя. Алексей Андреевич Аракчеев настоял на том, чтобы для расследования был направлен генерал от инфантерии, флигель-адъютант Императора Павел Дмитриевич Киселёв. Киселёв был поражён тем, насколько упала воинская дисциплина в войсках, ещё недавно славившихся высокой боеготовностью. А крупные хищения в интендантской службе стали, как он докладывал, правилом. Причём Беннигсен не только не попустительствовал им, но и также как в 1807 году, имел свою солидную долю.
Деваться было некуда. В 1818 году Император вынужден был «согласиться на увольнение» Беннигсена. Тот, понимая, что события могут повернуться всяко, поскольку уже находился под неусыпным оком кристально честного в вопросах государственной собственности Аракчеева, срочно выехал в Ганновер.
Он так и не стал подданным России, и совершенно незаслуженно пользовался расположением Императора. Вспомним замечание Николая Александровича Саблукова об участи членов банды убийц Императора Павла Петровича. Беннигсен не избежал участи своих сообщников. Он ослеп, а по некоторым данным, сошёл с ума. Первые признаки помешательства появились ещё во время службы. Однажды он вышел перед строем в одном нижнем белье. Его быстро убрали со строевого плаца, причём пришлось применять силу. Потом он отошёл от приступа, и некоторое время продолжал набивать себе карманы с помощью интендантов.
Думаю, совсем не трудно понять его четвёртую супругу, вряд ли заметившую в «остзейском чудовище» хоть какие-то мужские достоинства. Кстати, Беннигсен и Кутузов были ровесниками, но насколько же выше по всем качествам, в том числе и по обаянию, ну и конечно, по кристальной честности, был Михаил Илларионович.
Да и внешне Кутузов гораздо привлекательнее – будучи красив в молодости, он сохранил необыкновенное обаяние и тогда, когда перевалило за шестьдесят. И это несмотря на два тяжелейших ранений, смертельных ранений в голову, о которых уже говорилось в предыдущих главах, и ещё одного, в щеку, при Аустерлице.
Беннигсен же был, как его описали современники, высоким, сухощавым, с длинным и безобразным орлиным носом, с холодной физиономией и недобрым выражением на ней.
Кутузов, как уже говорилось, являлся полной противоположностью. Отважный в бою – заметим, что он отличался личной отвагой, не раз продемонстрированной под Алуштой, и под Очаковом, и при штурме Измаила, и в Аустерлицком сражении – Михаил Илларионович был крайне заботлив о людях, не бросал подчинённых в бой понапрасну и не стремился в угоду начальству, совершать действия вредные.
Так вот, отважный, мудрый, распорядительный на театрах военных действий, он оказался весьма неудачлив на «театрах» схваток за материальные блага.
Публицист Олег Слепынин пишет:
«Сразу скажем, что в хозяйственных вопросах Кутузову не везло. Его частенько обворовывали; один из управляющих попросту утянул у него из шкатулки 10 тысяч, на которые Кутузов очень рассчитывал, и улизнул в соседнюю Польшу».
Ну, прямо копия отца цареубийц Н.А. Зубова, «бесчестнейшего дворянина во всём государстве».
С управляющими и доходами от имений Кутузову не везло. Олег Слепынин указывает:
«Случались и пожары. Так у него сгорел Райгородок (у некоторых жителей не осталось и рубашки), который пришлось отстраивать».
Пожары ведь тоже не случайны. Пожары управляющие, подобные бесчестнейшему Зубову, и для сокрытия воровства использовали.
Кутузов писал супруге по поводу очередного управляющего:
«Новым экономом я поныне очень доволен; он профессор; но дай Бог, чтобы у него было, хотя на половину честности, противу его ума».
Тоже, надо полагать, зубово-беннигсеновщина.
Ну и возвращаясь к тому, что изложено в начале главы, надо сказать, что у Кутузова к превращённому им в рогоносцы «остзейскому чудовищу» Беннигсену никакого уважения не было и быть не могло. Он доподлинно знал о «странных» манёврах барона в ходе кампании 1807 года, а особенно о преступном оставлении им армии в критический момент сражения при Прейсиш-Эйлау, фактическом бегстве, подтвержденном документами и неопровержимыми свидетельствами генералов. Ведь генералы, командовавшие корпусами, оказались в затруднительном положении в результате того, что главнокомандующий прятался неизвестно где на протяжении более чем четырёх часов и возвратился только после того, как положение было восстановлено.
Кутузов торжествовал над «остзейским чудовищем», не обладавшим общепринятыми в России мужскими достоинствами, в той области, в которой даже Император не мог помешать этому торжеству. Сердце жены Беннигсена, наверняка сильно уставшее от этого самого мало приятного «остзейского чудовища», не могло не раскрыться для сильного увлечения, даже любви к человеку высочайших достоинств, подлинному герою, не кланявшемуся ядрам и пулям врагов, имевшему три боевых ранения, в отличие от чудовища, у которого «по скромности в боях» ранений не было. Впрочем, Провидение, как уже сказано выше, в своё время позаботилось о воздаянии за лицемерие и подлость пот отношению к гостеприимно принявшей его России.
Суворов: "...брак… совершился благополучно…»
"Соизволением Божьим брак… совершился благополучно…»
Всем известны слова Александра Васильевича Суворова: «Я был ранен десять раз: пять раз на войне, пять раз при дворе. Все последние раны – смертельные».
Раны на войне легко найти в биографии полководца. К примеру, в одном только Кинбурнском сражении 1 октября 1787 года Суворов был ранен дважды. Получил ранние и спустя год во время осады Очакова, когда отражал вылазку турок из крепости…
А вот что касается ран при дворе, тут чего только не навыдумывали авторы различных книг и статей. Сам Суворов дал волю их воображению, не назвав эти раны конкретно.
Попробуем разобраться в этой головоломке...
Да, представьте, эти раны получены из-за женщин, благодаря им или, точнее, при их участии. И получены эти раны, основные и наиболее жестокие, прежде чего, по прямой вине супруги Варвары Ивановны и некоторые из-за дочери Суворова Наташи, но не по её вине.
Что касается дочери, то из множества повествований о Суворове хорошо, как трепетно любил полководец свою Суворочку-Наташу, что и использовали со всем своим коварным изуверством враги Суворова, которые, прежде всего, были врагами России, врагами Светлейшего князя Потёмкина, и Императрицы Екатерины Второй.
О ранах, нанесённых ими Суворову, мы и поговорим.
Множество жестоких ран нанесла Александру Васильевичу и супруга его Варвара Ивановна. Многие раны, ею нанесённые, можно вполне отнести к ранам при дворе, причём ранам, воспринимаемым человеком с честной, открытой к людям душой, горячим, преданным Отечеству сердцем, человеком долга и чести, именно как смертельные.
Ну а теперь к теме…
О личной жизни Александра Васильевича Суворова, о его любовных увлечениях в юности сведений не сохранилось. Впервые упоминается его имя в связи с женщиной в письмеот 23 декабря 1773 года, адресованном главнокомандующему Первой армией Петру Александровичу Румянцеву.
«Сиятельнейший Граф
Милостивый Государь!
Вчера я имел неожидаемое мною благополучие быть обручённым с Княжною Варварою Ивановною Прозоровской по воле Вышнего Бога!
Ежели долее данного мне термина ныне замешкаться я должен буду, нижайше прошу Вашего Высокографского Сиятельства мне-то простить: сие будет сопряжено весьма с немедленностью. Препоручаю себя в покровительство Вашего Высокографского Сиятельства и остаюсь с глубоким почтением….»
Просьба эта, как видим, о продлении отпуска в связи с бракосочетанием…
Суворов считал Румянцева своим учителем. Со времён Кольбергской операции Семилетней войны он относился к нему с особым уважением и потому просился в Первую армию, которой командовал Пётр Александрович.
4 апреля 1773 года Суворов был направлен в распоряжение Румянцева.
К тому времени он уже был достаточно известен своими победами, поскольку, подобно Румянцеву, не спрашивал, каков по силе неприятель, а стремился разбить его и уничтожить. «Надо бить уменьем, а не числом», – говорил он и действовал согласно этому принципу.
Подчинённых учил: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого, дерись зло, дерись до смерти; побеждает тот, кто меньше себя жалеет».
6 мая 1773 года Суворов прибыл в местечко Негоешти, что на Дунае, а уже 10 мая совершил первый поиск за Дунай, где овладел турецкими укреплениями и городком Туртукай. 17 июня он совершил второй блестящий поиск на Туртукай, и 30 июля был награждён орденом св. Георгия 2-й степени.Затем было успешное дело под Гирсовом, куда в августе месяце Суворов Румянцев направил Суворова для обороны Гирсовского моста на правом берегу Дуная.
3 сентября турки крупными силами атаковали отряд Александра Васильевича. Отбив атаки, Суворов решительным контрударом разгромил превосходящего противника.
Об этой победе Пётр Александрович Румянцев в письме к Григорию Александровичу Потёмкину, датированном 4 сентября 1773 года, сообщал:
"…Вашему Превосходительству сим извещаю, что сей день торжествует армия Её Императорского Величества одержанную 3-го числа настоящего течения совершенным образом победу на той стороне Дуная г. генерал-майором и кавалером Суворовым над неприятелем, в семи тысячах приходившим атаковать пост наш Гирсовский, где речённый генерал с своими войсками, встретя оного, разбил и преследовал великим поражением и сколько еще из краткого и первого его рапорта знаю, то взято довольно и пленных, и артиллерии, и обозов. Ваше Превосходительство имеете о сём благополучном происшествии принести в вашей части торжественные молитвы Богу с пушечною пальбою».
В Журнале военных действий 1-й армии о потерях сообщается следующее:
«В сие сражение побитых с неприятельской стороны около редутов и ретраншаментов 301 человек на месте оставлено, да в погоне побито пехотою более тысячи, гусарами порублено 800, кроме тех, коих по сторонам и в бурьянах перечесть не можно.
В добычь получено пушек 6 и одна мортира с их снарядами и одним ящиком, премного обоза, шанцового инструмента и провиант.
В плен взято до двухсот человек, но из них большая часть от ран тяжелых умерли, а 50 живых приведены.
С нашей же стороны убиты: Венгерского гусарского полку капитан Крестьян Гартунг, вахмистр 1, капрал 1, гусар 6, мушкатер 1…»
Соотношение потерь, как видим, совершенно в Суворовском духе. Турки потеряли убитыми по меньшей мере более 2100 человек. Русские, как видно из документа, 10 человек. Во всех реляциях раскрывалось подробно, кто погиб, а офицеры, как правило, перечислялись пофамильно, что ясно доказывает точность сведений о своих потерях.
Потери же врага полностью указывать было невозможно, потому что «по сторонам и в бурьянах» оставалось немало неучтённых убитых.
Умение беречь людей, умение побеждать малой кровью отличало полководцев и флотоводцев «из стаи славной Екатерининских орлов».
А Суворов, думается, по значению своему был из первых, а, может быть, и самым первым… Я написал об этом в стихотворении, ставшем песней, которую охотно исполняли суворовцы моего родного Калининского (ныне Тверского) СВУ, когда в его стенах учился мой сын, избравший мою армейскую дорогу в жизни.
Кто же он?.. Я попытался ответить на этот вопрос несколькими поэтическими строчками:
Он первым был «из стаи славной
Екатерининских орлов»,
Он шёл дорогой Православной,
Разя Отечества врагов.
И наша Русская Держава
Смотрела гордо на Него,
И трепетно Орёл Двуглавый
Крылами осенял Его!
Так кто же он?
Кто в час суровый
В сраженьях отдыха не знал?
То Чудо-Вождь,
То наш СУВОРОВ!
Он Русскою Святыней стал!..
Русская святыня! Символ непобедимости и славы Русского Оружия!
Вспомним непревзойдённые, пламенные строки замечательного русского поэта и государственника Гавриила Романовича Державина, посвященные Александру Васильевичу Суворову:
И славы гром,
Как шум морей,
как гул воздушных споров,
Из дола в дол, с холма на холм,
Из дебри в дебрь,
от рода в род
Прокатится, пройдёт,
Промчится, прозвучит,
И в вечность возвестит,
Кто был Суворов...
Залогом бескровных для своих войск побед были – любовь к солдату, чуткое и бережное отношение к нему, в основе – суворовские глазомер, быстрота, натиск.
В ноябре 1773 года после окончания кампании Суворов получил отпуск и отправился в Москву.
Там-то и состоялось сватовство. Подробности до нас не дошли, но в письме от 30 января 1774 года, адресованном Александру Михайловичу Голицыну следующее:
«…Изволением Божиим брак мой совершился благополучно. Имею честь при сём случае паки себя препоручить в высокую милость Вашего Сиятельства…»
Вячеслав Сергеевич Лопатин сопровождает письмо Румянцеву таким комментарием:
«Прозоровская Варвара Ивановна (1750-1806), княжна – по отцу и по матери принадлежала к цвету старой русской аристократии.
На сестре её матери – княжне Екатерине Михайловне Голицыной – был женат Румянцев. (То есть жена Суворова приходилась родной племянницей жене Румянцева)
Невесту Суворову подыскал отец.
По мнению биографа Алексеева, Прозоровские приняли предложение Суворовых не в последнюю очередь, потому, что отец невесты, отставной генерал-аншеф князь Иван Андреевич, прожил своё состояние.
Засидевшейся в девках Варваре Ивановне приданое, очевидно, дали состоятельные родственники Голицыны. Для обедневших Прозоровских Суворов был богатым женихом, а его победы уже доставили ему довольно громкую известность».
Суворову недавно исполнилось сорок четыре года, его невесте – двадцать два.
Едва обвенчавшись, Суворов снова умчался в Первую армию. Впереди – летняя кампания 1774 года.
17 марта подписан указ о производстве Александра Васильевича в чин генерал-поручика.
Письма Суворова к супруге не сохранились. Но он нередко упоминал о Варваре Ивановне в письмах к своим друзьям и знакомым. Причём, упоминал как о любимой супруге.
В апреле-месяце Александр Васильевич был уже в Слободзее. Оттуда 7 апреля он отправил письмо Андрею Ивановичу Набокову, советнику Государственной коллегии иностранных дел, в котором сообщал:
«Милостивый Государь мой, почтенный друг Андрей Иванович!
Милость Императорская воздвигла меня на способнейшую дорогу к управлению Её высокой службы.
Собственность моя в будущих случаях покойнее быть может.
Варвара Ивановна почувствует лучшую утеху, и Вы, мой друг, тому сорадуйтесь. Слава Всевышнему Богу! Да дарует он России мир и любезное спокойствие…»
В мае Генерал-фельдмаршал Румянцев отправил Суворова во главе корпуса в глубокий поиск на правобережье Дуная.
10 июля произошло «достопамятное сражение при Козлуджи».
Суворовскую победу при Козлуджи военные истории ставят в один ряд с победами П.А. Румянцева при Ларге и Кагуле и победой А.Г. Орлова в Чесменском морском бою.
Суворов, имея всего 8 тысяч человек, атаковал 40-тысячную турецкую армию и наголову разбил её, взяв 107 вражеских знамен.
Поражение при Козлуджи нанесло не только военный, но и моральный удар по командованию турецкой армии и по самой Порте. Порта (название турецкого правительства) боялась после этого даже думать о продолжении войны и запросила мира. Именно Суворов поставил точку в «Первой турецкой войне в царствование Императрицы Екатерины II». Так именовали военные историки России русско-турецкую войну 1768-1774 годов.
3 августа 1774 года Суворов был отозван из Первой армии и назначен командующим 6-й Московской дивизией. В Москве, где ему довелось пробыть совсем недолго… Уже 19 августа он был направлен в распоряжение генерал-аншефа П.И. Панина для действий против Пугачёва.
Говорить о том, что для ликвидации пугачёвщины понадобился гений Суворова, явное преувеличение. Суворов прибыл на место действий, когда бунтующие орды Пугачёва уже были разбиты. Всевышний уберег Суворова от участия в подавлении внутренней смуты, главным образом от избиения мятежников, среди коих было много просто обманутых. Направление же Суворова «состоять в команде генерал-аншефа П.И. Панина до утушения бунта» говорит о том, что последние месяцы пугачёвщины не на шутку встревожили Государыню.
Летом 1774 года бунт стал особенно опасен. Мятежные банды напали на Казань. Войск там не оказалось, и город защищали гимназисты. Пугачёвские варвары из 2867 домов, бывших в Казани, сожгли 2057, в том числе три монастыря и 25 церквей, что явно указывает на руководящую и направляющую руку запада в организации бунта. Но тут многочисленную банду Пугачева атаковал во главе небольшого отряда всего в 800 сабель подполковник Санкт-Петербургского карабинерного полка Иван Иванович Михельсон. В Истории Русской Армии А.А. Керсновского указано, что «в бою 13 июля с Михельсоном мятежников побито без счета. 15 июля убито еще 2000, да 5000 взято в плен. Урон Михельсона всего 100 человек».
Однако Пугачёву снова удалось собрать бесчисленное войско из «крепостного населения Поволжья».
А.А. Кереневский указал: «Опустошительным смерчем прошёл «Пугач» от Цивильска на Симбирск, из Симбирска на Пензу, а оттуда на Саратов. В охваченных восстанием областях истреблялось дворянство, помещики, офицеры, служилые люди…
Июль и август 1774 года, два последних месяца пугачевщины, были в то время самыми критическими. Спешно укреплялась Москва. Императрица Екатерина намеревалась лично стать во главе войск.
Овладев Саратовом, Пугачёв двинулся на Царицын, но здесь 24 августа настигнут Михельсоном и все скопище его уничтожено (взято 6000 пленных и все 24 пушки). Самозванец бежал за Волгу, в яицкие степи, но за ним погнался и его взял только что прибывший на Волгу с Дуная Суворов. Смуте наступил конец».
Главный виновник разгрома Пугачева Иван Иванович Михельсон был участником Семилетней и русско-турецкой войн. Суворов знал его по совместным боевым делам против польских конфедератов. Оценивая вклад Михельсона в разгром мятежников, Суворов отметил:
«Большая часть наших начальников отдыхала на красноплетенных реляциях, и ежели бы все били, как гг. Михельсон.., разнеслось бы давно всё, как метеор».
Прибыв на Волгу, Суворов принял под своё командование отряд Михельсона, но, как уже мы отмечали, не ему было суждено поставить последнюю точку в мятеже, а командовавшему авангардом полковнику Войска Донского Алексею Ивановичу Иловайскому, который получил приказ: «истребить злодея: ежели можно, доставить живого, буде же не удастся – убить».
Известный историк Дона М. Сенюткин писал: «Важен, но вместе с тем труден был подвиг Иловайского. Пред глазами его расстилалась песчаная степь, где нет ни леса, ни воды, где кочуют только разбойничьи шайки киргизов и где днём должно направлять путь свой по солнцу, а ночью по звёздам. Разобщённый с другими отрядами, следуя по пятам за Пугачёвым, имевшим у себя 300 мятежников, которым отчаяние могло придать новые силы, окружённый со всех сторон киргизами, стоявшими за Пугачёва, сколько раз Иловайский на пути своём подвергался опасности быть разбитым…»
5 сентября 1774 года Алексей Иванович настиг близ Саратова два отряда мятежников и разбил их, пленив 22 человека. После этого началась повальная сдача мятежников в плен. А вскоре Пугачева арестовали сами его сподвижники, чтобы, выдав его, получить снисхождение для себя.
Пугачёва доставили к Суворову, и тот более четырёх часов разговаривал с ним наедине. О чём? Это так и осталось неизвестно. Во всяком случае, явно не о тактике действий. Какой интерес беседовать на эту тему военному гению, полководческий дар которого освещен Всемогущим Богом, с неучем и бездарем-безбожником, умевшим только играть на самых низменных и «многомятежных человеческих хотениях». О чём могли говорить Избранник Божий Суворов и слуга тёмных «невежественной по отношению к России Европы» Пугачёв? Ответ обозначился, когда стало известно, что Пугачёв, попав в плен во время Семилетней войны, стал членом масонской ложи. Можно предположить, что Суворов заставил Пугачёва открыть ему тайные пружины мятежа.
Некоторые причины пугачёвского восстания к тому времени были уже известны. Это лишь по марксистской (поистине мраксистской) теории восстание преследовало целью освобождение народа от царского гнёта.
Официально было известно, и об этом можно прочитать в книге «Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII столетия», что
«Пугачёв был донской казак; в 1770 году он находился при взятии Бендер. Через год по болезни отпущен на Дон; там за покражу лошади и за то, что подговаривал некоторых казаков бежать на Кубань, положено было его отдать в руки правительства. Два раза бежал он с Дона и, наконец, ушел в Польшу…»
С 1774 по 1775 год Суворов проходил службу в Поволжье. Главная задача – восстановление разрушенных Пугачёвым крепостей, которые являлись по существу пограничными заставами. Это был один из редких периодов в жизни полководца, когда он мог жить в семье. И семейные отношения в ту пору были, судя по письмам Суворова различным адресатам, вполне нормальными.
Когда же родился Суворов?
Летом 1775 года Суворова ожидали два события: одно – траурное и горькое, второе – радостное.
5 июля 1775 года ушёл из жизни отец полководца генерал-аншеф Василий Иванович Суворов. Он не дожил всего полмесяца до радостного события в жизни сына. 1 августа родилась дочь, которую назвали Наташей.
Суворову шёл сорок пятый год. Впрочем, если посмотреть правде в лицо – сорок шестой. Уже в наше время, в 1979 году, в дни празднования 250 -летия со дня рождения полководца, в высших эшелонах власти, чуть ли не в политбюро ЦК КПСС, день рождения был сдвинут на год – перенесён на 1730 год.
Я, с позволения читателей, коснусь этого обстоятельства, поскольку оказался причастным к нему, будучи сотрудником журнала «Советское военное обозрение». Впрочем, обо всём по порядку.
Если вы откроете соответствующий том Большой Советской Энциклопедии, то увидите прежнюю дату рождения Суворова – 11 (24).11. 1729 года.
Но если возьмёте Советскую военную энциклопедию, то удивитесь – там уже значится – 11 (24). 11. 1730 года, хотя по времени разница между выходом свет этих томов невелика.
Седьмой том находился в работе как раз в 1979 году. Он был сдан в набор 12.02.79 г. В то время книги находились в работе очень долго. Высокая печать… Один набор сколько занимал времени! В печать подписан том 7.09.79 г. И снова долгая работа по исправлениям, помеченным в вёрстке. Правку успели внести в самый последний момент.
Но что же произошло? Почему понадобилась правка?
Подготовка к столь славной дате шла своим чередом. В редакции журнала знали, разумеется, что я – выпускник Калининского суворовского военного училища. Ну а для суворовцев Суворов – это Знамя, это символ чести, доблести и отваги. Словом, написать очерк в одиннадцатый, ноябрьский, номер журнала было поручено мне.
Очерк я назвал «Гордость России». Он прошёл редколлегию, был подготовлен в номер, ну а номер, как ему это и положено, проходил все этапы пути. Журнал «Советское военное обозрение» был особым журналом. Он издавался на шести языках – русском, английском, французском, испанском, португальском и арабском. Распространялся более чем в ста странах мира. Это своеобразное печатное представительство Советской Армии за рубежом.
В связи с тем, что была необходима работа по переводу на все вышеуказанные языки, номера готовились заблаговременно. Вот и ноябрьский номер мы сдали «иностранцам», как называли меж собой переводные редакции, ещё летом, да и забыли про него.
И ещё один момент. Журнал должен был проделать немалые расстояния, чтобы попасть к читателям, а потому каждый номер выходил в конце предыдущего месяца. То есть одиннадцатый норме журнала мы получили в конце октября.
Посмотрел я материал. Приятно… Военным журналистом я был тогда начинающим, но в армии не новичком – за плечами суворовское военное и высшее общевойсковое командное училища, служба в различных частях и соединениях, командование взводом, ротой, батальоном…
Помню, дня не было, чтоб по радио или телевидению не говорили о предстоящем юбилее. В печати материалов пока не было – но почти в каждом печатном издании готовили соответствующие материалы.
И вдруг, буквально за неделю до юбилея радиостанции как в рот воды набрали. Ни слова о Суворове. Я удивился, но не сразу придал значения. Хотя прислушивался к передачам. В один из тех предъюбилейных дней пригласил меня к себе в кабинет главный редактор журнала генерал-майор Валентин Дмитриевич Кучин.
Покачал головой и говорит. Так, с наигранной строгостью, но не более:
– Ну что, напортачили мы с вами, напортачили. Я только что из Центрального Комитета партии. Стружку снимали.
– За что?
– За то, что юбилей Суворова на год раньше отметили.
Увидев на лице моём удивление, более мягко уже сказал:
– Оказывается принято решение считать, что Суворов родился в 1730 году, то есть двести пятьдесят лет со дня его рождения исполнится через год.
– Да как же…
Он остановил меня жестом и пояснил, что его не очень сильно ругали, поскольку к моменту принятия решения был уже отпечатан тираж журнала. То же, кстати, случилось и с журналом «Пограничник», поскольку там тоже вынуждены были выпускать журнал ещё до начала указанного на обложке месяца – пока-то довезут до самых дальних застав.
– Вопрос этот в редакции поднимать не будем. Объяснение дано не для широкого разглашения. В Центральном Комитете идут разговоры о постепенной реабилитации Сталина. Вон и фильмы уже пошли, где его показывают не так, как ещё недавно.
– Причём же здесь Сталин?
– А при том, что в этом году сталкиваются два юбилей, причём с разницей в месяц и несколько дней. У Суворова со дня рождения двести пятьдесят лет, а у Сталина ровно сто! Так же широко, как юбилей Суворова, юбилей Сталина отмечать, пока сочли.., – он поднял указательный палец к потолку, – там сочли, что рановато. Ну и принижать празднование юбилея Суворова тоже не хотелось бы. Вот и бросили клич историкам – те сразу зацепились за какие-то документы и быстро «нашли», что Суворов родился на год позже, чем считалось до сих пор.
Осталось только представить себе, каково другим изданиям периодической печати. Ну, так сяк ещё газетам – там материалы хоть и подготовлены, но до их постановки в номер далеко. А вот журналам сложнее. Видимо, решение в ЦК приняли где-то уже после 7 ноября. Многим редакционным коллективам пришлось задерживать выход и перекраивать номера. Нас бы и «погранцов» тоже бы заставили сделать это, да журналы ещё до принятия решения были отправлены читателям.
И подумалось мне – вот если б Суворов узнал о такой катавасии, наверное, бы записал и ещё одну моральную рану – может, и не смертельную, а всё же неприятную. Впрочем, не самая она и неприятная. Величайший полководец, великий праведник – даже он подвергался множеству клеветнических нападок.
«Спасите честь вернейшего раба Нашей Матери»
Но всё же главные раны, конечно, пришли от жены…
Начнём издалека… Причём, придётся вернуться в 1771 год, когда Суворов ещё воевал в Польше, куда он был направлен в мае 1769 года во главе бригады, состоящей из трёх пехотных полков против Барской конфедерации.Война с конфедератами более напоминала партизанскую. Суворов, учтя все особенности войны, создал базу в Люблинском районе и начал действовать дерзко и стремительно против обнаруживаемых разведкой группировок врага. Он одержал блестящие победы под Ореховым 2(13) сентября 1769 года, при Ландскроне 12(23) мая 1771 года, при Замостье 22 мая (2 июня) 1771 года, под Столовичами 12 (23) сентября 1771 года. Он разгромил войска гетмана Огиньского и французского генерала Дюмурье. 15(26) апреля 1772 г. взял последнюю опорную базу Барской конфедерации – Краковский замок. В результате этих побед в состав России были возвращены захваченные поляками земли Белоруссии и некоторой части Прибалтики.
15 (26) мая 1769 года Суворов стал командиром бригады, а 1 (12) января 1770 года был произведен в генерал-майоры.
Но нас более других интересует штурм Ландскронской цитадели.
В этом штурме участвовал племянник Суворова Николай Суворов, сын его двоюродного брата Сергея Суворова.
Во время штурма племянник получил ранение в руку. Видно, это очень пришлось не по душе, вот и стал упрашивать своего дядю помочь после излечения от раны перевестись в столицу.
Через некоторое время такая возможность появилась. 19 июля 1777 года Суворов написал письмо Потёмкину с просьбой позаботиться о его племяннике, и тот был зачислен секунд-майором в Санкт-Петербургский драгунский полк…
Служба в столице – это не то, что тяжёлая армейская в захолустье. Да и служба без войн. После Семилетней войны гвардия в боях не участвовала. Николаю Суворову никак не хотелось снова идти под пули. Так что окунулся он в безграничный мир развлечений столичной жизни. Остановился же поначалу в доме Александра Васильевича.
А Суворов в это время служил в Крыму, где решал важнейшие государственные задачи, содействовал утверждению на престоле хана Шагин-Гирея. Шагин-Гирей тяготел к России, старался отдалиться от Турции, которая хоть и потеряла власть над Крымом, мириться с этим не желала. Официально войны не было, но войска находились в полной боевой готовности. По ходатайству Потёмкина Суворов получил назначение командующим Кубанским корпусом.
В Крым жену, да ещё и с дочкой маленькой было не взять. Опасно. Так что пришлось ей быть гостеприимной хозяйкой. Пришлось принять гостя-племянничка. А племянничек-то с гнильцой оказался. Жена у дядюшки-благодетеля молодая, красивая. Для храброго вояки, в гвардию сбежавшего, подальше от боёв и походов, весьма привлекательная.
Кругом предостаточно девиц. К чему же на подлость идти? Но для человека, которому и служба в глубинке не в радость, и участие в боях пугает, всё хорошо, что может доставить удовольствие при минимальных затратах. А тут вышло так, что и все удовольствия под боком, и забот меньше, да и расходов никаких нет. Как уж там получилось, осталось тайной, да и не наше это дело, а вот сам факт подлости без внимания оставлять нельзя.
Вон ведь как пасквилянты дело-то повернули – все раны при дворе «смертельные» на Императрицу и Потёмкина записали. Ну, мы ещё коснёмся далее того, как Государыня и Светлейший князь «ранили» Александра Васильевича Суворова. Ранили не они – ранил высший свет, к которому он, увы, и племянника своим ходатайством приблизил.
Первая рана была нанесена племянником. Именно рана, потому что «при дворе» отнеслись к ней довольно равнодушно.
Суворов честно служил Отечеству, себя не жалел. Немало и ему пришлось походов совершить и схваток с врагами выдержать, чтобы обеспечить присоединение Крыма к России.
И вот в разгар его настоящей, мужской, мужественной боевой работы поразило Александра Васильевича как гром среди ясного неба известие о супружеской неверности жены.
Как реагировал Суворов, остаётся только догадываться. Человек прямой, искренний, предельно честный, человек, словно из иного мира спустившийся на грешную землю, он даже представить себе не мог, что такое бывает в жизни.
Об измене он впервые говорит в письме, датированном 12 марта 1780 года и адресованном П.И. Турчанинову.
«Милостивый Государь мой, Пётр Иванович! Сжальтесь над бедною Варварою Ивановною, которая мне дороже жизни моей, иначе Вас накажет Господь Бог!
Зря на её положение, я слёз не отираю. Обороните её честь.
Сатирик сказал бы, что то могло быть романтичество; но гордость, мать самонадеяния, притворство – покров недостатков, – части её безумного воспитания.
Оставляли её без малейшего просвещения в добродетелях и пороках, и тут же вышесказанное разумела ли она различить от истины?
Нет, есть то истинное насилие, достойное наказания и по воинским артикулам.
Оппонировать: что она «после уже последовала сама…». Примечу: страх открытия, поношение, опасность убийства, – далеко отстоящие от женских слабостей. Накажите сего изверга по примерной строгости духовных и светских законов, отвратите народные соблазны, спасите честь вернейшего раба Нашей Матери, в отечественной службе едва не сорокалетнего, Всемогущий Бог да будет Вам помощник
В[арвара] И[ванов]на упражняется ныне в благочестии, посте и молитвах под руководством её достойного духовного пастыря.
Не оставьте, Милостивый Государь мой, ответ Преосвященного Гавриила к сему на его письмо обратить сюда наипоспешнее, т.е. не позже Светлые Седьмицы: весьма то нужно.
Александр Суворов».
Первая реакция, конечно, была достаточно резкой, но, ведь Суворов любил! Он прямо сказал о том, что жена,«мне дороже жизни моей».
И вот тут-то проявилось необыкновенное женское коварство. Даже не женское, а такое, что и назвать-то сложно. Супруга в ноги бросилась, в любви клялась, каялась и всю вину сумела на племянника перевести.
Он негодяй, тут слов нет. Не всяк таков, как он, негодяй, кто на подобные шаги идёт. Бывает, что лучше б и судить, ди в подробности не вдаваться – всяко в жизни случиться может. Но вдумаемся в данную ситуацию! Кто Суворов! И кто его племянник! Отважный генерал, не жалевший себя в боях и нечто, его же, благодетеля своего, умолившее после ранения в руку спрятать от войн и походов в гвардии, чтобы, красуясь в мундире гвардейском и похваляясь гвардейским чином, одерживать иные победы, чем те, которые одерживал Александр Васильевич, поступавший всегда по однажды и и навсегда выработанному правилу: «Я забывал о себе, когда дело шло о пользе моего Отечества».
А Варвара Ивановна времени не теряла. Чувствуя, что сильны к ней мужние чувства, понимая, что он для неё, а не она для него выгодная партия, осознавая, что развод для неё – почти погибель, во всяком случае, лишение всех светских благ и светских развлечений, она объяснила свой подлый поступок наивностью своею, а особо доверчивостью и коварством соблазнителя. Рассказала, что племянник Суворова шантажировал её, заявляя, что если она не будет к нему благосклонная и не пойдёт с ним на связь известно рода, объявит на весь свет, что связь эта существует, осрамит и опозорит её перед всем, падким на такие вот сенсации обществом.
Потому, мол, и сдалась…
Ну, просто «сама святость». Потому и написал Суворов Турчинову, что она «упражняется ныне в благочестии, посте и молитвах…»
И действительно упражнялась… И Суворов видел, как упражнялась, даже поверил в искренность.
Вячеслав Сергеевич Лопатин нашёл объяснение странному слову «сатирик»: «Суворов оправдывал жену тем, что она вовремя не распознала опасности в ухаживаниях Николая Суворова, а когда поняла ужас своего положения, не открывала ничего из гордости и страха быть опозоренной соблазнителем. Её неумное («безумное») воспитание не позволило отличить прикрытый «романтичеством» порок от добродетели».
Он просил: «Накажите…»… Лопатин полагает, что просил он о наказании соблазнителя не случайно, а «Так как, по уверению Суворова Николай Суворов прибегал к угрозам, то он должен быть примерно наказан, иначе пострадает общественная мораль».
Прояснены в книге «А.В. Суворов. Письма», составленной В.С. Лопатиным, и другие загадки приведённого выше письма:
«О духовном пастыре … Имеется в виду Никита Афанасьевич Бекетов (1729-1794), бывший астраханский губернатор, в имении которого, в Черепахе, Суворов и его жена подолгу жили. Юный Бекетов выдвинулся благодаря фавору у Императрицы Елизаветы Петровны, заметившей красавца-кадета, талантливо исполнявшего женские роли в спектаклях сухопутного шляхетного кадетского корпуса.
В результате придворных интриг Бекетов был разжалован из фаворитов, служил в армии, попал в плен к пруссакам в сражении при Цорндорфе в 1758 году, почти полностью потеряв вверенный ему полк. Десять лет он управлял Астраханской губернией и был сменён за недостаточную решимость во время восстания Пугачёва.
Деятельная натура Бекетова, разводившего сады, виноградники, превратившего Черепаху из болотистой низины в образцовое хозяйство, не могла не вызвать симпатии Суворова, скучавшего в провинциальном захолустье.
«Не оставьте ответ…» Бекетов принимал участие в семейных делах Суворова и писал о них члену Святейшего Синода архиепископу новгородскому и Петербургскому Гавриилу (Петрову), признанному церковному авторитету, писателю, одному из составителей Словаря Российской академии. Гавриил известен критикой «Наказа» Екатерины Второй. По его ходатайству духовенство было освобождено от телесных наказаний. Суворов до конца жизни поддерживал с ним дружеские отношения».
Далее такой комментарий: «Церковное примирение с женой произойдёт через месяц, но искреннее чувство сострадания к прощённой Варварой Ивановной очевидно».
«Злодея проклятого… постарайся … упечь его поскорее».
Поразительно бывает порой лицемерий женское.
10 апреля 1780 года Суворов снова писал правителю канцелярии Потёмкина Петру Ивановичу Турчанинову, которого знал с детства:
«На письмо преосвященного Гавриила соответствую прежним моим к нему духовным прошением, то есть о наказании скверного соблазнителя и вечного поругателя чести моей, неблагодарного ко милостям и гостеприимству… Вы же, Милостивый Государь мой, исполните оное великодушно по строгости светских, обще с духовными законов.
Нещадная Варвара Ивановна низвергла притворства покров и непрестанно молитствует Богу…»
И вот снова Набокову от 3 мая из-под Астрахани.
«…По совершении знатной части происшествия на основании правил Святых Отец, разрешением Архипастырьским обновил я брак, и супруга моя Варвара Ивановна свидетельствует Вам её почтение.
Но скверный клятвопреступник да будет казнён по строгости духовных и светских законов для потомственного примера и страшного образца, как бы я моей душе ему то наказание ни умерял, чему, разве, по знатном времени, полное его раскаяние нечто пособить может….»
В следующем письме 3 мая, по случаю поздравления с пасхой Суворов сообщает Турчанинову «сей изверг в Ваших и Архипастыря руках, решении и воле. Супруга моя Варвара Ивановна вопиет на её воспитание (могущее со временем очиститься полнее) Всемогущему Богу. При прочем, две части оного нечестия и страшные нечестия родили: гордость – исток самонадеяния, притворство – порок преступлениев. О! коли б святый дух Преосвященнейшего Гавриила искоренение сих и в иных местах рассеял, умножил тем здравое деторождение, доказал ненадобность и горренгутского правила.
К письму рукой Варварой Ивановной Суворовой сделана приписка. Поздравляя Турчаниновых в Пасхой она благодарила за «неоставление друга моего Наташеньку», которая жила в семье Турчаниновых. Приписка оканчивалась просьбой: «А что касается до злодея проклятого, то, пожалуй, батюшка Пётр Иванович, постарайся ради Бога, упечь его поскорее».
Как тут не поверить, если сама соблазнённая просила наказать соблазнителя?!
Мы видим, что случившееся очень волновало и огрчало Суворова. В каждом письме – обида и боль.
27 августа 1880 года он писал Турчанинову из-под Астрахани
«Почтенно письмо от 3 сего месяца меня успокоило: вижу я в перспективе покрытие моей невинности белым знаменем.
Насильственный похититель моей чести примет за его нечестие достойное воздаяние – но до того моё положение хуже каторжного вдовца – и многих затруднением, сопряжённых с бедами, избавлюсь, иначе поздно заставить меня верить по-калмыцкому, благотворить планеты – по-индейскому…
Общая наша дочка была вчера именинница. Варюта проплакала. Исправилось было положение её. До сих обеих сжальтесь, не отлагайте…»
Присланный Турчаниновым портрет 5-летней Наташи Суворовой был заказан Императрицей как пожелание семейного примирения. Наташа жила в столице и воспитывалась в Смольном, который окончила в 1791 году.
Интересно, что Наташи нет в списке смолянок. Суворов не захотел давать обязательства в том, что не возьмёт её до окончания института. Наташа жила в Смольном, но считалось, что живет у начальницы Смольного.
Суворов поверил жене, поверил, что племянник добился от неё того, чего хотел добиться путём шантажа, что он оставлял её выбор – быть с ним тайно или не быть с ним, но тогда он сделает так, что всем будет известно, что была.
Каково же было Суворову? Какое он должен был принять решение? Дуэль? Но как это возможно с племянником, да и вообще – он же генерал-поручик, уже известный в России полководец. Он бы ни на минуту не задумался, если бы можно было отстоять честь жены в поединке, но не сразу поверил в то, что требуется отстаивать честь, что не растоптала она сама эту честь.
Она покаялась перед ним, она обвинила во всём соблазнителя. Но так ли это было на самом деле, кто знает?! Если бы в дальнейшем она оставалось добропорядочной и верной женой, можно было бы поверить, что в первом случае был шантаж, было такое положение, из которого так просто не выбраться. Но… Впрочем, об этом «но» в своё время.
Суворов вынужден был тратить свои душевные силы на этакие отвратительные для его понимания вещи. Он просил, чтобы мерзкому поступку племянника была дана соответствующая оценка, чтобы он был примерно наказан. Но нравы общества оставляли желать лучшего. Начиная с петровского царствования повредились эти нравы в России, заразилась России бездуховностью западноевропейской.
То, что Суворову казалось невероятным, невозможным, преступным, в столице зачастую воспринималось вполне нормальным, обыкновенным, обыденным. Ну, конечно, достойным порицания, если это свершается людьми не последними в иерархии, но, если же деяния эти вершатся самими любителями посудачить, то это другое дело.
А до того ли Суворову. Он в одной обойме с Потёмкиным укреплял позиции России на юге, умиротворял досаждавших грабительскими набегами соседей, приводя их постепенно в порядок, приводя в подданство Российской Императрице.
С февраля 1780 года Суворов служил в Астрахани. В апреле ему поручено командование Казанской дивизией, которая дислоцировалась в низовьях Волги. Там вполне возможно жить семьёй, и в семье устанавливается мир и покой. Как ни трудно забыть мерзость измены, но забыть надо. И Суворов принял волевое решение: простить. Он поверил в то, что главным виновником явился его племянник. Поверил, быть может, потому, что хотел поверить.
Супруга же просто, видимо, не в состоянии была оценить, кто рядом с нею. Молва о его необыкновенных подвигах уже прокатилась по всей России. А ведь Суворов был не только блистательным полководцем – он был образовеннейшим человеком своего времени, потому что с ранних лет, все силы отдавая обучению главнейшему в жизни военному делу, он не забывал и о литературе, искусстве, театре…
В октябре 1742 года Суворов был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк. Его сверстники, записанные по обычаям того времени в полки в младенчестве, уже прошли «на домашнем коште» первичные чины. Он же начал с первой ступеньки, в более позднем возрасте. Правда и он несколько лет еще оставался дома, но теперь уже отец серьёзно занялся с ним военными науками. Изучали тактику действий, военную историю, фортификацию, иностранные языки... Всё это называлось отпуском для обучения «указанным наукам» в родительском доме.
1 января 1748 года Александр Суворов «явился из отпуска» и начал службу в 3-й роте лейб-гвардии Семёновского полка. Лейб-гвардии Семёновский полк был в то время своеобразным центром подготовки русских офицерских кадров. Суворов с головой окунулся в занятия, но знаний, которые давали в полку, ему не хватало, и он добился разрешения посещать лекции в Сухопутном Шляхетском Кадетском Корпусе.
Вместе с кадетами проходил он курс военных наук, вместе с ними занимался литературой, театром.
В то время в Сухопутном Шляхетском Кадетском Корпусе учился Михаил Матвеевич Херасков (1733 – 1807), будущий автор эпической поэмы «Россияда» (о покорении Иоанном IV Грозным Казанского ханства), трагедии «Венецианская монахиня», философско-нравоучительных романов «Нума Помпилий или процветающий Рим» и других.
М.М. Херасков с помощью кадета-выпускника 1740 года Александра Петровича Сумарокова (1717 – 1777), ставшего уже признанным писателем, образовал в корпусе «Общество любителей российской словесности». Суворов посещал занятия общества, читал там свои первые литературные произведения, среди которых были «Разговор в царстве мертвых между Александром Великим и Геростратом» (августовский номер 1755 года) и «Разговор между Кортецом и Монтецумой» (июльский номер 1756 года). Печатался он и в журнале Академии Наук, который назывался «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».
Привлекала Суворова и огромная по тем временам библиотека Сухопутного кадетского корпуса, которая насчитывала около 10 тысяч томов.
Выдающиеся литературные дарования Суворова не нашли достаточного отражения в литературе. Между тем, будущий полководец был охотно принят в литературный круг светил писательского общества того времени. К примеру, выпускник Сухопутного Шляхетского Кадетского Корпуса 1740 года Александр Петрович Сумароков был автором весьма популярных в то время произведений: комедии «Рогоносец по воображению», трагедий «Дмитрий Самозванец», «Мстислав» и других, в какой-то мере предвосхитивших отдельные черты творчества знаменитого Д.Ю. Фонвизина. Кадетский корпус давал глубокие знания в науке, искусстве, литературе. Что же касается непосредственного военного образования, то на этот счёт есть упомянутое нами красноречивое свидетельство блистательного русского полководца Петра Александровича Румянцева.
Безусловно, занятия в корпусе, хотя Суворов и не был его воспитанником, оказали значительное влияние на его становление.
Вячеслав Сергеевич Лопатин, характеризует те годы следующим образом: становление государства «шло вместе с ростом национального самосознания. Во времена Суворова жили и творили Михаил Ломоносов, Александр Сумароков, Денис Фонвизин и Гавриил Державин, Федот Шубин и Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий и Василий Боровиковский, Варфоломей Растрелли и Иван Старов... и многие другие выдающиеся деятели русской культуры, отразившие национальный социально-экономический и культурный подъём страны», многие из которых были выпускниками кадетских корпусов.
И Суворов прекрасно разбирался в произведениях литературы, поэзии, живописи, архитектуры.
Скорее уж он мог говорить о скуке в обществе ограниченной, увлечённой только нарядами, да развлечениями супруги, а ей, если бы она, конечно, была не столь ограничена, не могло быть скучно в обществе такого уникального человека, как Александр Васильевич. Но, увы, во многих семьях случается так, что жёны (конечно, наверное, бывает, что и мужья), не занимаясь самообразованием, начинают отставать. Порою они отстают надолго, а иногда – навсегда.
А служба Отечеству звала дальше.
В августе 1782 года Потёмкин назначил Суворов командующим Кубанским корпусом. В июне 1783 года Суворов принимает самое активное участие в подготовке на верность России кочующих ногайцев.
Современный исследователь истории Кубани В.А. Соловьёв в своей книге «Суворов на Кубани» пишет:
«Почти четыре века продолжалась тяжелейшая борьба России с Крымским ханством и его вассалами. Никто и никогда не подсчитает, какой убыток причиняли татаро-ногайские набеги на русские и украинные земли. Французский военный инженер Гильом Бооплан, служивший на польской границе, так рассказывал об этих набегах:
«Самое бессердечное сердце тронулось бы при виде, как разлучается муж с женой, мать с дочерью без всякой надежды когда-нибудь увидеться, отправляясь к язычникам-мусульманам, которые наносят им бесчеловечные оскорбления. Грубость их позволяет совершать множество самых грязных поступков, как, например, насиловать девушек и женщин в присутствии их отцов и мужей… у самых бесчувственных людей дрогнуло бы сердце, слушая крики и песни победителей среди плача и стона этих несчастных русских».
И вот Суворов призван был стремительными ударами своими прекратить эти изуверства. И он решительно пресекал действия многочисленных врагов, алчно взиравших на русские земли. Каждый военный предводитель, будь то командир или командующий, будь то офицер или генерал, знает, как важно, выполняя боевую задачу, твёрдо верить, что у тебя надежен тыл не только в боевом построении на театре военных действий, но и где-то там, далеко – дома, в семье.
Мог ли Суворов твёрдо верить в свой надёжный тыл? Мог ли быть спокойным за что, что творится дома, мог ли думать так, как поётся в песни уже нашего времени… «Верю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось».
За сухими фактами биографии скрываются чувства этого необыкновенного человека, которые он, каким ли блистательным полководцем ни был, носил в себе, как всякий офицер, генерал, да просто как всякий мужчина, глава семьи, разделённый с этой семьёй обстоятельствами службы.
Суворов и в военное и в мирное, точнее условно мирное, время, ибо полного мира Россия практически никогда не знала, всегда находился на передовых рубежах. А южные рубежи на протяжении многих веков были охвачены огнём…
Вопрос о замирении соседей не раз остро вставал на повестке дня Русского правительства. Крымское ханство доставляло немало хлопот и Московскому царству времён Иоанна Васильевича Грозного, его отца Василия Третьего и деда Ивана Третьего, и Российской Империи при Петре Первом, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Положение, сложившееся в период царствования Екатерины Великой историк В. Огарков охарактеризовал следующим образом:
«Наши границы были отодвинуты от Чёрного моря значительною своей частью, флот отсутствовал; на устьях Днепра, на Днестре и Буге по соседству был целый ряд турецких крепостей. Крым, хотя и освобождённый от сюзеренства Турции по Кучук-Кайнарджийскому миру, на самом деле был ещё довольно послушным орудием в руках турецких эмиссаров и во всяком случае грозил нам как союзник Турции в возможной войне…».
Не меньше хлопот доставляли турецкие и крымские вассалы в Прикубанье.
В книге «Кавказская война» по этому поводу говорится:
«К югу от Дона и его притока Маныча простиралась до самой Кубани обширная степь, по которой привольно кочевали ногайцы – настоящие хозяева края. За Кубанью начинались горы, и оттуда ежеминутно грозили нападения черкесов. Были ли ногайцы в мире с черкесами, враждовали ли с ними, на русских поселениях, на Дону, одинаково тяжко отзывались как мир, так и война между ними».
Блистательные победы Суворова над турецкими вассалами – ногайскими татарами – 1 августа 1783 года и 1 октября 1783 года на реке Лабе в значительной степени способствовали успеху действий Г.А. Потёмкина по присоединению к России полуострова Крым.
Ещё один удар супруги – ещё одна рана!
1784 год. В двадцатых числах мая Суворов неожиданно приехал в столицу.
На вопрос Потёмкина ответил, что лично желает поблагодарить Императрицу за награждение Орденом Владимира 1-й степени.
Но на самом деле – наметилась новая семейная драма.
Суворов подал прошение с Синод о разводе и пообещал представить «изобличающие свидетельства». Но что же случилось? Об этом мы узнаём из письма Суворова секретарю Потёмкина Василию Степановичу Попову, датированного 21 мая:
«Мне наставил рога Сырохнев. Поверите ли?»
17 июня Синод в разводе отказал (нет свидетелей и «крепких доводов»), да и Екатерина была против.
Узнав о слухе, будто бы тесть И.А. Прозоровский имеет намерение «о повороте жены к мужу» Суворов просит Кузнецова лично посетить Московского митрополита Платона. Наставляет его:
«Скажи, что третичного брака уже быть не может, и я тебе велел объявить это на духу. Он сказал бы: «Того впредь не будет». Ты: «Ожёгшись на молоке, станешь на воду дуть».
И даёт примерный план разговора, предполагая, как может вести себя митрополит и что нужно отвечать в таком случае.
«Он: Могут жить в одном доме разно».
Ты: «злой её нрав всем известен, а он не придворный человек»
Кузнецов Степан Матвеевич заведовал канцелярией по управлению всеми вотчинами Суворова
Суворов начинал ему письма так:
«Государю моему, моему младшему адъютанту его благородию Степану Матвеевичу Кузнецову, в доме моём близ церкви Вознесения у Никитских ворот»
Суворов твёрдо решил оставить жену и даже велел вывозить вещи из своего московского дома в Ундол.
Кузнецову по этому поводу писал:
«Я решился всё забрать сюда… людей, вещи, бриллианты и письма.
Если бы супруга пожелала жить в московском доме, она бы нашла его пустым».
А между тем 4 августа 1784 года у Варвары Ивановны рождается сын. Ему даётся имя Аркадий, но Суворов не признаёт его. Ему виднее, почему не признаёт. Ведь это разгар романа с Сырохневым…
Действия Сырохнева – очередная рана, очередной подлый ответ на доброе отношение Суворова, в период борьбы за присоединение Крыма представившего его к награждению орденом Святого Владимира 4-й степени. Александр Васильевич писал, что секунд-майор Казанского пехотного полка Иван Сырохнев, «по отряду моему во время волнования некоторых между едичку-лами успешно и благоразумно с преподанием похвальных уверений довёл к точнейшему исполнению воли Монаршей».
И вот разрыв произошёл.
Поначалу Варвара Ивановна жила у отца, а после его смерти в 1786 году у старшего брата генерал-майора И.И. Прозоровского
Суворов поступил по-суворовски. Отрезал навсегда и навсегда выкинул из сердца.
Но он не забывал о том, что она пока законная жена и что её как-то надо жить с четырёхмесячным сыном.
10 декабря 1784 года он дал указание И.П. Суворову, дальнему своему родственнику, который вёл его дела, «супругу Варвару Ивановну довольствовать регулярно из моего жалования», хотя, как уже упоминалось, и не очень верил, что это его сын.
А впереди ждали новые, уже боевые испытания. Известно, что Суворов всегда рвался в бой, всегда стремился быть на острие главных ударов. Много причин, почему он делал так. На первом месте, безусловно, любовь к Отечеству. Но ведь и личные драмы – не последнее дело. Забыться, не думать о подлости предательства. Забыться бою, среди своих чудо-богатырей, где он всегда дома, где нет предательства, напротив, где каждый готов отдать жизнь за своего любимого генерала.
«…своей особою больше десяти тысяч человек»
Когда грянула русско-турецкая война 1787-1791 годов, Потёмкин направил Суворова на важнейший участок действий против турок, в Кинбурнскую крепость.
Рескрипт о назначении Светлейший сопроводил теплыми словами в адрес Суворова:
«Мой друг сердечный, ты своей особою больше десяти тысяч человек. Я так тебя почитаю и ей-ей говорю чистосердечно».
В войне, развязанной против Российской Империи, Порта (название турецкого правительства) планировала захват Крымского полуострова. Для этого турки собирались высадить десант на Кинбурнской косе, овладеть Кинбурнской крепостью, нанести удар в направлении пристани Глубокой, Николаева и Херсона, затем выйти к Перекопу и отрезать полуостров от России.
Прибыв в Кинбурн, Суворов немедленно приступил к организации обороны косы. Он не любил оборону, он признавал только наступление и потому писал одному из подчиненных командиров: «Приучите вашу пехоту к быстроте и сильному удару, не теряя огня по-пустому. Знайте пастуший час!»
Турки предприняли несколько серьезных попыток высадки на косу, но все они были успешно отбиты русскими войсками. Суворову не нравилась такая вынужденная пассивность. Получалось, что он ждёт, когда неприятель соизволит открыть боевые действия. И он решил превратить оборонительный бой в бой наступательный, чтобы покончить с главными силами турок. Но для этого нужно было позволить им высадиться на косу, что, конечно, рискованно. Впрочем, Суворов был уверен в себе и своих войсках.
Недаром его приказы были всегда проникнуты наступательным духом:
«Шаг назад – смерть! Вперёд два, три, десять шагов позволяю...»
1 октября 1787 года турки предприняли очередную попытку высадиться на косу. Вместо того, чтобы немедля пресечь её, Суворов приказал не мешать неприятелю, пусть, мол, высаживается. Подчинённым же сказал:
– Сегодня день праздничный, Покров, – и отправился в крепостную церквушку на молебен.
Вот этот факт, нашедший отражение практически во всех книгах о Суворове, всегда вызывал удивление. Как так? Враг захватывает плацдарм, укрепляет его, а Суворов молится в Церкви. Нашёл время?! Более или менее понятное объяснение приходило лишь одно – Суворов хотел отвлечь наиболее горячих и ретивых подчинённых от преждевременного вступления в бой. Лишь со временем пришло понимание истины. Крепкая и нелицемерная вера заставляла Суворова смерять по Промыслу Божьему все поступки и помыслы свои. Слова: «Богатыри! С нами Бог!», «Бог нас водит! Он нам Генерал!» – говорились не просто призывами, для меткого словца. В них отражалась убеждённость Суворова, что всё в Божьей Воле, а солдаты верили, что Суворов «знал Божью планиду и по ней всегда поступал».
Не случайно в составленном им «Каноне Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу» Суворов написал:
«Услыши, Господи, молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет, не отврати лица Твоего от мене, веси волю мою и немощь мою. Тебе Единому открыто сердце моё, виждь сокрушение моё, се дело рук Твоих к Тебе вопиет: хочу да спасеши мя, не забуди мене недостойного и воспомяни во Царствии Своём!»
Защита Отечества – Священная Брань, но война – брань кровопролитная. И Суворов с особым чувством молился перед каждым боем, испрашивая у Всемогущего Бога помощи в борьбе, помощи в достижении победы, а все победы Суворова были, как правило, кровопролитны для врага. Но врагами Суворова были агрессоры, а, значит, стяжатели духа тёмного, сами подписавшие себе приговор.
Так и перед Кинбурнской Священной Бранью с агрессором (а каждый агрессор – слуга тёмных сил, слуга дьявола) Суворов молился не для убиения времени, а молился, испрашивая у Всемогущего Бога помощи в победе над численно превосходящим врагом, пришедшим полонить Русскую Землю и Русский народ.
Когда турки закончили высадку (как потом выяснилось, высадили они 5300 человек) и собирались уже начать атаку крепости, Суворов сам ударил на них. Завязалось ожесточённое сражение.
Неприятель нёс большие потери, но дрался отчаянно, чем заслужил похвалу Суворова («каковы молодцы, век с такими не дирался»). Суворов был дважды ранен. В напряженный момент схватки оказался один против десятка неприятелей и был чудесно спасен гренадером Новиковым, сразившим нескольких турок, и подоспевшими русскими воинами. Борьба увенчалась победой. Лишь около 300 турок спаслось после этого дела, остальные погибли в бою или утонули в лимане. В войсках Суворова, погибло и умерло от ран 136 человек, лёгкие ранения получили 14 офицеров и 283 солдата.
«Богатыри! С нами Бог!» – в этом боевом призыве Суворова сквозит уверенность, что Всемогущий Бог дает волю к победе, мужество, отвагу, стойкость и силу именно Русским, как Витязям Православия, как защитникам и хранителям Святой Руси – Дома Пресвятой Богородицы, Подножия Престола Божьего на Земле.
Узнав о Кинбурнской победе, Екатерина II писала Потемкину: «Старик поставил нас на колени, но жаль, что его ранило...».
Этими словами Императрица выразила свое восхищение подвигом Суворова. Александр Васильевич был награждён орденом Святого Андрея Первозванного – высшей наградой России, по существу, царской наградой. Представление к ней сделал Потёмкин, и Суворов писал Потёмкину:
«Светлейший Князь! Мой отец, вы то могли один совершить: великая душа Вашей Светлости освещает мне путь к вящей императорской службе».
Как-то вот не вписывается царская награда в представление об очередной смертельной ране при дворе, нанесённой Суворову.
В июне 1788 года турки повторили попытку прорыва к Николаеву и Херсону, правда, на этот раз морским путём. Потерпев неудачу в сражении, которое произошло с русскими кораблями в Днепровско-Бугском лимане 1 июня, они, спустя две недели, вновь атаковали русскую гребную флотилию и парусную эскадру, прикрывавшие подступы к Николаеву, Херсону и пристани Глубокой.
Тут и приготовил им Суворов своеобразный сюрприз. Наблюдая за движением неприятельских кораблей по лиману во время боевых действий 1 июня, Суворов заметил, что фарватер проходит на одном участке очень близко к берегу косы. Там он установил две мощные артиллерийские батареи и тщательно замаскировал их. И вот, когда турки 16 июня после боя начали отход из лимана и оказались перед фронтом батарей, подставив свои борта, он ударил по ним в упор с короткой дистанции зажигательными снарядами. Эффект был потрясающий. 7 больших турецких кораблей пошли на дно. Команды их насчитывали свыше 1500 человек, на вооружении состояло свыше 130 орудий.
Эта победа позволила Потёмкину начать действия против Очаковской крепости.
Ранение, полученное при осаде Очакова 28 июля 1788 года, помешало Суворову участвовать в блистательном штурме этой важной крепости – «Ключа от моря Русского». Но то, во что превратили факт этого ранения, можно вполне причислить к одной из «невоенных», а клеветнических ран, нанесённых Суворову.
Некоторые историки, упрекая Потёмкина в разных грехах, противопоставляли ему Суворова, который якобы однажды, используя вылазку турок, решился на штурм, да вот главнокомандующий его не поддержал, а потому и не был взят в тот день Очаков. Так ли это? Обратимся к документам.
Вылазка турок произошла 27 июля. Докладывая о ней на следующий день Потёмкину, Суворов писал:
«Вчера пополудни в 2 часа из Очакова выехали конных до 50-ти турок, открывая путь своей пехоте, которая следовала скрытно лощинами до 500. Бугские казаки при господине полковнике Скаржинском, конных до 60, пехоты до 100 три раза сразились, выбивая неверных из своих пунктов, но не могли стоять. Извещён я был от его, господина Скаржинского. Толь нужный случай в наглом покушении неверных решил меня поспешить отрядить 83 человека стрелков Фанагорийского полка к прогнанию, которые немедленно, атаковав их сильным огнём, сбили; к чему и Фишера батальон при господине генерал-майоре Загряжском последовал. Наши люди так сражались, что удержать их невозможно было, хотя я посылал: во-первых, донского казака Алексея Поздышева, во-вторых, вахмистра Михаила Тищенка, в-третьих, секунд-майора Куриса и, наконец, господина полковника Скаржинского. Турки из крепости умножались и весьма поспешно; было уже до 3000 пехоты; все они обратились на стрелков и Фишера батальон, тут я ранен и оставил их в лучшем действии. После приспел и Фанагорийский батальон при полковнике Сытине, чего ради я господину генерал-поручику и кавалеру Бибикову приказал подаваться назад. Другие два батальона были от лагеря в одной версте. При прибытии моём в лагерь посланы ещё от меня секунд-майор Курис и разные ординарцы с приказанием возвратиться назад. Неверные были сбиты и начали отходить. По сведениям от господина генерал-майора Загряжского, батальонных командиров и господина полковника Скаржинского, турков убито от трех до пяти сот, ранено гораздо более того числа».
Оказывается, Суворов не только не спешил бросить людей на неподготовленный штурм без артиллерийской поддержки, без диспозиции, но и сам удерживал людей, в азарте гнавшихся за неприятелем. Он перечислил, кого посылал вернуть батальоны.
Увы, когда-то придуманная сплетня перекочевала и в исторические труды, и в популярные романы. Олег Михайлов и в романе «Суворов», и в книге «Суворов», вышедшей в серии ЖЗЛ, пишет:
«Проводив Потёмкина, Суворов, не стесняясь присутствия нескольких приближенных Светлейшего, сказал своим офицерам:
– Одним глядением крепости не возьмешь. Послушались бы меня, давно Очаков был бы в наших руках».
Ну, прямо Грачёв какой-то, который хотел одним полком Грозный взять в 1994 году. Суворов же не был хвастуном и зазнайкой, коим выставлен в данном случае. Суворов берёг людей и никогда не посылал их на бессмысленные мероприятия, также как и Потёмкин. И, ох, как не вяжутся хвастливые слова с его образом.
Вспомним слова Суворова: «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими» и «Дисциплина – мать победы»
В этих двух фразах заключены принципы Суворова, которые полностью исключают саму возможность действия старших. Кроме того, люди военные знают, что обсуждение действий старших командиров и начальников, особенно в присутствии подчинённых, недопустимо.
«Послушали бы меня…» Эта фраза вообще ни в какие рамки не лезет и противоречит следующему принципу Суворова: «Два хозяина в одном дому быть не могут». А перед знаменитыми Итальянским и Швейцарским походами Суворов написал: «Вся власть главнокомандующему».
Кроме того, каждому опять-таки человеку, познавшему премудрости военной службы, понятно, что обсуждение командира и начальника, да ещё и с намёками на своё превосходство, более походит на лакейство. Как говорится – холоп на барина две недели дулся и ругал его, а барин о том и не ведал.
Суворов не был холопом, Суворов был человеком высоких достоинств, высокого полёта, и совсем не в его характере подлаивать из подворотни. Просто иные авторы привносят в образ великого и всенародно любимого полководца черты каждый своего характера и свои личные жизненные принципы. Возможно, они бы и обсуждали бы решение командира с подчинёнными. Суворов это сделать не мог по своей сути.
А вот уже о вылазке в указанном выше романе:
«Наблюдавший издали за боем Потёмкин был в ярости. Де-Линь предлагал немедля штурмовать оставшиеся почти без защиты укрепления. Австрийский принц ясно видел, как большинство значков турецких отрядов – лошадиных и буйволовых хвостов на золоченых древках – уже переместилось к своему правому флангу и обнажило левый. Фельдмаршал был непреклонен. Бледный, плачущий Потёмкин шептал:
– Суворов хочет все себе заграбить!
В лагере разнесся слух, что генерал-аншеф умирает от раны. Однако примчавшийся в палатку Суворова Массо застал его, хоть и всего в крови, но играющим в шахматы со своим адъютантом Курисом».
Дальнейшее описание свидетельствует о том, что бой еще продолжался, ещё гибли люди, а Суворов играл в шахматы с тем самым Курисом, которого посылал остановить людей. А спасло положение «только вмешательство Репнина, отвлекшего на себя часть турок». И снова Суворов показанзлословом. Когда у него спросили, что передать Светлейшему, он ответил: «Я на камешке сижу, на Очаков я гляжу».
В. Пикуль в «Фаворите» пошёл ещё дальше. Он придумал, что для спасения положения Репнину пришлось положить на поле целый кирасирский полк. Целый полк! По чьей вине? Автору романа безразлично. Переписав ложь, он не удосужился разобраться, на кого в большей степени падает ответственность за гибель сотен людей – на Суворова или на Потёмкина.
Но что же Потёмкин? Плакал ли он? Запрещал ли он штурмовать крепость? Выясняется из документов, что он вовсе не был извещён о случившемся и потому 28 июля утром, ещё не получив от Суворова донесения, направил ему своё письмо следующего содержания:
«Будучи в неведении о причинах и предмете вчерашнего происшествия, желаю я знать, с каким предположением Ваше Высокопревосходительство поступили на оное, не донеся мне ни о чём во всё продолжение дела, не сообща намерений Ваших и прилежащих к Вам начальников и устремясь без артиллерии противу неприятеля, пользующегося всеми местными выгодами. Я требую, чтобы Ваше Высокопревосходительство немедленно меня о сём уведомили и изъяснили бы мне обстоятельно всё подробности сего дела».
Не только не плакался, «сидя на камешке», не только не волновался, как бы Суворов с горяча Очаков не взял, а вообще не ведал о случившемся до следующего дня.
Суворов вынуждён был послать ещё одно донесение, уже в ответ на приведённое выше письмо Потёмкина. Он сообщил:
«На последнее Вашей Светлости, сего июля 28 числа данное имею честь донести, что причина вчерашнего происшествия была предметом защиты Бугских казаков по извещении господина полковника Скаржинского, так как неверные, вошед в пункты наши, стремились сбить пикеты к дальнейшему своему усилению; артиллерия тут не была по одним видам малого отряда и подкрепления. О начале, как и продолжении дела чрез пикетных казаков Вашу Светлость уведомлено было. Начальник, прилежащий к здешней Стороне, сам здесь при происшествии дела находился. Обстоятельно Вашей Светлости я донёс сего же числа, и произошло медление в некотором доставлении оного по слабости здоровья моего».
Комментарии, как говорится, излишни. Смешно думать, что Суворов «по одним видам малого отряда», когда и «артиллерия тут не была», мог пытаться штурмовать Очаков самостоятельно. Ещё будет случай убедиться, насколько внимательно и добросовестно он готовил все серьёзные свои дела, в том числе и штурм Измаила. А тут вдруг бросил бы на бастионы людей без всякой подготовки?! Такого быть не могло.
Переборщили писатели и с потерями. Какой уж там кирасирский полк? Репнин и вовсе не появлялся в районе схватки, поскольку командовал правым крылом армии, а Суворов командовал левым крылом осадных войск. Да и вылазка была не таковой, чтобы ради неё целые полки посылать.
Суворов с вылазкой справился сам, как, впрочем, и всегда справлялся с противником без посторонней помощи.
Что же касается потерь, то они указаны Потёмкиным в письме к Императрице, в котором, кстати, мы не найдем ни тени упрека в адрес Суворова. Это ещё раз опровергает выдумки о ссоре между Григорием Александровичем и Александром Васильевичем.
«27-го числа, – писал Потёмкин, – показался неприятель к левому флангу армии в 50-ти конных, кои открывали путь перед своею пехотою, пробиравшеюся лощинами. Турки атаковали содержащих там пикет Бугских казаков. Генерал-аншеф Суворов, на левом фланге командовавший, подкрепил оных двумя батальонами гренадер. Тут произошло весьма кровопролитное сражение... Неудобность мест, наполненных рвами, способствовала неприятелю держаться, но при ударе в штыки был оный совершенно опрокинут и прогнан в ретраншемент. В сём сражении гренадеры поступили с жаром и неустрашимостью, которым редко найти можно пример. Но при истреблении превосходного числа неприятелей, отчаянно дравшихся, состоит и наш урон в убитых подпоручиках Глушкове, Толоконникове, Ловейко, в прапорщике Кокурине, в ста тридцати восьми гренадерах и двадцати казаках; ранены генерал-аншеф Суворов легко в шею, секунд-майор Манеев, три капитана, два поручика, гренадер двести, казаков четыре...»
Каких только сплетен ни приводили те, кто измышлял самоуправство Суворова. Забыли они лишь о документах, главных документах и свидетельствах – одокладах самого Суворова и письмах самого Потёмкина. Вот и получилось, что факты заимствовали у тех, кто никогда не был под Очаковом, а то и у иностранцев, подобных Валишевскому, изливавших желчь из-за рубежа.
Ну и ещё один момент. Предположим, наш частный начальник – Суворов таковым частным воинским начальником быть никак не мог – так вот, нашёлся бы таковой, что на плечах отступающих турок ворвался в крепость. Это проблематично, поскольку стены ещё не были разрушены. Батареи для ведения огня с целью разрушения стен только строились. Допустим, какому-то нашему отряду удалось прорваться через ворота, которые почему-то турки не успели закрыть. Ну и что дальше? В Очакове был крупный гарнизон. Что бы стало с отрядом? Желающие изобразить ссору Суворова с Потёмкины даже не подумали о том, что вот этакий штурм с бухты-барахты просто невозможен.
Суворов же учил: «Идя вперед, знай, как воротиться». И предупреждал:
«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови».
Ну а относительно облика командира говорил:
«Тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример».
Каков же пример показывает пример герой романа, который только по имени является Суворовым, но на нашего великого полководца совсем не походит.
Прочитал бы написанное сам Суворов и наверняка бы сказал, что получил ещё одну рану, причём, тоже не на войне, а, если и не при дворе, то в придворной литературе. Ведь зачем-то в советское время было дозволено допускать подобные клеветнические выпады против великого русского полководца.
Кстати, в интернете даже всем известные слова Суворова «Горжусь, что я Русский», успели переделать, и страничка с афоризмами начинается отредактированными словами: «Горжусь тем, что я россиянин». Это уже явно перебор, если не назвать ещё резче.
Взятие же Очакова было тщательно подготовлено артиллерийским огнём, с помощью которого почти полностью разрушена стена крепости, примыкающая к лиману. Штурм состоялся под командованием Потёмкина 6 декабря 1788 года и длился всего «пять четвертей часа». Турки потеряли 8700 убитыми, 4000 пленными, 1440 умершими от ран. Урон русских составил 936 человек. И Суворов, и Потёмкин умели действовать по-румянцевски. Вспомним Кагул. Турки и татары имели вместе 230 тысяч. Румянцев – 23 тысячи. Несмотря на это, Румянцев атаковал и уничтожил свыше 20 тысяч неприятелей. То есть, по существу на каждого русского воина приходился один уничтоженный неприятель, что редко бывает в истории военного искусства.
Падение Очакова потрясло Порту, подорвало могущество Османской империи. А следующий год, 1789-й, был ознаменован блистательными победами Суворова при Фокшанах и Рымнике.
Об итогах сражения при Фокшанах 21 июля 1789 года Суворов докладывал Потёмкину: «Рассеянные турки побрели по дорогам – Браиловской и к Букарестам. Наши легкие войска, догоняя их, поражали и на обеих дорогах получили в добычу несколько сот повозок с военной амуницией и прочим багажом». И снова потери были несоизмеримыми. Известный исследователь екатерининских войн М. Богданович указывал: «Число убитых турок простиралось до 1500; в плен взято 100 человек; русские потеряли убитыми 15, а раненными 70 человек. Урон, понесённый австрийцами, был немного более».
В этом сражении, так же как и в следующем, Рымникском, русские войска действовали вместе с союзниками австрийцами. Желая взять реванш за поражение при Фокшанах, турецкое командование в конце августа 1789 года сосредоточило крупные силы перед 18-тысячным отрядом австрийского принца Кобургского. 100 тысяч против 18. Принц запросил помощи у русских. Суворов двинулся на выручку австрийцам, взяв с собой лишь небольшую часть подчиненных ему войск, всего 7 тысяч. Именно с таким отрядом можно было совершить стремительный марш, столь необходимый в создавшейся обстановке. Преодолев за двое с половиной суток свыше ста километров, он соединился с союзниками.
Принц Кобургский сообщил о силах противника и предложил немедля организовать оборону. Но мы уже знаем, как Суворов относился к обороне. Суворов предложил атаковать турок. Принц наотрез отказался, ссылаясь на огромное численное превосходство неприятеля.
Суворов переспросил:
– Численное превосходство неприятеля? Его укреплённые позиции? – И тут же твердо заключил: – Потому-то, именно, мы и должны атаковать его, чтобы не дать ему времени укрепиться еще сильнее. Впрочем, – прибавил он, видя нерешительность принца, – делайте, что хотите, а я один с моими малыми силами намерен атаковать турок и тоже один намерен разбить их...
Кобургский вынужден был повиноваться Суворову. Уверенность непобедимого полководца завораживала, она словно бы вселялась в австрийцев.
И снова победа, баснословная, блистательная. Потери турок превысили 15 тысяч (а у Суворова в отряде всего было семь!). Урон русских и австрийцев составил 700 человек.
В Рымникском сражении Суворов продемонстрировал высочайшее полководческое мастерство, показал образец боя со сложным маневрированием. Его победа повлияла на весь ход кампании, ибо турецкая армия Юсуфа-паши практически перестала существовать.
Оставшиеся в живых свыше 80 тысяч человек, потрясённые разгромом и беспримерной отвагой русских, разбежались, и собрать их до конца кампании не представлялось возможным.
Суворов писал:
«Наивреднее неприятелю страшный ему наш штык, которым русские исправнее всех в свете владеют».
За эту победу Суворов по представлению Потёмкина был награжден орденом Святого Георгия 1-й степени. Восхищаясь подвигом своего любимца, Григорий Александрович сопроводил награду следующими словами:
«Вы, конечно, во всякое время равно приобрели славу и победы, но не всякий начальник с равным мне удовольствием сообщил бы вам воздаяние. Скажи, граф Александр Васильевич, что я добрый человек: таким буду всегда!»
Императрица возвела Суворова в графское достоинство с почЁтным титулом «Рымникский».
Суворов был осыпан почестями, щедро наградил его и австрийский император Иосиф II.
На искренность и добросердечие отношений между Суворовым и Потёмкиным указывает письмо Александра Васильевича, адресованное личному секретарю Светлейшего Князя Василию Степановичу Попову:
«Долгий век Князю Григорию Александровичу! Увенчай его Господь Бог лаврами, славой. Великой Екатерины верноподданные, да питаются от тука его милостей. Он честный человек, он добрый человек, он великий человек. Счастье моё за него умереть!»
Снова как-то не получается с рассуждениями о пяти смертельных ранах при дворе. Ни двор, ни соправитель и супруг Российской Государыни ну никак Суворову ран не наносили и не собирались наносить.
А война продолжалась, и после победоносной кампании 1789 года необходимо было принудить, наконец, к миру Турцию. Императрица писала князю Потёмкину: «Мир скорее делается, когда Бог даст, что наступишь… им на горло».
Наступить им на горло значило покорить Измаил.
В «Военной энциклопедии», изданной до революции, указывается, что к концу 1790 года «турки под руководством французского инженера Де-Лафит-Клове и немца Рихтера превратили Измаил в грозную твердыню».
Ну и даётся подробное описание неприступной по тем временам крепости, которая была защищена и естественными препятствиями, поскольку «расположена на склоне высот, покатых к Дунаю».
Измаил занимал довольно большую территорию, в «Военной энциклопедии сказано, что «широкая лощина, направлявшаяся с севера на юг, разделяла Измаил на две части, из которых большая, западная, называлась старой, а восточная – новой крепостью».
Были возведены мощные укрепления, указано, что «крепостная ограда бастионного начертания достигала 6 верст длины и имела форму прямоугольного треугольника, прямым углом обращенного к северу, а основанием к Дунаю; главный вал достигал 4 сажен вышины и был обнесён рвом глубиною до 5 и шириною до 6 сажен и местами был водяной».
Сажень, старинная мера длины. Одна сажень равна 2 с лишним метрам, а если точнее, то в восемнадцатом веке сажень равнялась 2 метрам и 13 сантиметрам. Таким образом, главный вал был высотой более 8 метров, а ров, глубиной свыше десяти метров. Ширина рва превышала 12 метров. Можно представить себе, каково было взять такую крепость.
В крепость вели четверо ворот, с запада – Царьградские, (Бросские) и Хотинские, с северо-востока – Бендерские, с востока – Килийские.
В Военной энциклопедии указано оснащение крепости:
«Вооружение 260 орудий, из коих 85 пушек и 15 мортир находились на речной стороне; городские строения внутри ограды были приведены в оборонительное состояние; было заготовлено значительное количество огнестрельных и продовольственных запасов; гарнизон состоял из 35 тысяч человек под началом Айдозли-Мехмет-паши, человека твердого, решительного и испытанного в боях».
Здесь следует уточнить, что на довольствии в крепости в канун штурма состояло свыше 42 тысяч человек.
И всё-таки крепость надо было брать, ведь от неё зависело, сколько ещё предстоит пролиться русской крови в той жестокой войне.
Главной целью действий против Измаила было нанесение решительного поражения основным силам Османской империи и принуждение Порты к миру.
В конце ноября 1790 года войска генерала Гудовича обложили крепость, однако на штурм не отважились.
Собранный по этому поводу военный совет принял решение – ввиду поздней осени снять осаду и отвести войска на зимние квартиры. Между тем Потёмкин, ещё не зная об этом намерении, но обеспокоенный медлительностью Гудовича, направил Суворову распоряжение прибыть под Измаил и принять на себя командование собранными там войсками.
Суворов выехал к крепости, а Потёмкин чуть ли не в тот же день получил рапорт Гудовича, в котором сообщалось о решении военного совета. Выходило, что главнокомандующий поручил Суворову дело, которое большинство генералов почитало безнадежным. Потёмкин тут же направил Александру Васильевичу ещё одно письмо: «Прежде нежели достигли мои ордеры к г. Генералу Аншефу Гудовичу, Генерал Поручику Потёмкину и Генерал Майору де Рибасу о препоручении вам команды над всеми войсками, у Дуная находящимися, и о произведении штурма на Измаил, они решились отступить. Я получил сей час о том рапорт, представляю Вашему сия-ву поступить тут по лучшему Вашему усмотрению продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением оного...»
Однако Суворов был Суворовым! Он решил брать крепость, и твердо ответил Потёмкину:
«По ордеру вашей светлости… я к Измаилу отправился, дав повеление генералитету занять при Измаиле прежние их пункты».
2 декабря войска, остановленные Суворовым на марше к зимним квартирам, повернули назад и вновь обложили крепость. На следующий день началось изготовление фашин и лестниц для штурма. В тылу был построен макет крепостных укреплений, и войска приступили к усиленным тренировкам.
Суворов провёл военный совет, на котором те же генералы, что ещё недавно приняли решение снять осаду, постановили взять крепость штурмом.
Потёмкин прислал Суворову адресованное в Измаил письмо с предложением о сдаче:
«Приближа войски к Измаилу и окружа со всех сторон сей город, принял я уже решительные меры к покорению его. Огонь и меч уже готовы к истреблению всякой в нём дышущей твари; но прежде, нежели употребятся сии пагубные средства, я, следуя милосердию всемилостивейшей моей Монархини, гнушающейся пролитием человеческой крови, требую от Вас добровольной отдачи города. В таком случае жители и войски, Измаильские турки, татары и прочие какие есть закона Магометанского, отпустятся за Дунай с их имением, но есть ли будете Вы продолжать безполезное упорство, то с городом последует судьба Очакова, а тогда кровь невинная жён и младенцев останется на вашем ответе.
К исполнению сего назначен храбрый генерал граф Александр Суворов- Рымникский».
К письму главнокомандующего Суворов приложил и своё, правда, вовсе не то, которое часто приводится в исторических книгах, и имеющее следующее содержание:
«Я сейчас с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление – воля, первый выстрел – уже неволя, штурм – смерть. Что оставляю вам на рассмотрение».
Известен и ответ, который, якобы, дал комендант Измаила:
«Скорей Дунай остановится в своём течении, и небо упадёт на землю, нежели сдастся Измаил».
Записка Суворова составлена безусловно в его духе, но была ли она послана? Скорее всего, нет. Её, написанную рукою адъютанта со слов Александра Васильевича, нашли в архиве перечеркнутою. Суворов же продиктовал и отправил иное, более полное и гораздо более сдержанное письмо. Приведем строки из него:
«...Приступая к осаде и штурму Измаила российскими войсками, в знатном числе состоящими, но соблюдая долг человечества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость, при том бываемую, даю знать чрез сие вашему превосходительству и почтенным султанам и требую отдачи города без сопротивления… В противном же случае поздно будет пособить человечеству, когда не могут быть пощажены …никто… и за то никто, как вы и все чиновники перед Богом ответ дать должны».
Письма Суворов отправил 7 декабря, а уже на следующий день приказал соорудить мощные осадные батареи в непосредственной близости от крепости, дабы делом подтвердить решительность своих намерений. Семь батарей были установлены на острове Чатал, с которого также предполагалось вести огонь по крепости.
Длинный и пространный ответ от коменданта Измаила поступил 8 декабря. Суть его сводилась к тому, что, желая оттянуть время, он просил разрешения дождаться ответа на предложение русских от верховного визиря. Комендант упрекал Суворова в том, что русские войска осадили крепость и поставили батареи, клялся в миролюбии, и не было даже тени высокомерия в его письме. Суворов ответил коротко, что ни на какие проволочки не соглашается и даёт ещё против своего обыкновения, времени до утра следующего дня. Офицеру же, с которым направлял письмо, велел на словах передать, что если турки не пожелают сдаться, никому из них пощады не будет.
Штурм состоялся 11 декабря 1790 года. Результаты его были ошеломляющими. Измаил пал, несмотря на мужественное сопротивление и на то, что штурмующие уступали в числе войск обороняющимся. О потерях
А.Н. Петров писал:
«Число защитников, получавших военное довольствие, простиралось до 42 000 человек (видимо, в последние недели гарнизон пополнился за счет бежавших из Килии, Исакчи и Тульчи. – Н. Ш.), из которых убито при штурме и в крепости 30 860 и взято в плен более 9000 человек».
Русскими войсками было взято 265 орудий, 3000 пудов пороха, 20 000 ядер, 400 знамен, множество больших и мелких судов. Суворов потерял 1815 человек убитыми и 2400 ранеными.
Донося Императрице об этой величайшей победе, князь Потёмкин отмечал:
«Мужество, твёрдость и храбрость всех войск, в сём деле подвизавшихся, оказались в полном совершенстве. Нигде более не могло ознаменоваться присутствие духа начальников, расторопность штаб- и обер-офицеров. Послушание, устройство и храбрость солдат, когда при всём сильном укреплении Измаила с многочисленным войском, при жестоком защищении, продолжавшемся шесть с половиной часов, везде неприятель поражён был, и везде сохранён совершенный порядок».
Далее главнокомандующий с восторгом писал о Суворове, «которого неустрашимость, бдение и прозорливость, всюду содействовали сражающимся, всюду ободряли изнемогающих и направляя удары, обращающие вотще отчаянную неприятельскую оборону, совершили славную сию победу».
Императрица отвечала письмом от 3 января 1791 года:
«Измаильская эскалада города и крепости с корпусом, вполовину противу турецкого гарнизона в оной находящегося, почитается за дело, едва ли в истории находящееся и честь приносит неустрашимому российскому воинству».
Победа была блистательной.
Очередная рана «при дворе»
Известно, что, собираясь в начале 1791 года в Петербург, Потёмкин планировал оставить за себя Суворова, то есть отдать в его командование все вооруженные силы на юге России, в том числе и Черноморский флот. Потёмкин считал Суворова самым достойным кандидатом на этот пост. Вполне возможно, он рассчитывал вручить ему Соединённую армию после окончания войны в полное командование. Но не так думали представители прусской партии в России во главе с Н.В. Репниным и Н.И. Салтыковым, людьми, мягко говоря, весьма низких моральных качеств и достоинств.
Война шла к завершению, выиграна она была руками честных русских полководцев Потёмкина, Румянцева, Суворова, Самойлова, Кутузова, блистательного флотоводца Ф.Ф. Ушакова, которого называли «Суворовым на море», и многих других. Для слуг духа тёмного настала пора постараться сделать так, чтобы плодами ее воспользовались, как нередко случалось в России, те, кто и малую толику не сделал для победы. Репнин с Салтыковым сговорились скомпрометировать Суворова в глазах Потёмкина, настроить Суворова против Потёмкина, а Екатерину II против и Суворова и Потёмкина, чтобы затем попытаться свергнуть с престола Императрицу. Они надеялись (но, как показало время, ошибались) сделать своим послушным орудием Павла Петровича, когда тот займёт царский трон.
Желая расположить к себе Суворова и заманить его, неискушённого в интригах, в свой лагерь «даже подыскали жениха Наташе Суворовой – сына Н.И. Салтыкова».
Для боевого генерала, всю жизнь проведшего в боях и походах и далекого от интриг, нелёгким делом было разгадать замысел недругов, брак же дочери с сыном заместителя Председателя Военной коллегии (по-нынешнему почти что зам. министра обороны) был почётен.
В борьбе использовались самые низкие методы.
Враги решили привлечь к борьбе против Суворова уже потерявшую привлекательность, бессовестную и беспринципную В.И. Суворову, жену великого полководца и необыкновенного человека, так и неоценённого ею.
В.С. Лопатин так и написал в комментарии: «Что бы помешать планам Суворова (вернуться в строй) Репнин может использовать живущую в Москве Варвару Ивановну Суворову (Мусие-Мадам), якобы, любящую мужа, но забытую и брошенную им».
Для интриг годилось всё, лишь бы скомпрометировать Суворова в тот момент, когда он должен был получить высочайший в Империи чин.
Суворова окружали бессовестные и мелкие людишки. Его жену В.И. Суворову никто не просил вести себя, так как она себя вела. Но вот «лето красное пропела», и уже кавалеров не интересовала – возраст. А роскоши то хотелось, да ещё как!
Потому, видно, и откликнулась на предложения Репнина и Салтыкова о содействии им в их видах.
Суворов не скрывал, что стремился получить чин генерал-адъютанта, который давал ему возможность чаще бывать при дворе и помогать дочери, вступавшей в свет. Враги знали, насколько он дорожит дочерью, насколько привязан к ней. Вспомним: «Смерть моя – для Отечества, жизнь моя – для Наташи».
Салтыков, объявив о мнимом сватовстве, выманивал Суворова в Петербург и еще с одной целью. Благодаря этому ему удалось добиться, что на время отъезда Потёмкина во главе Соединённой армии южной был оставлен Репнин.
К тому же, не исключено, что и Салтыков и Репнин знали о том, что дни Потёмкина сочтены. В этом направлении уже «работали» их соратники. Суворова выманили в Петербург, обещая выгодный брак для его дочери. Затем Салтыков помешал производству Суворова в генерал-адъютанты, да так, что Суворов поначалу считал, что виною тому Потёмкин. Но надо отдать должное Александру Васильевичу в том, что он никогда, никаких действий против Потёмкина не предпринимал. Не был он способен к интригам, его высокая душа была чистой и непорочной.
Ну а помешать получению чина генерал-адъютанта в какой-то степени помогли и бессовестные жалобы оттанцевавшей молодость свою «попрыгуньи-стрекозы» Варвары Ивановны Суворовой. Жену бросил и в генерал-адъютанты? Да и в изменах она не признавалась. Называла всё ложью. Но Суворов никогда и ни в чём лгуном не был…
Конечно, использовался целый комплекс пасквилей.
Группировкой Салтыкова и Репнина была пущена сплетня о якобы имевшей место ссоре Потёмкина с Суворовым, причем ссоре из-за наград. Перепевалось на все лады, что Суворов, мол, обижен «недостойными» наградами и называл их «измаильским стыдом».
Действовал известный масонский принцип: «Клевещи, клевещи, что-нибудь да останется...»
Увы, осталось многое. Осталось и кочует по книгам и фильмам.
А, между тем, Суворов сразу после штурма Измаила отправился в Галац, еще не подозревая о кознях, и там занимался размещением войск и организацией обороны на случай, если турки вдруг все-таки решатся потревожить русские позиции. О том свидетельствуют его доклады главнокомандующему о положении дел в Галаце, где он находился до середины января 1791 года. Затем писал из Бырлада, куда отвёл на зимние квартиры свой корпус, убедившись в неготовности и неспособности турок к каким-либо действиям. Лишь 2 февраля 1791 года Суворов отправился в Петербург, но о том, что он встречался с Потёмкиным в Яссах или Бендерах, документальных свидетельств нет. Существует лишь анекдот, в правдоподобности которого сомневались и автор широко известной в XIX веке монографии «Потёмкин» А.Г. Брикнер, и другие биографы, работы которых не тиражировались подобно тому, как тиражировались издания пасквильные.
Строевой рапорт о взятии Измаила Суворов выслал Потёмкину и на доклад к нему ни в Яссы, ни в Бендеры не ездил. Однако, выдумки врагов Суворова подхватили литераторы нашего времени. Они так старались, так усердствовали, что не удосужились даже сравнить свои опусы и вдуматься, что всяк измышляет на свой лад, но на тему, заданную недругами России.
Тема измышлений: прибытие Суворова в одних случаях в Яссы, в других – в Бендеры и его доклад Потёмкину, устный, заметьте, доклад, коего на самом деле не было.
Описания этой встречи, которой на самом деле не было, можно найти в книгах К. Осипова «Суворов», О. Михайлова «Суворов», Л. Раковского «Генералиссимус Суворов», Иона Друце «Белая Церковь», В. Пикуля «Фаворит» и многих других. Рассказы эти похожи как две капли воды, но авторы домысливали детали – у одних Суворов бежал по лестнице, прыгая через две ступеньки, навстречу Потёмкину, у других Потёмкин спешил обнять победителя, спускаясь к нему. У Пикуля и Осипова всё это происходило в Бендерах, у Михайлова – в Яссах.
Но все перечисленные авторы, в стремлении оговорить Потемкина – тогда это соответствовало идеологическому заказу – не задумывались о том, как они показывают самого Суворова.
Суворову приписывали дерзость, невоспитанность, грубость, словно не понимали, что делают.
Сами посудите, Потёмкин, восхищённый подвигами Суворова, взявшего неприступный Измаил, раскрывает руки для объятий и восклицает:
– Чем тебя наградить мой герой?
Что же плохого в этом вопросе? Почему нужно в ответ дерзить?
Тем не менее, в книге К. Осипова находим такой ответ Суворова:
«– Я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и Государыни, никто меня наградить не может...»
У О. Михайлова Суворов отвечает так:
«– Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и всемилостивейшей Государыни, никто не может!»
У Пикуля примерно также:
«– Я не купец, и не торговаться мы съехались… (почему, съехались? – Н.Ш.) Кроме Бога и Государыни, меня никто иной, и даже Ваша Светлость, наградить не может».
Базарно, не по-военному звучит «Мы съехались». Подчинённый не съезжается с начальником, а коли прибывает по вызову, то именно прибывает на доклад, а не «съезжается».
У остальных описания схожи. И все в один голос объясняют такое поведение Суворова тем, что он вознёсся над Потёмкиным, взяв Измаил. Не будем сравнивать Очаков и Измаил, не будем сравнивать другие победы и Потёмкина и Суворова. Они несравнимы, потому, что каждый делал свое дело во имя России, у каждого была своя военная судьба. И Потёмкин, и Суворов честно исполняли свой сыновний долг перед Великой Россией и не взвешивали на весах, у кого заслуг больше. Это за них решили сделать их недоброжелатели или недобросовестные биографы. Авторам хотелось убедить всех в том, что Потёмкин очень плохо относился к Суворову.
Но тогда почему же по их же выдумке он фейерверкеров по дороге расставил, чтобы торжественнее встретить Суворова? Об этом пишет О. Михайлов. Почему же вышел навстречу с тёплыми словами: «Чем тебя наградить, мой герой?»
Попытка же убедить читателя в том, что Суворов вёл себя дерзко, поскольку вознесся над Потёмкиным, взяв Измаил, вообще порочна и является клеветой на самого Суворова, ибо гордыня – великий грех.
Суворов был искренне и нелицемерно верующим, Православным верующим. Мог ли он быть подвержен гордыне? Греху страшному. Судите сами:
«Начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость (Сир.10, 15);
«Гордость ненавистна и Господу и людям, и преступна против обоих» (Сир. 10, 7)
«Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его» (Сир. 10, 14)
Сердце Суворова никогда от Творца не отступало, и обвинение его в гордости есть большой грех.
Да и «Купец»… «Торговаться», тоже не суворовские слова. Я привёл в предыдущих главах выдержки из писем Суворова к Потёмкину и к его секретарю Попову, в которых и слова другие, и отзывается Суворов о Потёмкине по-иному.
Но, по мнению хулителей, оказывается и Екатерина (судя по выше перечисленным книгам) недовольна была Суворовым, за то, что он, говоря её же словами, наступил на горло туркам и заставил их думать о мире (напомним слова Императрицы о том, что «мир скорее делается, если наступишь им на горло»).
У Пикуля в «Фаворите», к примеру, значится: «Петербург встретил полководца морозом, а Екатерина обдала холодом».
Вячеслав Сергеевич Лопатин писал: «Прибывший в Петербург 3 марта, тремя днями позже Потёмкина, Суворов был достойно встречен при дворе. В знак признания его заслуг, Императрица пожаловала выпущенную из Смольного института дочь Суворова во фрейлины, а 25 марта подписала «Произвождение за Измаил». Награды участникам штурма были обильные. Предводитель был пожалован чином подполковника лейб-гвардии Преображенского полка и похвальной грамотой с описанием всех его заслуг. Было приказано выбить медаль с изображением Суворова «На память потомству» – очень высокая и почётная награда».
А клеветники утверждали, что ссора в Яссах (Бендерах) дорого стоила Суворову, что Потёмкин не захотел его награждать. Но… Вот письмо Потёмкина к Екатерине II: «Если будет Высочайшая воля сделать медаль генералу графу Суворову, сим наградится его служба при взятии Измаила. Но как он всю кампанию один токмо в действии был из генерал-аншефов, трудился со рвением, ему сродным, и, обращаясь по моим повелениям на пункты отдаленные правого фланга с крайним поспешанием, спас, можно сказать, союзников, ибо неприятель, видя приближение наших, не осмеливался атаковать их, иначе, конечно, были бы они разбиты, то не благоугодно ли будет отличить его гвардии подполковника чином или генерал-адъютантом»…
И никто не подумал о том, что подобрать Суворову награду было чрезвычайно сложно. Все высшие ордена России он к тому времени имел. Два раза один и тот же орден в то время не давали. Не было, правда, у него ордена Георгия 4-й степени. Но не награждать же им за Измаил. Этот орден (Георгия 4-й степени) дали позже, по итогам всей кампании, заметив, что только его, по случайности, и не было у Суворова.
Золотая медаль, которая была выбита в честь Суворова, была очень большой и почётной наградой. Такую же медаль получил за Очаков и сам Потёмкин. Как же можно упрекать Светлейшего за то, что он ставил Суворова на свой уровень? То же можно сказать и о чине лейб-гвардии подполковника. Этот чин имел и сам Потёмкин, а полковником лейб-гвардии, была лишь сама Императрица.
Очень часто можно слышать: отчего, мол, Императрица не дала Суворову чин генерал-фельдмаршала? Это говорится без знания дела, без знания положения о производстве в очередные чины, которое существовало при Екатерине II.
Адмирал Павел Васильевич Чичагов в своих «Записках» рассказал об этом достаточно подробно: «Что касается до повышений в чины не в очередь, то Екатерина слишком хорошо знала бедственные последствия, порождаемые ими, как в отношении нравственном, так и относительно происков и недостойных протекций. В начале ее царствования отец мой (адмирал В.Я. Чичагов – Н.Ш.) по наветам своих врагов подвергся опале.
По старшинству производства он стоял выше прочих офицеров, которым императрице угодно было пожаловать чины. Она приказала доложить ей список моряков, несколько раз пересмотрела его и сказала: «Этот Чичагов тут у меня, под ногами»... Но она отказалась от подписи производства, не желая нарушить прав того человека, на которого, по её мнению, имела повод досадовать».
Императрица никогда не нарушала однажды заведенного ею порядка, и Потёмкин, зная об этом, не стал просить для Суворова генерал-фельдмаршальского чина. Всё дело было в том, что Суворов, о чём мы уже говорили, был поздно, по сравнению с другими генералами, записан в полк и не прошёл в детские годы, как было заведено в те давние времена, ряда чинов. Из-за этого многие генерал-аншефы оказались старше его по выслуге, как тогда говорили – по службе. Кстати, в 1794 году Императрица всё-таки произвела его досрочно в генерал-фельдмаршалы за необыкновенные заслуги в Польше. Причем сделать ей это пришлось тайно и указ о производстве огласить нежданно для всех на торжественном обеде в Зимнем дворце, чтобы избежать до времени интриг и противодействий.
Адмирал П.В. Чичагов по этому поводу писал:
«Когда генерал-аншеф Суворов, путём своих удивительных воинских подвигов, достиг, наконец, звания фельдмаршала, она сказала генералам, старейшим его по службе и не повышенным в чинах одновременно с ним: «Что делать, господа, звание фельдмаршала не всегда даётся, но иной раз у Вас его и насильно берут». Это может быть единственный пример нарушения Ею прав старшинства при производстве в высшие чины, но на это никому не пришло даже и в голову сетовать, настолько заслуги и высокое дарование фельдмаршала Суворова были оценены обществом».
Таким образом, награды Суворова за Измаил никак нельзя назвать скромными. Чин подполковника лейб-гвардии был очень высоким, не менее высокой наградой явилась и медаль, выбитая в честь подвигов полководца. За всю русско-турецкую войну 1787-1791 годов было сделано лишь две таких медали, представляющие собой массивные золотые диски. На первой медали был изображён Потёмкин, на второй – Суворов, причём оба в виде античных героев – дань господствовавшим в то время канонам классицизма. Потёмкин награжден за Очаков, Суворов – за Измаил...
Что же касается отношений Суворова и Потемкина, то ложь о ссоре опровергается также и письмом Суворова, датированным 28 марта 1791 года:
«Светлейший Князь Милостивый Государь! Вашу Светлость осмеливаюсь утруждать о моей дочери в напоминовании увольнения в Москву к её тетке Княгине Горчаковой года на два. Милостивый Государь, прибегаю под Ваше покровительство о ниспослании мне сей высочайшей милости.
Лично не могу я себя представить Вашей Светлости по известной моей болезни. Пребуду всегда с глубочайшим почтением...»
Суворов не хотел, чтобы дочь его была фрейлиной и попала в атмосферу интриг, разжигаемых при дворе врагами Императрицы, врагами Потёмкина и его, Суворова, собственными врагами.
Не известно, смог ли Потёмкин помочь своему боевому другу, но известно, что никогда Светлейший Князь не оставлял без внимания просьбы своих ближайших сподвижников и соратников, а тем более Суворова. Весной 1791 года над самим Потёмкиным нависала угроза, исходившая от группировки Салтыкова – Репнина. Он и на сей раз вышел победителем, предотвратил новую войну, на которую толкали Россию Репнин и Салтыков, чтобы ослабить державу и устранить от её управления Императрицу Екатерину Великую.
Разгадал замысел врагов и Суворов. Он порвал с ними все отношения. Потёмкин же отвёл угрозу и от себя, и от Императрицы. И тут же Салтыков нанёс подленький удар Суворову. Его сын публично отказал дочери Суворова в сватовстве. Вот почему Суворов говорил: «Я был ранен десять раз: пять раз на войне, пять при дворе. Все последние раны – смертельные».
Потёмкину было известно и о сватовстве, и о том, что Суворов едва не оказался в стане его врагов, но он не сердился на своего боевого соратника, веря в то, что Суворов не способен на бесчестные поступки.
Узнав, что Суворова направляют в Финляндию, Светлейший сказал А.А. Безбородко:
– Дивизиею погодите его обременять, он потребен на важнейшее.
Потёмкин видел в Суворове своего преемника на посту главнокомандующего Соединённой армией на юге, то есть во главе всех вооруженных сил на Юге России.
Суворов глубоко переживал, что хоть временно, но был близок к стану недругов Потёмкина. Об этом свидетельствуют многие его письма и одно из лучших его стихотворений, в котором были такие строки:
Бежа гонениев, я пристань разорял.
Оставя битый путь, по воздухам летаю.
Гоняясь за мечтой, я верное теряю.
Вертумн поможет ли? Я тот, что проиграл...
Прекрасно знавший мифологию, Суворов не случайно упомянул этрусское и древнегреческое божество садов и огородов Вертумн…
В стихотворении он намекал на свою возможную отставку, которой не произошло, потому что Потёмкин слишком высоко ценил Суворова, и столь же высоко ценила его Императрица.
В последний раз Потёмкин с Суворовым виделись 22 июня 1791 года в Царском Селе, а вскоре Григория Александровича вновь позвали дела на театр военных действий.
Когда Потёмкина не стало, Суворов горько переживал утрату. Он сказал о Светлейшем Князе: «Великий человек и человек великий. Велик умом, высок и ростом».
Суворов вскоре понял как ему тяжело без защиты Потёмкина.
«Мусие-Мадама» в союзе с «фельдмаршалами при пароле»
В борьбе против Суворова особенно неистовствовали Н.И. Салтыков и Н.В. Репнин. В сентябре 1792 года Александр Васильевич Суворов писал Д.И. Хвостову:
«…Дерзость и скрытность…
Репнин при незнатном рассудке, который опрокидываю простоестественностью, – он бесстрашен, лишь не давать выигрывать пути. Паче с отношением благовидности начнёт он на меня мину в нежности к Мусие-Мадама, собрав из Москвы довольно на заряд…»
Суворов называет свою супругу, которая, по подозрению, вступила в сговор с его врагами – Мусие-Мадама и заявляет кругом, о том, что любит мужа, но брошена им.
Но и это ещё не всё. Начались материальные претензии. И ходатай нашёлся, трусливый, не нюхавший пороху Николай Зубов. Это он, подвыпив для храбрости, в трагическую ночь 11 марта 1801 года, заявившись с толпой убийц в опочивальню Павла Петрович, успеет умыкнуть и положить в карман камзола золотую табакерку Императора. А когда возникнет конфликт, достанет её и нанесёт ею удар в висок Государю, который был безоружен перед трусливой омерзительной и оттого ещё более жестокой толпой остепенённых уголовных преступников.
Ну а во второй половине девяностых Зубов постоянно приставал к Суворову, пытаясь урвать что-то себе за посредничество между ним и его супругой, поскольку был женат на их дочери Наташе. Суворов отвечал спокойно и твёрдо:
Граф Николай Александрович!
Я слышу, что Варвара И(ановна) желает жить в моём моск (овском) дому. С сим я согласен, и рождественский дом к её услугам! Только, Милостивый Государь мой! Никаких бы иных претензиев не было, знамо, что я в немощах….
А.С.
И приписка: «150 000. Боже мой! Какая несправедливость… Андрей легко докажет!»
«Пропевшая» свою молодость стрекоза теперь нашла источник дохода. Как же, у неё ведь совести-то, конечно, нет, но есть муж! В октябре 1797 года В.И. Суворова написала Александру Васильевичу письмо, в котором просила уплатить 22 000 рублей долга, увеличить её годовой содержание и разрешить жить в московском доме.
Вячеслав Сергеевич Лопатин по этому поводу пишет:
«Николев донёс генерал-прокурору Куракину об ответе Суворова через Дубасова, что де «он сам должен, а посему и не может её помочь, а впредь будет стараться».
Куракин доложил Императору. Ну а тот повелел:
«Сообщить графине Суворовой, что она может требовать от мужа по законам».
В.И. Суворова воспользовалась случаем и подала генерал-прокурору письмо, в котором жаловалась на то, что она не имеет собственного дома и ничего потребного для содержания себя и что, наконец, она была бы совершенно счастлива и «благоденственно проводила бы остатки дней своих, если бы могла жить в доме своего мужа» с 8 000 годового дохода.
Прошение было доложено Павлу I. 26 декабря 1797 года последовало высочайшее повеление: объявить Суворову, чтобы он выполнил желание жены».
По отношению к долгам жены Суворов был твёрд. На письма своего зятя Н.А. Зубова он ответил довольно резко:
«Я ведаю, что Гр (афиня) В (арвара) И (вановна) много должна. Мне сие постороннее.
О касающемся до разделения моего собственного имения по наследству, прилагаю при сём копию с Высочайшего рескрипта, пребуду с истинным почтением».
Письмо написано из Кончанского и датировано 17 октября 1798 года.
Кстати, в Кончанском Суворов находился вовсе не в ссылке, как это пытаются утверждать многие историки. В царствование Императора Павла Петровича он дважды выезжал в Кончанское. Первый раз действительно было что-то похожее на ссылку, во всяком случае, было повеление Императора на тот отъезд, но потом сам же Павел сообщил, что обид не держит… Ну а во второй раз… Собственно, тут двумя словами не скажешь. Пора уже разоблачить укоренившуюся лож, в конце повествования поговорим об этом подробно, основываясь не на сплетнях, а на документах.
Возвращаясь же к письму о наследстве, вновь обратимся к комментариям, в которых Вячеслав Сергеевич Лопатин указал, что Александр Васильевич Суворов «увеличив по повелению Императора содержание В.И. Суворовой с 3 000 до 8 000 рублей в год и предоставив ей свой московский дом, отказался платить её долги».
О завещании же написано:
«Рескриптом от 2 октября 1798 года Павел Iутвердил завещание Суворова, по которому сыну оставлялись в наследство все родовые отцовские и за службу пожалованные деревни с московским домом и высочайше жалованные вещи и бриллианты, а дочери – все купленные деревни и его собственные бриллианты. В.И. Суворова не получила ничего».
Сына он, в конце концов, всё-таки признал.
Что же касается отношений с Императором Павлом, то тут необходимо всё же кое-что прояснить.
Существует предание, что Императрица Екатерина Великая планировала сделать наследником престола не сына Павла Петровича, а своего любимого старшего внука Александра Павловича и что даже подготовила соответствующий манифест.
Павел знал о манифесте и вполне мог знать о том, что Суворов был в числе тех, кто подписал манифест. Но Император не собирался никого преследовать. Петра Александровича Румянцева он пригласил к себе в первые же дни царствования, чтобы сделать советником. Румянцев, получив известие о смерти Екатерины Великой, умер от удара.
А.А. Безбородко, видимо, имел свой взгляд на то, кто должен царствовать в России. Когда они с Павлом в день смерти Государыни разбирали бумаги в ее кабинете, тот нашёл пакет, на котором рукой Екатерины II было начертано: «Вскрыть после моей смерти». Он посмотрел на Безбородко, словно спрашивая, что делать. Тот указал глазами на камин. Павел бросил пакет в камин. Так, скорее всего, закончил свой путь манифест, если таковой был.
Суворов оставался в Тульчине и никаким опалам не подвергался. Павел с уважением относился к великому полководцу. Но против Суворова были настроены старые враги, которые на первых порах царствования Павла заняли высокие положения, а Репнин и Салтыков даже получили чины генерал-фельдмаршалов. Суворов назвал их «фельдмаршалами при пароле», намекая на то, что получили они чины не за боевые победы, а выклянчили их за вахт-парады.
Графиня В.Н. Головина проливает в своих воспоминаниях свет на истинную причину первой опалы Суворова.
«Во время коронации, – писала она, – князь Репнин получил письмо от графа Михаила Румянцева (сына фельдмаршала), который служил тогда в чине генерал-лейтенанта под командой Суворова. Граф Михаил совсем не походил на своего отца, был самый ограниченный человек, но очень гордый человек и, сверх того, сплетник, не хуже старой бабы. Суворов обращался с ним по заслугам. Граф оскорбился и решил отомстить. Он написал князю Репнину, будто Суворов волнует умы, и дал ему понять, что готовится бунт. Князь Репнин чувствовал всю лживость этого известия, но не мог отказать себе в удовольствии подслужиться и навредить Суворову, заслугам которого он завидовал. Поэтому он сообщил письмо графа Румянцева графу Ростопчину... Этот последний представил ему насколько опасно возбуждать резкий характер Императора. Доводы его не произвели, однако, никакого впечатления на кн. Репнина: он сам доложил письмо Румянцева Его Величеству, и Суворов подвергся ссылке».
Трудно сказать, поверил ли Павел I Репнину, но, скорее всего, сыграло роль то, что Император мог догадываться о подписи Суворова на манифесте. Могло сыграть роль и то, что дочь Суворова Наташа была замужем за Николаем Зубовым, в котором Павел не без оснований на то чувствовал врага.
27 января 1797 года Суворов был отстранён от командования дивизией, а 6 февраля отстранён от службы.
Возле Императора по существу не осталось высоких военных чинов Румянцевской, Потёмкинской, Суворовской школы. А между тем Павел, ещё будучи Великим Князем, имел возможность наблюдать не действующую армию во всем блеске её побед, а разлагающуюся столичную гвардию в блеске балов, парадов и театральных выездов.
В гвардии служила знать, причём, зачастую, далеко не лучшая её часть. В гвардии служили отпрыски крупнейших землевладельцев, а, следовательно, рабовладельцев России, в гвардии не служили, а выслуживали себе чины. Один из гвардейских офицеров так вспоминал о своей службе:
«При Императрице мы думали только о том, чтобы ездить в театры, в общество, ходили во фраках…»
В те времена Н.И. Салтыков, в ведении которого находилась гвардия, завёл весьма обременительные для казны порядки и правила. Каждый гвардейский офицер должен был иметь шестёрку или четвёрку лошадей, самую модную карету, с десяток мундиров, роскошных и дорогостоящих, несколько модных фраков, множество слуг, егерей и гусар в расшитых золотом мундирах.
Андрей Тимофеевич Болотов писал:
«Господа гвардейские полковники и майоры делали, что хотели; но не только они, но даже самые гвардейские секретари были превеликие люди и жаловали, кого хотели, деньгами. Словом, гвардейская служба составляла сущую кукольную комедию».
Один из последних при Екатерине рекрутских наборов, во время которого призыв рекрут осуществлялся с их жёнами, был разворован почти на четверть. Рекруты и их семьи стали крепостными у Н.И. Салтыкова и Н.В. Репнина, и их сподвижников.
Павел Первый понимал, что реорганизация армии необходима но, как отмечает Борис Башилов в книге «История Русского масонства», «безусловной ошибкой Павла I было только то, что реорганизуя русскую армию, он взял за основу её реорганизации не гениальные принципы Суворова, а воинскую систему прусского короля Фридриха II».
Это не было случайностью. Во время одной из своих зарубежных поездок Павел был поражен строгой дисциплиной и безукоризненным внешним видом прусского воинства. Но он не понял, что это лишь фасад несуществующего здания. Свои боевые возможности прусская фридриховская система продемонстрировала позднее, в октябре 1806 года под Йеной и Ауерштедтом, когда прусская армия была наголову разбита Наполеоном. Павел же, вступив на престол, взял тот привлекательный фасад, взял его в виде формы одежды, ненужных и обременительных излишеств.
Между тем, 20 сентября 1797 года Суворов, написал Императору короткую записку:
«Ваше Императорское Величество с Высокоторжественным днём рождения всеподданнейше поздравляю... Великий монарх! Сжальтесь: умилосердитесь над бедным стариком, простите, ежели в чём согрешил...».
12 февраля 1798 года Павел I повелел генерал-прокурору Куракину:
«Генерал-фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому всемилостивейше дозволяем приехать в Петербург, находим пребывание коллежского асессора Николаева в Боровицких деревнях ненужным…»
А тут ещё Гавриил Романович Державин написал оду «На возвращение графа Зубова из Персии», в которой были такие слова:
Смотри, как в ясный день, как в буре
Суворов твёрд, велик всегда!
Ступай за ним! – небес в лазуре
Ещё горит его звезда.
В тот же день 12 февраля он отдал распоряжение не только Куракину. Он сделал рескрипт князю Андрю Горчакову:
«Ехать Вам, князь, к графу Суворову, сказать ему от меня, что есть ли было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет поводу подавать своим поведением к наималейшему недоразумению».
Племянник Суворова прискакал в Кончанское, но Суворов, узнав о цели приезда, рассердился. Едва удалось Горчакову уговорить его ехать в столицу.
В конце февраля Суворов прибыл в Петербург и уже 28 февраля был приглашён во дворец на обед.
Но на этот раз Суворов просто не мог сдержаться, чтобы не дать повода «своим поведением к наималейшему недоразумению», ибо полководца до глубины души возмутили нововведения и подражание прусской фридриховской системе.
Как всегда острый на язык, Суворов не сдерживал себя: «Я лучше прусского покойного великого короля, я, милостию Божией, батальи не проигрывал. Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?» Или: «Пудра не порох, букли не пушка, коса не тесак, а я не немец, а природный руссак. Немцев не знаю – видел только со спины».
А на предложение Императора продолжить службу, отвечал через Горчакова:
«Инспектором я уже был в генерал-майорском чине. А теперь уж мне поздно опять в инспекторы идти. Пусть меня сделают главнокомандующим, дадут мне прежний мой штаб, развяжут мне руки, что я мог производить в чины, не спрашиваясь. Тогда, пожалуй, пойду на службу. А нет – лучше назад, в деревню. Пойду в монахи…»
Горчаков сказал, что такое передать не может. Тогда Суворов заявил:
«Ну, тогда передавай, что хочешь, а от своего не отступлюсь».
Известный биограф Суворова А.Ф. Петрушевский отметил, что Александр Васильевич не упускал случая «осмеять новые правила службы, обмундирование, снаряжение – не только в отсутствии, но и в присутствии Государя».
Павел долгое время «переламывал себя и оказывал Суворову необыкновенную снисходительность и сдержанность, но вместе с тем недоумевал о причинах упорства старого военачальника».
И всё-таки, в конце концов, это Императору надоело, и когда Суворов сказал, что хочет вернуться в своё имение, тот ответил:
«Я вас не задерживаю»
А хозяйственные дела не радовали. Вскрылось воровство зятя Николая Зубова, присваивавшего себе доходы с Кобринского имения, которое дано было в счёт приданого Наталье Александровне. Суворов прервал с ним всякое общение.
Продолжали накапливаться раны далеко не военные, а раны, которые наносили неурядицы семейные. Дочь Наташа, его любимая Суворочка, была замужем за негодяем, потенциальным преступником, уже пойманным на воровстве, но… Суворов не дожил до того момента, когда Зубов стал соучастником зверского убийства.
О его контактах с сыном сведений почти не сохранилось. Возможно, Александр Васильевич так до конца и не был уверен, что это его сын, но признал его на том основании, что ребёнок не виноват в содеянном его матерью.
А впереди была ещё одна блистательная военная кампания, в которой, кстати, участвовал и Аркадий Суворов.
«Тебе спасать царей!..»
Ещё Императрица Екатерина II всерьёз задумывалась о том, что нужно спасать монархические режимы Европы.
По словам А.С. Пушкина: «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна». И всё же монархическая Европа была ближе России, нежели «демократическая» Англия. Англия только на словах противостояла революционной Франции, на самом деле она противостояла Франции, как государству, поскольку пришло время вновь переделить лакомые куски или так называемые рынки сбыта и колонии.
Противостоять наполеоновским войскам Европа оказалась не в состоянии, австрийские военачальники просто трепетали перед наполеоновскими генералами и маршалами. И тогда по инициативе Англии Австрия обратилась к Императору Павлу с просьбой прислать на театр войны Суворова, чтобы поставить его во главе союзных армий. Австрийцы хорошо помнили Суворова, помнили о совместных победах над турками.
Павел, не колеблясь, дал согласие и направил Суворову личное послание:
«Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании венского двора, чтобы Вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпуса Розенберга и Германа идут. И так по сему и при теперешних европейских обстоятельствах долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других предложить Вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену… Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы Вашей время, у меня удовольствия Вас видеть. Пребываю Вам доброжелательным. Павел».
Суворов тосковал в Кончанском без дела. Коллежский советник Ю.А. Николаев, надзиравший за Суворовым, оставил уникальные свидетельства о том, как жил полководец в Кончанском до последнего своего похода:
«Графа нашёл в возможном по летам его здоровье. Ежедневные его упражнения суть следующие: встаёт до света часа за два; напившись чаю, обмывается холодной водою, по рассвете ходит в церковь к заутрене и, не выходя, слушает обедню, сам поет и читает; опять обмывается, обедает в 7 часов, ложится спать, обмывается, служит вечерню, умывается три раза и ложится спать. Скоромного не ест, но весь день бывает один и по большей части без рубашки, разговаривая с людьми. Одежда его в будни – канифасный камзольчик, одна нога в сапоге, другая в туфле. В высокоторжественные дни – фельдмаршальский без шитья мундир и ордена; в воскресные и праздничные дни – военная и егерская куртка и каска...»
И вдруг снова в бой... В своём обычном духе он отдал распоряжение старосте:
«Матушинскому приказ! Час собираться, другой отправляться, поездка с четырьмя товарищами; я в повозке, они в санях. Лошадей осьмнадцать, а не двадцать четыре. Взять на дорогу двести пятьдесят рублей. Егорке бежать к старосте и сказать, чтобы такую сумму поверил, потому что я еду не на шутку. Да я ж служил за дьячка, пел басом, а теперь поеду петь Марсом...»
Император тепло принял Фельдмаршала и объявил, что жалует его орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Этот орден был введён Павлом в качестве высшего военного ордена. Награждения орденом св. Георгия в годы его правления не производились.
– Господи, спаси Царя! – воскликнул Суворов, приняв орден.
– Тебе спасать царей, – ответил на это Павел.
– С тобою, Государь, возможно! – воскликнул Суворов.
15 марта 1799 года Александр Васильевич прибыл в Вену. Горожане восторженно встретили его. Повсюду раздавалось: "Да здравствует Суворов!" Император Франц пожаловал полководца чином фельдмаршала.
Суворов уже был знаком с австрийскими военачальниками, знал о их боязливости и нерешительности, о их непомерной медлительности. Поэтому во время встреч с императором он деликатно, но требовательно просил позволения по вопросам боевых действий контактировать непосредственно с ним, минуя военного министра. Несмотря на протесты барона Тугута, император дал согласие на это. Тугут пытался выведать у Суворова его планы. Тот вручил ему свиток чистой бумаги и заявил: «Вот мои планы!»
Впрочем, общий план ведения войны против Бонапарта Суворов начертал еще в Кончанском, где долгими ночами анализировал тактику действий французских войск, анализировал ошибки противостоящих сторон.
Развивая стремительное наступление, войска Суворова атаковали неприятеля 16 и 17 апреля у реки Адда и нанесли ему полное поражение. Значительная часть французских войск была отрезана и капитулировала. Один из лучших наполеоновских генералов Моро попытался отойти к Милану, но Суворов отрезал ему путь и заставил отходить к Турину.
Первую сотню французских пленных Суворов отпустил со словами:
«Идите домой и объявите землякам вашим, что Суворов здесь...»
В сражении у реки Адда в плен вместе со своими войсками попал генерал Серюрье, бесстрашно сражавшийся в первых рядах своих воинов. Суворов вернул ему шпагу и сказал:
«Кто ею владеет так, как вы, у того она неотъемлема».
Французский генерал, прослезившись, стал просить освободить и его солдат. Суворов покачал головой и заметил:
«Эта черта делает честь вашему сердцу. Но вы лучше меня знаете, что народ в революции есть лютое чудовище, которое должно укрощать оковами».
17 апреля Суворов вступил в Милан.
Узнав о первых блестящих победах в Италии, Император Павел I направил Суворову перстень со своим портретом, осыпанным бриллиантами.
«Примите его, – писал он, – в свидетели, знаменитых дел ваших и носите на руке, поражающей врагов благоденствия всемирного».
Император вызвал к себе пятнадцатилетнего Аркадия Суворова, милостиво принял его и, назначив своим генерал-адъютантом, направил в Италию, чтобы тот неотлучно состоял при отце. Наставляя Аркадия, Император сказал:
«Поезжай и учись у него. Лучшего примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу».
Император Павел послал в Италию не только сына Суворова Аркадия, но и своего сына Константина Павловича, чтобы тот тоже набирался опыта и учился одерживать победы.
Победы Суворова буквально потрясали Европу. Император Павел писал ему:
«Граф, Александр Васильевич. В первый раз уведомили вы нас об одной победе, в другой, о трёх, а теперь прислали реестр взятым городам и крепостям. Победа предшествует вам всеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам вашим. Освободите её от ига неистовых разорителей; а у меня за сие воздаяние для вас готово. Простите. Бог с вами. Прибываю к вам благосклонный».
Суворов был все время на линии огня, не сходя со своей казачьей лошади. В результате блистательной победы французы только пленными потеряли 18 тысяч человек. Русские взяли 7 знамён и 6 пушек.
Италия была освобождена... Сардинский король, восхищённый подвигами Суворова, прислал ему свои ордена и медали и объявил о производстве в чин генерал-фельдмаршала королевских войск и пожаловании княжеского достоинства с титулом своего родного брата, а также заявил о своем желании воевать под знаменем Суворова в армии Италийской.
За «освобождение всей Италии в четыре месяца от безбожных завоевателей» Император Павел наградил Суворова своим портретом, осыпанным бриллиантами, и пожаловал титул Князя Российской Империи с титулом Италийского, распространенным на все потомство.
В очередном рескрипте Павел Первый назвал Суворова первым полководцем Европы. Он писал, что не знает чем ещё можно вознаградить подвиги его, что Суворов поставил себя выше наград, что Он, Император, повелевает гвардии и всем войскам, даже в присутствии Своем, отдавать почести, подобные императорским.
Во время Итальянского похода Суворов выиграл 10 сражений, захватил около 3 тысяч орудий, 200 тыс. ружей, взял 25 крепостей и пленил свыше 80 тысяч французов.
А впереди ждала Швейцария, где Суворову предстояло принять под командование все российские войска и вооруженных Англией швейцарцев, чтобы совместно с действующими на флангах группировки войсками эрцгерцога Карла и генерала Меласа развернуть наступление на французский город Франш-Конте.
Впереди были Альпы, впереди были грозные утёсы и скалы Сен-Готарда. Суворов писал в одном из донесений:
«На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверзтые, поглотить готовые гробы смерти. Дремучие мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди и густой туман облаков при шумных водопадах, с каменных вершин низвергавшихся, увеличивали трепет».
Чтобы достичь Швейцарии, войскам Суворова предстояло преодолеть гору Сен-Готард и подобную ей гору Фогельберг, причём преодолеть с постоянными боями. Пройти через темную горную пещеру Унзерн-лох; перебраться через Чёртов мост, разрушенный неприятелем. Приходилось связывать доски офицерскими шарфами, перебрасывать их через пропасти, спускаться с вершин в бездонные ущелья. Суворов писал:
«Наконец, надлежало восходить на снежную гору Биншнер-Берг, скалистою крутизною все прочие превышающую, утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против и посреди водопада, низвергавшегося с ревом, и низрывавшего с яростью страшные камни, снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми с величайшим стремлением летели в преисподние пучины, где многие убивались, а многие спасались...»
Союзники изменили, бросили русских на произвол судьбы. Австрийские штабные офицеры подсунули карты, на которых не было указано нужных маршрутов.
В самые трудные минуты перехода Суворов говорил: «Не дам костей своих неприятелям. Умру здесь и иссеките на камне: Суворов – жертва измены, но не трусости».
За время тяжелейшего альпийского перехода русские пленили 3 тысячи французов, в числе которых был один генерал, взяли знамя. Сами же потеряли 700 человек убитыми и 1400 ранеными. Когда Императору Павлу доложили, что австрийцы предали Суворова, что русские войска остались без продовольствия, что боеприпасы у них на исходе, он мысленно простился и с полководцем, и с сыном Константином, и с армией… Но вдруг в день бракосочетания Великой Княжны Александры Павловны в Гатчину прискакал курьер с новыми реляциями...
Радости Императора не было предела. И одна лишь мысль не давала ему покоя: чем наградить героя? И он написал Суворову:
«Побеждая повсюду и во всю жизнь Вашу врагов Отечества, недоставало Вам ещё одного рода славы: преодолеть самую природу, но Вы и над ней одержали ныне верх. Поразив ещё раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистью против нас вооруженных. Ныне, награждая Вас по мере признательности Моей, и ставя на высший степень, чести и геройству представленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего полководца сего и других веков».
Высокое и почетное достоинство Генералиссимуса Российского было наградой Суворову. Кроме того, по приказу Императора была вылита бронзовая статуя полководца «на память потомству». Император Франц прислал Суворову орден Марии Терезии первой степени Большого Креста и представил ему пожизненное звание своего фельдмаршала с соответствующим жалованием.
Между тем, Император Павел окончательно убедился, что союзники России в этой войне думают только о своих интересах, они лживы и не надежны.
О том прямо указывается на невозможность воевать в таком странном союзе:
«Видя войска Мои, оставленные и таким образом переданные неприятелю, политику, противную Моим намерениям, и благосостояние Европы, принесённое в жертву, имея совершенный повод к негодованию на поведение Вашего министерства, коего побуждений не желаю знать, Я объявляю Вашему Величеству с тем же чистосердечием, которое заставило Меня лететь на помощь к Вам и способствовать успехам Вашего оружия, что отныне общее дело прекращено, дабы не утвердить торжества в деле вредном».
Направил Император и письмо Суворову:
«Обстоятельства требуют возвращения армии в свои границы, ибо все виды венские те же, а во Франции перемена, которой оборота терпеливо и, не изнуряя себя, Мне ожидать должно...»
Получив приказ о возвращении в Россию, Суворов произнёс слова, ставшие пророческими: «Я бил французов, но не добил. Париж мой пункт – беда Европе!»
Только Суворов в то время предвидел грядущие беды. Кто мог подумать, что несомненные успехи во внешней политики, сделанные Императором Павлом и графом Федором Васильевичем Ростопчиным, после гибели императора от рук злодеев, выполняющих заказ прежде всего английских политиков, будут сведены к нулю Александром, и Европу сотрясут новые войны, волна которых докатится до сердца России, до Москвы.
В Праге Суворов получил письмо Императора с приглашением в столицу: «Князь! Поздравляю Вас с Новым годом и, желая его Вам благополучно, зовy Вас к себе. Не Мне, Тебя, Герой, награждать, Ты выше мер Моих, но Мне чувствовать сие и ценить в сердце, отдавая Тебе должное...»
Перед отъездом Суворов зашёл поклониться праху австрийского полководца Лаудона. Прочитав пространную надпись на обелиске, в которой перечислялись успехи, награды, победы, сказал:
«Нет! Когда я умру, не делайте на моём надгробии похвальной надписи, но скажите просто: «Здесь лежит Суворов».
«Молю Бога, да возвратит мне героя Суворова!»
Весь поход Суворов выдержал, ни разу не заболев, превосходно чувствовал он себя и в Праге. Но едва получил приглашение в Петербург, едва лишь двинулся в путь, как начались недомогания, усиливавшиеся с каждой верстой, приближавшей его к России, к Императору. Ни один из биографов, ни один из историков не дал аргументированного объяснения этому. Указывали на старые раны, на старые болячки и тому подобное. И никто не обратил внимание на то, что в приезде Суворова в Петербург никак не были заинтересованы его враги и те, кто готовил устранение Павла I, не оправдавшего надежд закулисы и проводившего русскую национальную политику, политику возвышения Державы Российской.
Фон дер Пален был просто в ужасе. Он, сосредоточивший в своих руках власть, которая позволяла тихо и незаметно готовить злодейское убийство Императора, отлично понимал, что по прибытии Суворова в столицу, покушение на жизнь Царя может быть сорвано. Суворов был монархистом, он был за Православную Самодержавную власть, он был неподкупен и тверд. К тому же интриги минувших лет, острие которых было направлено против него, научили его многому, научили отличать друзей от врагов.
К этому следует добавить, что соглядатаи Палена не давали покоя Суворову не только во время и первого, и второго пребывания в Кончанском, но и на протяжение всего похода. Активизировались они и теперь, когда Суворов спешил в Петербург.
Авторитет Суворова в стране и в армии был настолько высок, что добрые отношения его с Императором становились лучшей защитой для самого Императора.
Значит, нужно было не допустить приезда Суворова в Петербург... История не сохранила нам точных данных о том, что Суворов был отравлен Паленом, но таковые догадки появлялись у многих историков и биографов, есть и факты, касающиеся попыток отравить великого полководца еще во время похода. Но это все приписывалось обыкновенно неприятелю.
Военный губернатор Петербурга и почт-директор фон дер Пален, явившийся в Россию "на поиск счастья и чинов", действовал, несомненно, не только клеветой, но и более сильным оружием. Человек, который не остановился перед тем, чтобы поднять руку на Императора, не остановился и перед символом Русской славы, перед Суворовым?
Первая задержка Суворова в пути по причине ухудшения здоровья была сделана в Кобрине, неподалеку от Гродно. Узнав о болезни полководца, Павел немедленно послал лейб-медика Вейкарта, чтобы тот оказал помощь Суворову, и теплое письмо:
«Молю Бога, да возвратит Мне героя Суворова. По приезде в столицу узнаете Вы признательность к Вам Государя, которая однако ж не сравняется с Вашими великими заслугами, оказанными Мне и государству».
Итак, помогать Суворову выехал Вейкарт. В своё время Ивану Грозному тоже помогал чужестранец. Чужестранцы "лечили" Императрицу Екатерину, чужестранец Аренд, близкий к кругам, организовавшим убийство Пушкина на Чёрной речке, продолжил дело Дантеса уже другими, врачебными методами. Чужестранцы "работали" над здоровьем Императора Николая Первого. Один из них, правда, не медик, оставил для своих потомков даже сообщение о своей "работе" над здоровьем Императора.
Недавно Г.С. Гриневич расшифровал таинственную надпись на чугунной ограде МВТУ, которую оставил там архитектор Доминико Жилярди:
«Хасид Доминико Жилярди имеет в своей власти повара Николая I»
Серьезная информация к размышлениям о болезни Суворова…
После "помощи" лейб-медика путь Суворова в Петербург стал ещё более печален. Единственное утешение – это торжественные встречи в каждом городишке, в каждом населенном пункте. Приветствовать великого полководца выходили толпы народа. Но лишь однажды, остановившись в Риге на празднование Пасхи, Суворов смог надеть свой парадный мундир со всеми орденами. Вскоре он не мог уже встать на ноги.
Пален же не останавливался и на этом, он открыл беспрецедентную, бессовестную кампанию клеветы на Суворова.
Борис Башилов пишет по этому поводу:
«Боясь, что возвращавшийся из Европы Суворов может помешать цареубийству, Пален постарался представить поведение Суворова так, как будто он все время систематически нарушает распоряжения Императора. Пален докладывал Павлу I, что во время походов в Европе, солдаты и офицеры неоднократно нарушали военные уставы: рубили на дрова алебарды, не носили ботинок и так далее.
Пален клеветал, что, став кузеном Сицилийского короля, Суворов зазнался и ни во что не ставит награды, которыми отличил его Император, и что при этом он намеренно не торопится в Петербург, где Павел хотел оказать ему триумфальную встречу и отвести покои в Зимнем Дворце. При каждом
удобном случае Пален продолжал наговаривать Павлу о "вызывающем поведении" Суворова. Так, 19 марта, сделав скорбную физиономию, он доложил, что Суворов будто бы просит разрешения носить в Петербурге австрийский мундир.
Поведение австрийских генералов во время Итальянского похода Суворова глубоко возмутило Павла и он пошел на разрыв с Австрией. И вдруг Суворов, по донесениям которого Павел принял решительные меры, хочет ходить в Петербурге в австрийском мундире. Это мнимое желание Суворова вызвало вспышку гнева у Павла. Пален подогрел её, сообщив Павлу о других дерзких "нарушениях" Царской воли со стороны Суворова.
Когда мы анализируем причины перемены отношения Павла I к высоко им самим вознесенному Суворову, то не следует забывать также, что дочь Суворова была замужем за Зубовым (Николай Зубов – брат последнего фаворита Екатерины), одним из участников заговора против Павла. Павел мог подозревать, что муж дочери Суворова участвует в заговоре против него...»
Добавим к тому, что широко известно отношение Павла к окружению его матери Императрицы Екатерины II. Если Павел I с трудом мог принимать в свое время, будучи еще Великим Князем, Потёмкина, человека высочайших достоинств, то что можно сказать о проходимцах, типа Зубова! Он их терпеть не мог. Николай Зубов даже побывал в ссылке.
«Павел, чувствовавший, что дни его близятся к концу, может быть подозревал, что и Суворов состоит в числе тех, кто желает его лишить престола», – писале Б. Башилов.
К сожалению, не было никакой возможности объясниться между собой двум великим людям России – Суворову и Императору Павлу. Окружение Павла делало все, чтобы этого не произошло. Борис Башилов указывает, что и Зубовы не были в стороне, всячески подстрекая Суворова на нетактичные выпады против Павла, которых было более чем достаточно после возвращения Суворова из первой ссылки.
А между тем, по замыслу Императора, в Нарву для встречи Суворова должны были быть высланы дворцовые экипажи. Суворов должен был въехать в Петербург под колокольный звон и пушечный салют, гвардия должна была встречать его в почетном карауле.
Но клевета сделала своё дело, и Суворов въехал в Петербург незаметно, поздним вечером 20 апреля. И остановился он не в специально отведенных для него великолепных покоях Зимнего Дворца, а в квартире графа Хвостова, женатого на родной племяннице полководца княгине Горчаковой.
21 апреля к нему прибыл канцлер Федор Васильевич Ростопчин, которому Император поручил справиться о здоровье полководца. Ростопчин был почитателем Суворова и верным сподвижником Императора. В скором времени и самого Ростопчина ждали наветы и опала, поскольку и он являлся помехой в осуществлении цели, поставленной заговорщиками. Ростопчин привёз Суворову орден Св. Лазаря, присланный Людовиком XVIII, и теплое письмо французского короля. Узнав, что письмо пришло из Митавы, Суворов с горечью сказал:
– Так ли прочитали? Французский король должен быть в Париже, а не в Митаве...
Направление к Суворову Ростопчина свидетельствовало о тех противоречивых чувствах, которые боролись в душе императора. То, что Суворов остановился не во дворце, а, по причине болезни, в доме Хвостова, было объяснено Паленым на свой лад. Пален заявил Императору, что полководец считает, будто победы вознесли его над Императором, который сам должен явиться к нему на поклон. И, когда Суворов, не имея сил ехать во дворец, передал свою просьбу Императору навестить его, Павел вполне мог подумать, что фон дер Пален прав.
И всё же он послал к полководцу графа И.П. Кутайсова. Но Кутайсов не относился к числу сановников, достойных уважения. Н.И. Греч в «Записках о моей жизни» так описал свидание Кутайсова с Суворовым:
«Кутайсов вошёл в красном мальтийском мундире с голубою лентою через плечо.
– Кто вы, сударь? – спросил у него Суворов.
– Граф Кутайсов.
– Кутайсов? Кутайсов? Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что же вы такое по службе?
– Обер-шталмейстер.
– А прежде чем были?
– Обер-егермейстером.
– А прежде?
Кутайсов запнулся.
– Да говорите же?
– Камердинером.
– То есть вы чесали и брили своего господина.
– То.. Точно так-с.
– Прошка! – закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофию. – Ступай сюда... Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты вечно пьян и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.
Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил Императору, что князь в беспамятстве и без умолку бредит».
5 мая Суворов почувствовал себя совсем плохо и позвал священника... Ночью он метался в бреду, отдавая какие-то приказания слабеющим голосом – последние мысли в угасающем его сознании были на полях сражений, где провел он свои лучшие годы.
«Горжусь, что я русский», – любил повторять он и никогда не ронял чести и достоинства Великоросса.
Скончался он 6 мая 1800 года во втором часу пополудни.
Н. Греч писал: «Не помню с кем, помнится с батюшкою, поехал я в карете, чтоб проститься с покойником, но мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами... Россия оплакивала Суворова...»
Граф фон дер Пален неистовствовал и в те дни. Его агенты доносили ему о тех, кто осмеливался прощаться с Суворовым. По его приказу выделили для траурной церемонии лишь гарнизонные батальоны.
Гвардию он использовать для этого запретил. Но продажный и лживый ловец счастья и чинов был не в силах остановить огромные массы народа, выражавшие свою боль и горечь по поводу кончины Суворова.
Далее Николай Греч писал: «Я видел похороны Суворова из дома на Невском проспекте... Перед ним несли двадцать орденов... За гробом шли три жалкие гарнизонные баталиона. Гвардию не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым несли его тело, и воздавал честь великому гению России. И в Павле доброе начало, наконец, взяло верх. Он выехал верхом на Невский проспект и остановился на углу императорской библиотеки. Картеж шел по Большой Садовой. По приближении гроба Император снял шляпу, перекрестился и заплакал...»
Адъютант Императора впоследствии вспоминал, что всю ночь Павел Петрович ворочался, долго не мог заснуть и все время повторял:
«Как жаль, как жаль...»
Это относилось к Суворову...
Много лет знавший Суворова, восхищавшийся им, переписывавшийся с ним Гавриил Романович Державин 7 мая написал своему другу Н. Львову:
«Герой нынешнего, а может быть и многих веков, князь Италийский с такою же твердостью духа, как во многих сражениях, встречал смерть, вчерась в 3 часа пополудни скончался...»
И закончил стихотворением:
О вечность! прекрати твоих шум вечных споров,
Кто превосходней всех героев в свете был.
В святилище твоё от нас в сей день вступил
Суворов.
Вернувшись с похорон Суворова, Державин услышал как снегирь высвистывает аккорды военного марша. И тут же родились печально-торжественные, прекрасные и трогательные строки:
Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый Снегирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов,
С горстью россиян все побеждать?
Быть везде первым в мужестве строгом.
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и Богом,
Скиптры давая, зваться рабом.
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?
Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, снегирь!
Бранна музыка днесь не забавна,
Слышен от всюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! – что воевать!
«Анжелика» Светлейшего Князя…
«Анжелика» Светлейшего Князя…
Её называли «Уманской Анжеликой». Я бы назвал «Анжеликой» Светлейшего князя Потёмкина. Хотя и это не верно. У той, классической Анжелики, и книга, и фильм о которой необыкновенно популярны, был один Единственный Любимый, к которому она стремилась всю свою жизнь.
У нашей «Анжелики» такого Единственного Любимого не было. Хотя, судя по всему, из всех мужчин, которые прошли через её жизнь, самым главным можно смело называть именно Григория Александровича Потёмкина.
Классическая Анжелика была рода знатного.
Наша «Анжелика» происходила по одной из версий из самой простой семьи. Хотя нельзя исключить, что она могла быть и непростого роду-племени.
Классическую Анжелику не волновали интересы ни Франции, ни какого либо другого государства. Её занимали только её собственные чувства к Жофрею, и больше в жизни для неё ничего не имело никакого значения.
Наша «Анжелика» была совсем непроста. И тайны её до сего времени до конца не разгаданы.
Впрочем, как бы интересны эти тайны ни были, они лишь частично относятся к теме нашего повествования, а потом оставим их полную разгадку исследователям жизни этой необыкновенной женщины. А сами лишь кратко коснёмся наиболее достоверных моментов её биографии, которые понадобятся для повествования о её полностью так и не разгаданных отношениях с Потёмкиным.
В Википедии сказано:
«Существует две версии происхождения Софии. По версии самой Софии, она происходила из знатного рода Панталиса Маврокордато, который принадлежал к царской греческой семье, породнённой с византийскими императорами, и, якобы, являлась дочерью правнучки Панталиса и греческого магната Челиче.
Согласно версии папского интернунция в Константинополе поляка Кароля Боскамп-Лясопольского, София родилась в 1760 году 1 января (11 января по новому стилю) в турецком городе Бурса и была дочерью небогатого торговца скотом грека Константина...»
Впрочем, для темы нашего повествования это особого значение не имеет. Обратим внимание лишь вот на такую деталь…
Наша «Уманская Анжелика», по имени София, родилась в Греции, а закончила свою жизнь 24 ноября 1822 в Берлине.
Она сменила немало подданств, жила в разных странах, но по-настоящему родной стала для неё, как считают некоторые биографы, без влияния Потёмкина именно Россия.
Мало того, её сын, Иван (Ян) Витт, родившийся в 1781 году в Париже, ушёл из жизни 21 июня в 1840, в Крыму, в России. Всю свою жизнь он отдал военной службе в России. Мать записала его в лейб-гвардии Конный полк 17 сентября 1792 года корнетом, когда ему едва исполнилось 11лет. И дослужился до чина генерала от кавалерии. Причём служба его была особой – разведка! Его служба отмечена одиннадцатью высшими Российскими орденами и другими наградами.
Его часто называют сыном знаменитой авантюристки Софии Глявоне и польско-литовского генералаВитта. Впрочем, когда он родился в 1881 году, отец был ещё майором, а его самого назвали Яном. Впоследствии он стал Иваном уже в России. Любопытно, что, узнав о его рождении, поздравить примчался сам польский король Станислав Август Понятовский, весьма и весьма благоволивший к матери новорожденного. В честь рождения Яна он даже произвёл деда его в чин генерал-лейтенанта.
Но причём же здесь Потёмкин и его любовные приключения?
Вот тут и начинается самое интересное.
Ради того, чтобы описать очередное увлечение Светлейшего вряд ли стоило бы огород городить. Ну да, конечно, остальные его возлюбленные не были столь таинственны, хотя почти о каждой, известной нам, можно писать повесть.
Но здесь случай особый. Здесь стоит внимательно разобраться, кем стала для Потёмкина София Витт после того, как была представлена ему. Опять же существуют различные вариант этого самого представления.
Первый, причём наиболее загадочный, несмотря на кажущуюся простоту, таков.
Супруг Софии Йозеф Витт прибыл в Петербург на ловлю счастья и чинов, поскольку у себя в Польше чинов высоких так и не добился, да и знатностью рода не мог похвастать. В 1779 году он, 39-летний сын коменданта польской Каменецкой крепости был ещё в чине майора, когда встретил оказавшуюся в Каменец-Подольске проездом по пути из Константинополя в Варшаву необыкновенно красивую гречанку Софию. Она назвалась дамой знатного происхождения, Софией де Челиче и заявила Йозефу Витту, что едет к своему жениху в Варшаву. Юзеф настолько потерял голову, сделал Софии предложение и уже 14 июня 1779 года тайно от родителей обвенчался с ней.
Вскоре он понял, каково быть мужем такой красавицы. Они объехали всю Европу, и многие монархи склоняли головы перед красотой Софии. Вот тогда, очевидно, и задумал Витт сделать карьеру с помощью своей супруги. Тогда-то и отправился в Петербург. Ну а там его жену приметил Светлейший и тоже был ею очарован.
Но Светлейший был человеком действий. Он решил забрать красавицу себе. Далее в различных источниках приводятся формы «изъятия» Софии у её законного супруга. Тот, в воздаяние за изъятие у него законной супруги, становится генералом и комендантом Херсонской крепости.
Однако, сразу возникает вопрос, кто такой Витт, чтобы ехать в Петербург в надежде быть представленным самой Императрице Екатерине Второй? Конечно, можно предположить, что ходатайствовать за него мог перед Государыне польский король Станислав Августа Понятовский? Такое возможно, но о том нигде ни слова, а потому предположения наши вряд ли имеют право на жизнь.
Сомнения вызывают и такие факты, распространённые в ряде источников:
«В 1789 году София появляется под Очаковом в военном лагере главнокомандующего российской армии Григория Потёмкина, фаворита Екатерины II. Царица к тому времени уже охладела к князю Таврическому и прекрасная фанариотка пришлась малороссийскому наместнику по душе».
Тут всё написано совершенно наобум. В лагере под Очаковом Потёмкин находился в 1788 году. 6 декабря Очаков был взят блистательным штурмом, а в 1789 году армия Потёмкина вела наступательные действия на Аккерман и Бендеры. Обе крепости пали без выстрела, как тогда говорили, «Потёмкин взял Бендеры ударом кулака по столу».
А вот то, что знакомством Потёмкина с Софий Витт произошло во время путешествия Императрицы Екатерины Второй по Новороссии и Крыму, более похоже на правду. Тем более, и представить Императрице красавицу вполне мог при встрече в Каневе сам Станислав Август Понятовский.
Во время путешествия Императрица Екатерина Великая встретилась с польским королём в Каневе потому, что в самом путешествии он принять участия не мог – польские законы не позволяли ему покидать границ королевства. Императрица Екатерина сама вынуждена была пересечь границу Польши со всей своей великолепной флотилией.
Николай Дмитриевич Шильдер, представляя «Воспоминания князя Станислава Понятовского», писал:
«Первая встреча Императрицы с королём произошла в присутствии весьма немногих свидетелей. Понятовский объясняет это тем обстоятельством, что оба они были так далеки от молодости, в которой знали друг друга, что могли бы испытывать неловкость, встретившись при многочисленном обществе. Зато обед, последовавший за свиданием, отличался многолюдством и сопровождался музыкою и пением. Когда король собрался уезжать и искал глазами свою шляпу, императрица заметила это и подала ему ее.
– Однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь, – находчиво ответил ей король.
Как при прибытии, так и при отъезде короля, был произведён пушечный салют со всех пятидесяти судов, составлявших сопровождавшую императрицу флотилию. Между прочим Понятовский рассказывает, что поездка короля в Канев способствовала усилению в Польше симпатий к Пруссии. Так как Россия предполагала заключить на ближайшем сейме оборонительный и наступательный союз с Польшей, то противившаяся этому партия встречала со стороны короля холодный приём и, оскорбленная, обратилась к Пруссии, которой сделала подобное же предложение, обставив его разными слишком рискованными обещаниями, побудившими Пруссию принять его».
Это, казалось бы, не относящееся к теме повествования замечание о реакции сейма на встречу Понятовского с Императрицей, вскоре понадобится для пояснения событий, непосредственно относящихся к драмам и приключениям любовного характера, но касающихся и Понятовского и Императрицы лишь косвенно.
А. Вейдемейер в книге: «Двор и замечательные люди в России во второй половине XVIII столетия» так описал встречу Императрицы Екатерины с Понятовским в 1787 году во время знаменитого её путешествия по Новороссии и Крыму:
«25 апреля Государыня приехала к польскому местечку Каневу; на польском берегу производилась пушечная стрельба, и с наших галер отвечали девятью выстрелами. Того же дня король прибыл на галеру «Днепр» с посланными за ним на собственной шлюпке Императрицы гофмейстером Александром Андреевичем Безбородко и гофмаршалом князем Фёдором Сергеевичем Борятинским.
Станислав, не видевший Екатерину 23 года, по прибытии своём имел непродолжительный разговор наедине, после чего они переехали к обеденному столу на галеру «Десну»: к обеду были приглашены польские вельможи, сопровождавшие короля, и между ними польский при русском дворе министр де-Боли.
Разговор был чрезвычайно весёлый. Современники описывают, что после обеда, когда король искал свою шляпу, Императрица приметила её прежде него и подала.
– В другой раз, – сказал он, – по беспредельной благости покрываете мою голову.
Станислав после обеда имел отдохновение на галере «Буг». В это время Екатерина прислала ему звезду и орден Святого Апостола Андрея Первозванного, бриллиантами украшенные.
После обеда Государыня с королём были восприемниками при крещении сына генерал-майора графа Тарновского. Вечер проведён был на галере «Днепр». В тот же день король возвратился восвояси при пушечной пальбе с галер».
Павел Сумароков в книге «Обозрение царствования и свойств Екатерины Великой» приводит слова принца де Линя:
«Король пожертвовал тремя месяцами времени, и тремя миллионами злотых, чтобы увидеться с Императрицей на три часа».
Описывает он и фейерверки, устроенные Понятовским в честь Екатерины Великой:
«…наступила ночь, вся гора на польской стороне, от вершины до её подошвы казалась в пламени, на ней стоял огромный вензель Екатерины, представлялся вулкан, и сто тысяч ракет соединялись в прекраснейший павильон…»
На другой день, 26 апреля, Императрица отправилась далее к Кременчугу».
В Википедии так говорится о знакомстве Софии Витт с Императрицей:
«По одной из них знакомство состоялось в 1787 году, когда София Витт в составе свиты короля Понятовского была представлена российской императрице Екатерине II, во время монаршего путешествия в Крым».
По просьбе Потёмкина, царица приняла её очень ласково и подарила драгоценные бриллиантовые сережки, а в придачу, вероятно, и имение в Белоруссии. На обратном пути Потёмкин виделся на Украине с командующим польской армии Юзефом Понятовским, через которого София передала привет королю. В ответ король написал своему племяннику: «Когда будешь иметь возможность, передай Виттовой, что я безгранично благодарен ей за все то, что она тебе сказала в мой адрес и что я всегда рассчитываю на её приязнь ко мне».
Попробуем разгадать этот ребус. Скорее всего, представлял-то всё-таки Софию Витт Понятовский в Каневе. Напутано много, но информация явно не вымышленная, а просто собранная в кучу кое-как без учёта текущих событий того времени. А что касается бриллиантов и деревень, то они просто так не даются, хотя есть данные, что таковые дарованы всё-таки были.
И тут, просматривая самые различные информации и публикации, я наткнулся на такой странный факт…
Вот что отмечено в Википедии: «Знакомство (с Потёмкиным) состоялось зимой 1787-88 гг., когда, по слухам, София ездила в Петербург, чтобы отчитаться перед Императрицей о выполнении какого-то задания».
Ну что ж, на встрече в Каневе Потёмкин не присутствовал. Он ждал Императрицу в управляемых им краях. Но что за задание могла получить от Российской Императрицы супруга польского коменданта?
Документов по этому поводу никаких нет. И вряд ли они могут быть, ибо, судя отрывочным данным о грядущих деяниях Софии, она вполне могла выполнять задания разведывательного характера. Иначе как объяснить такую её поездку, описанную в Википедии:
«В 1787 году София в компании польских магнатов посетила Константинополь. Среди туристов была и дочь короля, жена коронного маршала Урсула Мнишек. Софию в Константинополе встречали как царицу, греческие аристократы желали лично приветствовать успешную соотечественницу. Знаки внимания, оказываемые Софии, начали раздражать её спутников, особенно раздражалась Урсула Мнишек. Спутники Софии далее путешествовали уже без неё; вероятно, что в Константинополе им стали известны некоторые подробности её молодости. После этой поездки Софию в Варшаве ждал гораздо более прохладный приём».
Есть над чем подумать…
Известно, что Понятовский прибыл в Канев для встречи с Императрицей Екатериной в сопровождении большой свиты. София Витт была в этой свите. Ведь её сын вполне мог быть сыном Понятовского, причём такую информация по ряду причин – непрочное положение на престоле – разглашать не стоило. Значит, проявлять заботу о сыне целесообразнее всего было через его мать. Понятовский, наверняка знал о Софии Витт гораздо больше, чем все её биографы вместе взятые. А потому он мог не просто представить красавицу гречанку, а рекомендовать её Императрице как женщину незаурядную, способную выполнять незаурядные задания.
Какими же могли быть эти задания?
Вспомним грандиозный Греческий проект, который родился у светлейшего князя Потёмкина и Императрицы Екатерины.
О возвращении Царьграда в лоно Православной Церкви Русские Государи думали давно.
Биограф Потёмкина А.Г. Брикнер писал:
«Уже в семидесятые годы (XVIII века – Н.Ш.) Екатерина с Потёмкиным были заняты так называемым «Греческим проектом», виновником которого считался князь… Потёмкин «заразил» Императрицу своими идеями об учреждении новой Византийской империи».
Суть этого проекта изложена в письме Екатерины Великой к австрийскому императору Иосифу Второму. Письмо датировано 10 сентября 1782 года. В нём значилось:
«Между тремя монархиями должно быть навсегда независимое государство. Это государство, в древности известное под именем Дакии, может быть образовано из провинций Молдавии, Валахии и Бесарабии под скипетром Государя, религии Греческой… Я твёрдо уверена, что, если наши успехи в этой войне (имелась в виду русско-турецкая война 1787-1791 гг. – Н.Ш.) дадут нам возможность избавить Европу от врага имени христианского изгнанием его из Константинополя, то, Ваше Величество, не откажетесь содействовать восстановлению монархии Греческой, под непременным условием с Моей стороны сохранять эту возобновлённую Монархию в полной независимости от Моей, и возвести на её престол младшего внука Моего, Великого Князя Константина, который даст обязательство не иметь претензий на Престол Российский, ибо две эти короны не должны быть соединены на одной главе».
Ещё в 1779 году Императрица назвала второго своего внука Константином. Буквально на второй день после его рождения она писала своему европейскому корреспонденту барону Гримму:
«Этот нежнее старшего, и едва на него пахнёт холодным воздухом, прячет носик в пелёнки; он любит тепло… ну, да мы знаем с вами то, что мы знаем!..»
В кормилицы Великому Князю определили гречанку по имени Елена. В 1781 году, по инициативе Потёмкина, была выбита медаль, на которой «маленький Константин был изображён вместе с тремя христианскими добродетелями на берегу Босфора, причём: Надежда указывала ему на звезду с Востока, а Вера хотела, по-видимому, вести к храму Святой Софии».
С ранних лет Константина, наряду с древнегреческим, обучали и новогреческому языку.
Но что же влекло Русскую Государыню и выдающегося её сподвижника в Константинополь? Протоиерей Сергей Булгаков в книге «У входа в Царьград» так охарактеризовал это священное место:
«Здесь ключ к мировой истории, здесь Иустиниан, здесь Константин Великий, здесь: Иоанн Златоуст, Фотий, Византия, и её падение, здесь узел политических судеб мира, и доныне не распутанный, а ещё сильнее затянутый».
И далее:
«София есть Храм Вселенский и абсолютный, она принадлежит Вселенской Церкви и Вселенскому человечеству, и она принадлежит Вселенскому будущему Церкви».
Генерал-фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, безусловно, понимал значение Константинополя, но знал он и о пророчествах, касающихся этого города, весьма распространённых в Турции, а особенно в Греции.
Русский посол в Константинополе В.Я. Булгаков в 1783 году писал князю:
«Есть здесь старинная книга, содержащая пророчества о жребии Турецкой империи, называемая Агафангелос. В течение прошедшей войны великой (русско-турецкая война 1768 – 1774 годов – Н.Ш.) она между греками наделала шум. Порта употребила все способы к искоренению её, и под суровою казнью запретила подданным своим иметь её и говорить о ней, так что, несмотря на мои старания, ныне не мог я достать печатного экземпляра, а достал только, да и то с трудом, список. Писана она, сказывают, таким таинственным слогом, что здесь нет человека, который бы мог её перевести, и самые учёные в Фанаре греки ответствовали мне, что один только преосвященный Евгений в состоянии её разуметь и на другой язык переложить… Может быть, действительно достоин он быть прочтён… Ежели угодно будет Вашей светлости приказать оный список перевести, то осмелюсь всепокорнейше просить пожаловать приказать доставить мне копию; ибо я только по словесному некоторых мест переводу содержание сей, по здешнему мнению, бесценной, книги знаю».
Книга, действительно, заслуживала всяческого внимания, ибо Потёмкин, как гениальный политик, считал необходимым учитывать в своей деятельности не только реалии современности, но и знания прошлого, а также и то, что предрекают духовные отцы, старцы и восточные мудрецы.
Потёмкину удалось найти специалистов, сумевших сделать перевод. Обратимся к некоторым, наиболее интересным выдержкам из этой книги. В разделе «Видение Иеронима» указывается:
«Константин нашёл, и Константин потерял Византийское государство, сын человеческий, считай от 1-го Константина до 12-го колена одних же имён и найдёшь счёт, в котором будет сие приключаться. Бог решился и, определённое Вышнею властью, необходимо исполнить. Совершится же на 452 и 453 году, в котором попадётся высокое государство в руки турецкие, домы будут разорены, священные храмы осквернятся, и верующие изгнаны будут до 800 лет неотлагаемо, и чтоб о сём Божеском правосудии узнал народ и разумел тягость Всемогущей Его руки, покаялся б и прибег к нему, и тогда будет благопринят. Но, сын человеческий, не бойся, возвратись снова в его святость, будешь славнее прежнего, и будешь иметь под своею властью паки новые неиссчётные народы и более прежнего; и как израильтянский народ был послушен Навуходоносору, так будет и сей народ подчинён нечестивым туркам до определённого времени и будет в плену под плугом (игом?) почти до четырехсот лет…».
Далее значилось: «Родится царская фамилия, из которой будет один великий Государь и один из монахов с новою книгою и тростью сопряжённый. Государь саксонский не смел его победить, и тот монах будет препровождён бесчисленным народом и победит города в Роме, установит законы и догматы над государями без сопротивления ему…»
В XVIII веке пророчествам верили многие. Потёмкин всегда живо интересовался подобными вещами, у него за столом, зачастую, собирались представители разных, разумеется, традиционных для России вероисповеданий, и он с удовольствием участвовал в их разговорах.
В списке книги, присланной русским послом в Константинополе, было много такого, что он стремился использовать в своей политике. И, конечно, он учитывал те пророчества, которые были открыты в результате перевода книги, тем более, что верования подобные распространились по всей Турции, причём не только у простолюдинов. Они стали известны и в высших слоях общества. Ему докладывали, что «столичные Турки из преимущественной любви к Азии, колыбели их религии и нации, предпочитают хорониться на Азиатском берегу. Но более побудительная причина любви Турок погребаться в Азии заключается в следующем: у Турок существует много предсказаний о долженствующем быть падении Оттоманской империи, особливо же распространены между ними предсказания султана Солимана и арабского астронома Муста-Эддина, что всем царством овладеет народ Северный. Они верят этим предсказаниям и считают временным своё пребывание в Европе; ибо неизбежно должно наступить то время, когда Христиане, русые победители возьмут во власть свою Стамбул, и изгонят их в Азию. Для того-то все сколько-нибудь зажиточные магометане стараются хоронить своих родных на Азиатском берегу, дабы могилы “правоверных” не были попираемы стонами “неверных”, когда они, по воле Аллаха, снова возьмут Константинополь».
Не случайно Потёмкин стал инициатором грандиозного «Греческого проекта» и не случайно этот проект столько горячо поддержала Государыня, которая готова была идти и ещё далее, во имя спасения страждущего человечества от неверия и ересей. Порвав в конце своего правления с показавшими своё истинное лицо во время Французской революции «моралистами» она, по свидетельству Гавриила Романовича Державина, говаривала:
«Еже ли бы я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена была бы Российскому скипетру. Я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы».
Греческий проект занимал её особенно. Причём она имела определённые планы, да только осуществить их не удалось по ряду причин, одной из которых, наиважнейшей, было то, что в 1791 году ушёл из жизни её супруг, её сподвижник и соправитель Светлейший Князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический. Тем не менее, Екатерина готовила освобождение Константинополя. План её был таков. В 1796 году она направила генерала Валериана Зубова с 20-ти тысячным войском в Персидский поход. Зубов должен был пройти через Персию, Анатолию и атаковать Константинополь с азиатской стороны. Суворову поручалось возглавить специально сформированную армию, выступить в поход в Европу, разбить Наполеона, о котором он говаривал, что широко, мол, шагает мальчик, пора бы уж остановить, затем, преодолев Балканы, ударить на Константинополь одновременно с Зубовым. Сама же Екатерина собиралась прибыть на Черноморский флот и вместе с адмиралом Фёдором Фёдоровичем Ушаковым, которого называли «Суворовым на море», штурмовать город с моря.
Это подтверждает Г.Р. Державин:
«Императрица же сама лично на флоте имела намерение осадить сей город, и сей план должен был начаться в будущий 1797 год, к чему уже Суворов и приуготовился, но Провидение, имея Свои планы, не допустило сему свершиться».
Таким образом, вполне можно предположить, что после того, как София Витт была представлена Императрице Екатерине Второй, у неё началась и ещё одна – тайная жизнь. Ведь проскальзывают сообщения и о поездке в Константинополь, причём с совершенно непонятными целями, и о её появление в лагере Русской армии, осаждавшей Очаков.
Не сама ли Императрица Екатерина рекомендовала Светлейшему эту необыкновенную даму, умевшую в мгновение сражать и монархов, и послов, и генералов, и любых чиновников.
Потёмкин забрал с собой в лагерь Софию, а мужа её сделал комендантом Херсонского гарнизона. С какой-то стати? Ну да, конечно, муж вполне мог считать, что и должность эта, и генеральский чин даны ему за использование его жены в определённых и наиболее ласкающих слух сплетников целей.
Но ведь у Потёмкина в лагере под Очаковом уже была возлюбленная Прасковья Андреевна Потёмкина. Возлюбленная по мнению многих биографов, которым в такое вот как-то больше верится. Ну и дай-то Бог. Теперь вот новая возлюбленная появилась, а то и обе они оказались в лагере под Очаковом одновременно – сведений точных нет. Одна башмачки из Парижа ожидала перед всем лагерем, другая зачем-то в Константинополь каталась, а потом награды от Императрицы получила. За что они даны, не сказано. Вряд ли Екатерина Вторая стала бы награждать гречанку за неотразимую внешность.
Интересен и ещё один факт. Своё путешествие из Константинополя в Варшаву, прерванное в Каменец-Подольске, София совершала не одна, а с родной сестрой, которая была старше неё примерно на два года и так же необыкновенно красива. Софии удалось выйти замуж за майора Витта, а её сестре – за турецкого пашу, который вскоре стал комендантом турецкой крепости Хотин.
Во многих публикациях повторяется примерно одно и тоже – София, покинув лагерь под Очаковом, отправилась в гости к сестре. Причём, называются как 1788, так и 1789 годы. Причём даётся информация, ни к селу, ни к городу.
Вот эта информация о Софии Витт:
«Прелестница оказывалась при командующем русским войском Салтыкове, под Хотином, и пушки молчали лишних три дня, приводя в негодование Потёмкина. Сестры встретились. Подруга Салтыкова Софья де Витт и супруга турецкого паши приостановили сражение, задержали «викторию» русских. И даже Потёмкин унял свой гнев, когда от Салтыкова прибыл к нему в лагерь прекрасный посол…»
И снова в разных источниках проскакивает какая-то странная информация. Во-первых, если София была возлюбленной Потёмкина, причём здесь Салтыков? Авторы заимствуют её друг у друга, слабо представляя, о чём пишут. В то же время именно такие нелепые информации и помогают нащупать тоненькую ниточку для раскрутки событий.
Если взять 1788 год то получается, что Потёмкин действительно находился в лагере под Очаковом, а Хотин был в руках турок.
В Большой биографической энциклопедии говорится:
«Граф Салтыков исправлял должность наместника по 1788 год: возобновившаяся война с Турцией призвала его снова на бранное поле. Он увенчал себя занятием крепости Хотина (8 сентября), которая, после тесного облежания, сдалась ему и принцу Саксен-Кобургскому, командовавшему союзными австрийскими войсками, на следующих условиях: двухтысячный турецкий гарнизон и все жители магометанского исповедания, числом обоего пола до шестнадцати тысяч человек, получили позволение выйти из крепости; 153 пушки разного калибра, 14 мортир и множество других оружий и военных припасов достались победителям. За этот подвиг граф Салтыков получил орден Св. Владимира первой степени».
Крепость капитулировала перед русскими войсками 8 сентября 1788 года.
Вот исторические данные…
«Осада Хотина – эпизод русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов…
В мае 1788 года австрийский корпус принца Кобургского, разбив турок при Батушане, Рогатине и Бойана-Лоси, подошёл к Хотину и приступил к осаде крепости.
В июле 1788 года российская Украинская армия Румянцева перешла Днестр возле Хотина, Могилёва и Кислицы. Корпус Салтыкова был оставлен под Хотином, а главные силы двинулись через Бельцы к Яссам.
Турецкие войска сделали попытку прорваться через Яссы для деблокады Хотина, но были отбиты. После этого они в августе 1788 года сосредоточились в районе Рябой Могилы. Румянцев принял решение манёвром заставить турецкие войска принять бой, однако турки, не приняв боя, отошли к Фокшанам. Отход деблокирующих турецких войск на юг привёл к капитуляции крепости Хотин в сентябре 1788 года».
То есть, сын знаменитого победителя Фридриха Петра Семёновича Салтыкова Иван Петрович Салтыков, командовавший войсками, действовавшими против Хотина, подчинялся непосредственно не Светлейшему князю Потёмкину, Главнокомандующим Екатеринославской армией, а Петру Александровичу Румянцеву, командовавшему Украинской армией, действовавшей против Хотина.
Разумеется, Потёмкин, как Президент военной коллегии, был ответствен за весь театр военных действий, но он никогда не вмешивался в боевую деятельность своего учителя Петра Александровича Румянцева и заявления о том, что он гневался по поводу молчавших под Хотином пушек, бессмысленны.
Осадой Хотина занимались войска Украинской армии Румянцева!.
«Пушки молчали три дня…», «Пушки молчали лишние три дня!» – всё это переписано из одного источника в другой.
Официально Хотин пал в результате осады. Но Очаков то стоял. Да и вообще до штурма Очакова крепости турецкие без штурма предпочитали не сдаваться.
А вот помочь своему боевому учителю и другу Потёмкин вполне мог. Мог направить к Румянцеву, а от него в Хотин к родной сестре Софию Витт с предложениями о сдаче крепости. С Софией в крепость ездил австрийский военный агент в России принц Шарль-Жозеф де Линь, который никогда на русской службе не был, как ошибочно заявляют некоторые авторы информашек о Софии Витт.
Эта поездка Софии могла быть из Очакова в 1788 году, где, кстати, при главнокомандующем Потёмкине постоянно находился принц де-Линь.
В 1789 году русская армия ушла от взятой штурмом Очаковской крепости. Да и Хотин был в наших руках.
Ну а то, что София Витт могла способствовать принятию решения коменданта о сдаче крепости, вполне вероятно.
Но какие же отношения связывали Потёмкина с Софией Витт? Мы знаем, что Григорий Александрович был кумиром женщин, что даже Гавриил Романович Державин, как уже упоминалось, отметил: «Многие почитавшие Потемкина женщины носили в медальонах его портреты на грудных цепочках». Так вот биографы утверждают, что София тяжело пережила кончину князя и носила такой медальон с его изображением до своего последнего часа, хотя были у неё и в дальнейшем увлечения, хотя она выходила замуж, рождала детей…
Некоторые биографы считают, что любовь к России, причём искренняя любовь, принятие России как своей Родины, пришли к ней во многом благодаря этому её страстному увлечению – увлечению, судя по всему, самому сильному в её такой непростой, запутанной, полной невероятных приключений жизни.
Ну а что же Потёмкин? Была ли любовь сего стороны? Много увлечений приписывается ему, очень много. Но всегда отношения, которые казались увлечениями, были таковыми.
Потёмкин умел подчинить делу всё то, что случалось с ним, всё то, что волновало и тревожило его, всё то, что радовало и вдохновляло.
София чем-то очень сильно привлекла его. Но только ли своей внешностью, только ли эрудицией и воспитанием, что постоянно демонстрировала, то ли учёностью – ведь она прекрасно говорила на пяти языках – русском, греческом, французском, турецком и польским.
Много фактов говорит о том, что она была прирождённой разведчицей. Она умела вести разговоры с важными людьми так, что они, забывая обо всём, выбалтывали важные государственные секреты, сами не замечая, как и обманутые впечатлением, что ведут простую беседу с весьма простой и далёкой от политики собеседницей.
Потёмкин был гениальным политиком, гениальным полководцем, гениальным дипломатом. Он умел, когда нужно, создать о себе впечатление, которое расхолаживало как партнёров, так и врагов. В делах тайных они с Софией нашли друг друга. Вряд ли когда-то удастся узнать всё, что им удалось сделать во имя России, но то, что София оказала немалые услуги Государыне при решение множества вопросов, касающихся раздела Польши, хорошо известно. И совершенно не случайно следующим жизненным шагом этой загадочной женщины было новое замужество, с далеко идущими политическими целями. Не исключено, что Потёмкин просто создал видимость того, что София была его возлюбленной. Так было легче сотрудничать с нею и поручать ей секретные задания государственной важности.
София коротко сошлась с польским графом Станиславом Потоцким, который под её влиянием сделал всё необходимое, чтобы Польша примкнула к Торговой конфедерации, значительные услуги России оказала прекрасная гречанка и в решении вопросов раздела Польши. Существует версия, что Йозеф Витт «уступил» Софию графу Потоцкому за солидное вознаграждение и она, после того как Потоцкий овдовел, стала его законной супругой.
Поселились Станислав Потоцкий с его новой женой в Умани. Там был основан и поныне знаменитый парк «Софиевка». Потоцкий создал его в подарок супруге на день её именин.
С 1795 года Умань находилась в составе Российской Империи.
Станислав Потоцкий умер в 1805 году, и София сошлась с его сыном Юрием Потоцким, который оказался кутилой и промотал всё своё состояние. Тогда София поставила условие – она оплачивает его долги, а он покидает Россию. Но оставались ещё и другие дети самого Потоцкого и трое совместных детей Софии с Потоцким. С помощью знаменитого Сперанского Софии удалось добиться равной доли с детьми Потоцкого при разделе имения.
Всего же у Софии было шесть детей – два сына от Витта и три сына и дочь от Потоцкого.
Нельзя не обратить внимания и на такую информацию, помещённую в Википедии:
С 1810 года Софья Потоцкая вступает в последний период своей жизни и «нравственно хорошеет». Она всё более озабочена искуплением грехов, благотворительной деятельностью, воспитанием детей. Бурная жизнь, полная увлечений и приключений, отходит в прошлое. София становится под старость добродетельной «матроной», старается забыть прежнюю жизнь и сохраняет преданную память только Потёмкину, которого до конца «жалела, как родного брата».
«Жалела как родного брата»? Это ещё одно подтверждение, что далеко не всегда и далеко не всех женщин, окружавших Потёмкина, можно называть его любовницами. Я вовсе не стою на позициях превращения героев, которых описываю, в каких-то аскетов, чурающихся прекрасного пола. Более того, такая позиция мне вовсе не по душе. Тут лучше бы придерживаться отношения к этому деликатному вопросу, которое озвучено Львом Николаевичем Толстым: «Не буду искать, но не буду и упускать».
Ну а в романе «Анна Каренина» он выразил отношение своё к увлечениям представительницами прекрасного пола словами Стивы (Степана) Облонского, старшего брата Анны Карениной:
«Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал её. А тут вдруг подвернётся любовь, и ты пропал, пропал!»
Более того, мои произведения зачастую подвергаются критики со стороны аскетично настроенных читателей за, якобы, имеющуюся в них «романтизацию измен», ну и слишком откровенное описание некоторых эпизодов. Но… Всему есть предел. Если уж так хочется описывать необыкновенную влюбчивость своего героя, презрение с его стороны некоторых моральных норм, как соблазнение, к примеру, племянниц, ну так и писали бы рассказы, повести художественные. Не трогали бы реальных людей, тем более наших великих предков, сделавших для России неизмеримо больше, нежели сладострастные их клеветники. Но так ведь кто читать-то будет, ежели какой-то косноязычный выдумщик предложит читателю косноязычные перлы о любви, описанные кондовым «павленковским языком остепенённого докторским званим счётчика фаворитов великой Государыни». Я имею в виду доктора исторических наук Н.Н. Павленко, сверх всякой меры оболгавшего в книге серии ЖЗЛ «Екатерины Великая» и саму Государыню и её супруга и соправителя Потёмкина. Так ведь никто читать не будет. Значит нужно что? Нужно примазаться к великим, облить и грязью, ну и сорвать хоть какой-то куш на своих сладострастных выдумках.
И потому в одной из будущих книг мне хотелось бы хотя бы в общих чертах коснуться сплетен о том, что Потёмкин, якобы, соблазнил всех без исключения своих племянниц. Соблазнял и замуж выдавал, соблазнял и замуж выдавал. Ну а женихи-то, женихи за счастье почитали жениться на обесчещенных дядюшкою девицах. Почему-то вот с этой стороны сплетни никто не рассматривал. А ведь нравы в России в ту пору и отношения к девственности невесты были гораздо более строгими.
Александр Николаевич Самойлов в своих записках, размышляя о влюбчивости Потёмкина, ставит вопрос: «Да кто же из великих людей не подвержен был сей страсти?»
И отмечает:
«Но склонности князя Потёмкина к прекрасному полу были самые благородные, не соблазнительные, не производящие разврата: есть ли он иногда имел сокровенные связи, то не обнаруживал оных явно; не тщеславился, подобно многим знаменитым людям, своими метрессами и не заставлял чрез них искать у себя защиты и покровительства».
Мы уже разобрались с одним источником сплетен. Семён Романович Воронцов женился на возлюбленной Потёмкина Екатерине Сенявиной. Но так о нём и сказано было князем Долгоруким, что он заискивал перед сильными мира сего ради чинов. Но не все же, далеко не все в России были такими. Иначе бы не поднялась Россия на необыкновенную высоту, иначе бы не славилась славными героями, готовыми жизнь отдать за Родину.
Коснёмся одного двух фактов из биографии Светлейшего и его племянниц, поскольку для того, чтобы коснуться всех, потребуется целая книга «Сёстры и племянницы Светлейшего князя Потёмкина-Таврического в супружестве, любви и любовных приключениях», над которой я, кстати, и работаю, чтобы в дальнейшем пополнить ею серию….
«Марс своей жертвы ждёт…»
«Бранным шлемом покровенный Марс своей пусть жертвы ждёт…»
Её называли "Последней любовью Светлейшего Князя Потёмкина". Она оставила заметный след и в поэзии, и в музыке...
Екатерина Алексеевна Сенявина, ставшая графиней Воронцовой, ушла сначала из жизни Потёмкина, а затем отправилась в мир иной. Снова одиночество, которое скрашивалось встречами с представительницами прекрасного пола – не могло не скрашиваться, ведь Григорий Александрович, как уже не раз упоминалось, был кумиром женщин.
Конечно, были у него увлечения, да только, конечно же, не обо всех известно. Чаще за таковые увлечения выдавались отношения, основанные на совершенно иной почве.
Но вот граф Людовик Филипп де Сегюр, состоявший посланником при дворе Екатерины Второй в 1785-1789 годах и оставивший записки, повествовал как раз об одном сильном увлечении Потёмкина, свидетелем которого ему довелось стать.
Граф понимал, в чём причина бесперспективности этого увлечения. Оттого упоминание проникнуто грустью.
В те годы, которые описывает граф де Сегюр, Григорий Александрович, приезжая в Петербург, часто бывал в доме обер-шталмейстера Льва Михайловича Нарышкина. Вот он вспоминал об этом:
«В Петербурге был тогда дом, непохожий на все прочие: это был дом обер-шталмейстера Нарышкина, человека богатого, с именем, прославленного родством с царским домом. Он был довольно умён, очень веселого характера, необыкновенно радушен и чрезвычайно странен.
Он и не пользовался доверием Императрицы, но был у неё в большой милости. Ей казались забавными его шалости, шутки и его рассеянная жизнь. Он никому не мешал, оттого ему всё прощалось, и он мог делать и говорить многое, что иным не прошло бы даром…»
И не удивительно, ведь в отцы наследника престола Императрицей Елизаветой Петровной были выбраны Сергей Салтыков и Лев Нарышкин. Оба, тогда ещё молодых человека, активно ухаживали на великой княгиней, ну а выбор предстояло сделать ей самой.
Екатерина Алексеевна в своих Записках.. рассказала:
«…Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала:
– Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьёзно.
Я, понятно, вся обратилась в слух; она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу, о своём благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения или отягощения уз супруга или супруги, а затем свернула на заявление, что бывают иногда положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила.
Я дала ей высказать всё, что она хотела, не прерывая, и вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумлённая, и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно. Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала:
– Вы увидите, как я люблю своё Отечество и насколько я искренна; я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: представляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то последний.
На что я воскликнула:
– Нет, нет, отнюдь нет.
Тогда она мне сказала:
– Ну, если это не он, так другой, наверно.
На это я не возразила ни слова, и она продолжала:
–Вы увидите, что помехой вам буду не я.
Я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бранила за это как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после пасхи».
По поведению Чоглоковой Екатерина не могла не понять, что всё идёт от Императрицы, и что кандидаты в отцы наследника уже обсуждены, но выбор оставался за нею самой…
Но и это ещё не всё. После удаления из столицы Сергея Салтыкова Лев Нарышкин поддерживал дружеские отношения с великой княгиней.
9 декабря 1758 года Екатерина родила дочь. Вот как рассказала об этом в своих записках она сама:
«… Я разрешилась 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью, которой я просила Императрицу разрешить дать её имя; но она решила, что она будет носить имя старшей сестры Её Императорского Величества, герцогини Голштинской, Анны Петровны, матери Великого Князя».
В «Записках…» упомянуто о реакции на это со стороны Петра Федоровича:
«Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берёт свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребёнок и должен ли я его принять на свой счёт». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо в пылу. Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору Империи».
Лев Нарышкин пошёл действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал от него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к чёрту и не говорите мне больше об этом».
Некоторые историки пытались на свой лад трактовать сказанное и даже делали вывод, что родившаяся девочка была дочерью Понятовского. Но Екатерина Алексеевна не дала и намёка на то в данном случае, в отличии оттого, что говорила она весьма прозрачно относительно рождения Павла. А, следовательно, и историк не вправе делать свои умозаключения.
Единственно, что подчеркнула Великая Княгиня, так это явно безнравственное заявление Великого Князя. Так и читается в его адрес сквозь строки: «Коли не можешь быть мужчиной, так молчи».
Вольтер в своё время сказал, что тайна кабинета, стола и постели Императора (добавим – членов императорской фамилии) не может быть разоблачаема иностранцем (добавим, что и никем другим тоже). Поэтому оставим гадания по поводу тех случаев, когда сама Екатерина Алексеевна не считала нужным открывать тайну.
После рождения Анны Екатерина оказалась в том же положении, что и после рождения Павла. Ей выдали в награду шестьдесят тысяч рублей и опять забыли о ней. Она вспоминала, что «была в моей постели одна-одинёшенька, и не было ни единой души со мной…».
Посещала же Великую Княгиню по её словам «обычная маленькая компания, которую составляли как прежде, Нарышкина, Сенявина, Измайлова и граф Понятовский…».
В «Чистосердечной исповеди» Екатерина признаётся, что поначалу она «отнюдь не приметила» Понятовского, «но добрые люди заставили пустыми подозрениями догадаться, что он на свете, что глаза его были отменной красоты, и что он их обращал, хотя так близорук, что далее носа не видит, чаще на одну сторону, нежели на другие».
Видный исследователь екатерининской эпохи Вячеслав Сергеевич Лопатин указывает, что «прекрасно образованный и воспитанный Понятовский был близок Екатерине по своему интеллекту. Он разделял её интересы и вкусы. Обожая великую княгиню, граф Станислав Август с уважением относился к её высокому положению. Единственный из возлюбленных Екатерины Понятовский запечатлел её портрет:
«Ей было 25 лет. Она только что оправилась от первых родов, когда красота, данная её натурой, расцвела пышным светом. У неё были чёрные волосы, изумительная фигура и цвет кожи, большие выразительные голубые глаза, длинные, тёмные ресницы, чётко очерченный нос, чувственный рот, прекрасные руки и плечи. Стройная, скорее высокая, чем низкая, она двигалась быстро, но с большим достоинствам. У неё был приятный голос и весёлый заразительный смех. Она легко переходила от простых тем к самым сложным».
Комментируя этот отзыв, В.С. Лопатин пишет:
«Возможно, Понятовский преувеличивал красоту Екатерины как женщины, но современники единодушно отмечали её обаяние»
Да, выбор пал не на Льва Нарышкина, а на его соперника (назначенного в соперники Императрицей Елизаветой Петровной) граф камергера Сергея Васильевича Салтыкова.
Но так что ж. Хорошие, дружеские отношения сохранились. Добрый по натуре своей, Нарышкин, не мог не сочувствовать великой княгине, брошенной всеми и забытой. А тут появился Станислав Понятовский. Скорее всего, Лев Нарышкин не подозревал о том, что появился тот не случайно, что постарался поляк завести дружбу с ним по заданию английского посла, искавшего выход на великую княгиню. Ведь в дипломатии важно учитывать все детали. Никто не исключал, что в будущем великая княгиня Екатерина будет играть большую роль в российской политике, что она либо станет регентшей при Императоре Павле, либо… сама – Императрицей. Уж как сложатся обстоятельства.
Задание заданием, но нельзя исключить, что любовь Понятовского к Екатерине была вполне искренней. Недаром он признался позднее, что в любви своей «позабыл о том, что существует Сибирь»…
Знакомство состоялось. Рискованное знакомство. А затем началась переписка. Екатерина получала письма, якобы от секретаря Льва Нарышкина. Она вспоминала:
«Он просил у меня в этих письмах то варенья, то других подобных пустяков, а потом забавно благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень остроумные… А вскоре я узнала, что роль секретаря играл Понятовский».
В «Записках…» Императрица рассказала:
«Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше… В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покои… и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила, мы вышли через маленькую переднюю и сели в его карету никем не замеченные, смеясь как сумасшедшие над нашей проделкой. Мы приехали в дом и нашли там Понятовского…»
Тайну знакомства хранил Лев Нарышкин, а вот маленькая болонка Екатерины выдала её, хотя и выдала лицу не опасному.
Однажды малый двор посетил шведский посланник граф Горн. Сопровождал его Понятовский.
Екатерина так описала случившееся:
«Когда мы пришли в мой кабинет, моя маленькая болонка прибежала к нам навстречу и стала сильно лаять на графа Горна, но когда она увидела графа Понятовского, то я подумала, что она сойдёт с ума от радости… Потом Горн дернул графа Понятовского за рукав и сказал: «Друг мой, нет ничего более предательского, чем маленькая болонка. Первая вещь, которую я дарил своей любовнице, была собачка, и через неё-то я всегда узнавал, пользуется ли у неё кто-то большим расположением, чем я».
Но вернёмся к рассказу Филиппа де Сегюра о доме Нарышкина и, конечно, же о посещениях его Григорием Александровичем Потёмкиным:
«С утра до вечера в его доме слышались веселый говор, хохот, звуки музыки, шум пира; там ели, смеялись, пели и танцевали целый день; туда приходили без приглашений и уходили без поклонов; там царствовала свобода. Это был приют веселья и, можно сказать, место свидания всех влюблённых. Здесь, среди веселой и шумной толпы, скорее можно было тайком пошептаться, чем на балах и в обществах, связанных этикетом. В других домах нельзя было избавиться от внимания присутствующих; у Нарышкина же за шумом нельзя было ни наблюдать, ни осуждать, и толпа служила покровом тайн…
Я вместе с другими дипломатами часто ходил смотреть на эту забавную картину.
Потёмкин, который почти никуда не выезжал, часто бывал у шталмейстера; только здесь он не чувствовал себя связанным и сам никого не беспокоил. Впрочем, на это была особая причина: он был влюблён в одну из дочерей Нарышкина. В этом никто не сомневался, потому что он всегда сидел с ней вдвоём в отдалении от других. За ужином он тоже не любил быть за общим столом со всеми гостями. Ему накрывали стол в особой комнате, куда он приглашал человек пять или шесть из своих знакомых.
Я скоро попал в число этих избранных».
Рассказ Сегюра относится к 1785 году. В комментариях указано:
«Потёмкин ухаживал за Марьей Львовной Нарышкиной, которая потом была замужем за князем Любомирским. Она пела и играла на арфе.
Великий Державин посвятил ей свою «Оду к Эвтерпе»:
Пой, Эвтерпа дорогая!
В струны арфы ударяй,
Ты, поколь весна младая,
Пой, пляши и восклицай.
Ласточкой порхает радость,
Кратко соловей поёт:
Красота, приятность, младость –
Не увидишь, как пройдёт.
Бранным шлемом покровенный
Марс своей пусть жертвы ждёт;
Рано ль, поздно ль, побежденный
Голиаф пред ним падёт;
Вскинет тусклый и багровый
С скрежетом к нему свой взгляд
И венец ему лавровый,
Хоть не хочет, да отдаст.
Пусть придворный суетится
За фортуною своей,
Если быть ему случится
И наперсником у ней,
Рано ль, поздно ль, он наскучит
Кубариться кубарём;
Нас фортуна часто учит
Горем быть богатырём.
Время всё переменяет:
Птиц умолк весенних свист,
Лето знойно пробегает,
Трав зеленых вянет лист;
Идёт осень златовласа,
Спелые несёт плоды;
Красно-желта её ряса
Превратится скоро в льды.
Марс устанет – и любимец
Счастья возьмет свой покой;
У твоих ворот и крылец
Царедворец и герой
Брякнут в кольцы золотые;
Ты с согласия отца
Бросишь взоры голубые
И зажжёшь у них сердца.
С сыном неги Марс заспорит
О любви твоей к себе,
Сына неги он поборет
И понравится тебе;
Качествы твои любезны
Всей душою полюбя,
Опершись на щит железный,
Он воздремлет близ тебя.
Пой, Эвтерпа молодая!
Прелестью своей плени;
Бога браней усыпляя,
Гром из рук его возьми.
Лавром голова нагбенна
К персям склонится твоим,
И должна тебе вселенна
Будет веком золотым.
1789г.
Гавриил Романович Державин не только посвятил оду любви Потёмкина и Марии Нарышкиной, но и сам, влюблённый в неё, написал ей незадолго до её замужества в 1795 году о своей любви в посвящении «Анакреон у печки».
Случись Анакреону
Марию посещать;
Меж ними Купидону,
Как бабочке летать.
Летал божок крылатый
Красавицы вокруг,
И стрелы он пернаты
Накладывал на лук.
Стрелял с её небесных
И голубых очей,
И с роз в устах прелестных,
И на груди с лилией.
Но арфу как Мария
Звончатую взяла,
И в струны золотые
Свой голос издала, –
….
Анакреон у печки
Вздохнул тогда сидя,
«Как бабочка от свечки
Сгорю, – сказал – и я».
Императрица, признав право Потёмкина на свободу, сумела с уважением отнестись к сильному увлечению князя и даже посылала в своих письмах поклоны этому предмету увлечения. Женщина умная и дальновидная, Императрица, видимо, поняла, что даже ей не удержать в клетке «пустынного Льва», от которого нельзя требовать того же, что от прочих избранников.
Недаром П.В. Чичагов писал, что у «Екатерины был гений, чтобы царствовать, и слишком много воображения, чтобы быть не чувствительною в любви».
Во время путешествия Екатерины Великой по Новороссии и Крыму в 1787 году в свите её среди прочих царедворцев были обер-шталмейстер Лев Александрович Нарышкин и его супруга Марина Осиповна Нарышкина. Скорее всего, вместе с ними отправилась в путешествие и их дочь Марья Львовна, которую в Петербурге уже все считали невестой князя Потёмкина.
Их любовь к тому времени ещё была достаточно сильной. Два года спустя 9 марта 1789 года А.А. Безбородко писал Виктору Павловичу Кочубею:
«Князь Потёмкин у Льва Александровича Нарышкина всякий вечер провождает. В городе уверены, что он женится на Марье Львовне».
Безусловно, Императрица знала об увлечении князя. Однажды она внезапно приехала в гости к Нарышкину. Подгадала к обеду. А после обеда села за карточный столик с Потёмкиным, Сегюром и Нарышкиным.
Визит Государыни был странен. Видимо, Нарышкины решили, что Государыня приехала решить брачный вопрос – не всем же было известно, что он не решаем, поскольку Потёмкин не свободен от брачных уз.
Но надежда всегда умирает последней. Визит подал надежды. И едва Государыня уехала, как начались танцы и пляски.
Граф Филипп де Сегюр вспоминал в своих записках:
«Барышня Нарышкина сплясала казачка, затем русскую, чем привела всех в восторг. Как плавны её движения, движения её плеч и талии! Она способна воскресить умирающего мужчину!»
И действительно, все отмечали, что Потёмкин помолодел, что словно бы сбросил груз недавней тяжелейшей болезни, полученной во время дипломатической битвы за Крым, которую выиграл блистательно и бескровно.
Но Потёмкина вновь позвали дела государственной важности.
Не сразу стало ясно, что предложения не будет. А время шло. Уже вышли замуж две старшие сестры Марии, уже женились два её брата, а она всё ждала у моря погоды.
И лишь во второй половине 90-х лет (восемнадцатого века) её выдали за пятидесятилетнего польского князя Франтишека Ксаверия Любомирского, поступившего после раздела Польши на русскую службу с чином генерал-лейтенанта. Так внучатая племянница тайного супруга Императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского и дочь несостоявшегося фаворита в то время великой княгини Екатерины Алексеевны, Льва Нарышкина, стала супругой польского князя. И следы её в истории затерялись.
О своей печальной судьбе, о супружестве с нелюбимым Мария Львовна говорила в своих проникновенных стихах, быстро становившихся песнями.
Ах, на что ж было, да к чему ж было
По горам ходить, по крутым ходить,
Ах, на что ж было, да к чему ж было соловья ловить!
У соловушки у младенькаго – одна песенка;
У меня, младой, у меня, младой, — один старый муж,
Да и тот со мной, да и тот со мной не в любви живёт!
Не белись, моё, не белись, мое лицо белое,
Не румяньтеся, не румяньтеся, щеки алые,
Не сурьмитеся, не сурьмитеся, брови чёрные,
Не носись, моё, не носись, мое платье цветное!
Ах, на что ж было, да к чему ж было
По горам ходить, по крутым ходить,
Ах, на что ж было, да к чему ж было соловья ловить!
У соловушки у младенькаго — одна песенка;
У меня, младой, у меня, младой — один милый друг,
Да и тот со мной, да и тот со мной во любви живёт!
Ты белись, моё, ты белись, моё лицо белое,
Вы румяньтеся, вы румяньтеся, щеки алые,
Вы сурьмитеся, вы сурьмитеся, брови чёрныя,
Ты носись, моё, ты носись, моё платье цветное!
Талант поэтессы признан и современниками и потомками – не всем было известно о существовании в нашей русской литературе такой поэтессы. И снова мы видим влияние на развитие таланта необыкновенного края Черноземья, давшего нам Тургенева, Бунина, Никитина, Лескова, Льва Толстого, Фета…
Мария Нарышкина провела немало лет в детстве и юности в дальних имениях Нарышкиных в Черноземье, на Орловщине и в Курской губернии.
В песнях пронзительная мечта о любви, о встрече «друга милого».
Ещё в советское время в издательстве Просвещение вышла книга Анны Михайловны Новиковой«Русская поэзия XVIII – первой половины XIX в. и народная песня: Учеб. Пособие по спецкурсу для студентов педагогических институтов».
Там особо отмечено:
«Большое значение в истории создания «русских песен» в XVIII веке имели так называемые «нарышкинские» песни – «По горам, горам я ходила» и «Ах, на что ж было, ах, к чему ж было».
Их авторство приписывается дочери известного екатерининского вельможи Л.А. Нарышкина – Марии Львовне Нарышкиной. Песни несут на себе печать большого таланта и, несомненно, принадлежат одному автору, так как их поэтический стиль очень сходен. Если считать достоверным авторство Нарышкиной, о котором писали П.А. Бессонов, И.Н. Розанов и другие исследователи, то необходимо отметить её очень хорошее знание народных песен. Это подтверждают и мемуарные свидетельства об обстановке в доме Нарышкиных. Отец Марии Львовны был русским хлебосолом, весельчаком, любителем пения. Писали о нём как о крупном меценате музыкального искусства конца XVIII века».
Дочь Нарышкина играла на арфе, прекрасно пела и сама сочиняла песни. Об ее красоте, уме и замечательном голосе сохранилось немало воспоминаний. Так, П.А. Бессонов писал, что от пения Марии Львовны приходил в восторг сам Державин.
Обе песни были одновременно опубликованы в сборнике Трутовского. Текст первой песни этого сборника:
По горам, по горам,
Я по горам ходила,
Все цветы, все цветы
И я все цветы видела.
Одного, одного,
Одного цвета нет как нет,
Нет цвета алого,
Алого, алого,
Моего цвета прекрасного.
По двору, по двору,
И я по двору ходила,
Всех гостей, всех гостей
И я всех гостей видела,
Видела, видела,
Одного гостя нет как нет,
Нет, нет гостя,
Ах, нет гостя милого,
Милого, милого,
Моего друга любезного…
Аль ему, аль ему,
Аль ему ли служба сказана,
Аль ему, аль ему,
Аль ему ли государева?
Али мне, али мне
В своем доме воли нет,
Али мне, али мне
Послать было некого?
Я сама, я сама,
Я сама к другу поехала,
Я сама, я сама,
Я сама с другом простилася:
Ты прости, ты прости,
Ты прости, ты прости, сердечный друг!
Анна Новикова далее отметила, что песни Марии Нарышкиной напоминают такие народные песни, «По лугу я, девица, гуляла», «Я по бережку ходила, молода» и другие. В них отображены «поиски девушкой «цвета алого» и «гостя милого»… ну а «запев второй песни как бы отвечал на эти поиски вздохом разочарования:
«Ах, на что ж было, ах, к чему ж было по горам ходить».
Эта поэтическая внутренняя связь между обеими песнями убеждает в том, что они были созданы одним автором».
Анна Новикова полагает, что Мария Нарышкина настолько приближала свою поэзию к народному творчеству, чтов песни "Ах, на что ж было..." использовала некоторые строки из народной песни «Ноченька». Впрочем, в ту пору такие формы были приемлемы – вспомним большую схожесть стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» со стихотворением Василия Андреевича Жуковского «Я памятник воздвиг себе чудесный вечный».
Вот и в стихотворении Марии Нарышкиной есть строчки из песни «Ноченька»:
Ах ты, ноченька,
Ночка тёмная,
Ночка тёмная,
Да ночь осенняя.
С кем я ноченьку,
С кем осеннюю,
С кем тоскливую
Коротать буду?
Нет ни батюшки,
Нет ни матушки,
Только есть один
Мил-сердечный друг.
Только есть один
Мил-сердечный друг,
Да и тот со мной
Не в ладу живёт.
Как видим, возлюбленными Григория Александровича Потёмкина были барышни непростые, прекрасно образованные, талантливые, словом, незаурядные.
И очень странно читать в знаменитом романе Валентина Пикуля «Фаворит» такие вот, явно принижающие истинные духовные, нравственный и культурный уровень князя, строки:
«Чтобы не скучать в дороге, Потёмкин из мучных лабазов Калуги похитил от старого мужа молодую, но весьма дородную купчиху, ублажал её слух «кабацкими» стихами Державина:
– «В убранстве козырбацком, с ямщиком-нахалом, на пноходе хватском, под белым покрывалом… кати, кума драгая, в шубсночке атласной, чтоб осень, баба злая, на астраханский красный не шлендала кабак и не бузила драк…» Ну, целуйся!...»
Иными были женщины, иные отношения с ними, иные речи… К примеру, граф Филипп де Сегюр в своих записках рассказал, что Григорий Александрович старался уединиться с Марией Львовной, во всяком случае быть в стороне от шумных кампаний.
Потёмкин рассказывал ей о своих планах, делился грандиозными замыслами во имя России, и было видно, с каким сниманием и интересом слушала она, и были слышны иногда её фразы:
– О, если бы это свершилось!»
Сохранились письма, которые Потёмкин писал действительно горячо любимой им женщине. Правда, имя этой женщины не установлено. Потёмкин старался сохранять имена своих возлюбленных втайне, если это было необходимо для их безопасности.
Нам бы поучиться слогу, душевному жару и проникновенной пронзительности фраз Григория Александровича:
«Жизнь моя, душа общая со мною! Как мне изъяснить словами мою любовь к тебе, когда меня влечёт к тебе непонятная сила, и потому я заключаю, что наши души с тобою сродные… Нет ни минуты, моя небесная красота, чтобы ты выходила у меня из памяти! Утеха моя и сокровище моё бесценное, – ты дар Божий для меня… Из твоих прелестей неописанных состоит мой экстазис, в котором я вижу тебя перед собою… Ты мой цвет, украшающий род человеческий, прекрасное творение… О, если бы я мог изобразить чувства души моей к тебе!».
Или вот такие слова:
«Рассматривая тебя, я нашёл в тебе ангела, изображающего мою душу. Тайную силу, некоторую сродную склонность, что симпатией называют»… «Нельзя найти порока ни в одной черте твоего лица. Ежели есть недостаток, то только одно, что нельзя тебя видеть так часто, или лучше сказать, непрерывно, сколько есть желание».
Надо думать, что писал это он не купчихам с мучного лабаза, да не в его духе словечки, вставленные в его уста автором романа «Фаворит».
Супруг Российской Государыни
Прошли годы. Императрица утвердила и укрепила свою власть, но ей не хватало надёжного мужского плеча, на которое можно опереться.
Об Орлове она сказала «сей бы век остался, есть ли б сам не скучал», Васильчиков же и подавно внимания не заслуживал. И вот прибыл в столицу вызванный ею из действующей армии Григорий Александрович Потёмкин, закалённый в боях генерал-поручик, не раз отмеченный самими Румянцевым за храбрость и мастерство в командовании войсками.
Рассказывая о его приезде, В.С. Лопатин приводит выписку из Камер-фурьерского церемониального журнала, в котором отмечались все важнейшие события при дворе.
Судя по журналу, 4 февраля 1774 года произошло следующее:
«По полудни в 6-м часу из Первой Армии прибыл ко двору Её Императорского Величества в Село Царское генерал-поручик и кавалер Григорий Александрович Потёмкин, который и проходил к Её Императорскому величеству во внутренние апартаменты».
Далее в журнале указано:
«Через час Екатерина в сопровождении наследника вышла в картинную залу и 9-го часа забавлялась с кавалерами игрой в карты. Первое свидание длилось не более часа. Скорее всего, беседа касалась армии и положения дел в Империи. Отметим небольшую подробность: честь представить Потёмкина Государыне выпала на долю дежурного генерал-адъютанта князя Г.Г. Орлова. Вряд ли он догадывался о том, что «его приятель» Потёмкин был вызван секретным письмом Екатерины.
В эти самые дни знаменитый гость Императрицы Дени Дидро, проведший в Петербурге 5 месяцев, готовится к отъезду. Екатерина так занята своими сердечными делами, что не может найти свободной минуты, чтобы попрощаться с философом, обсуждавшим с ней во время долгих и частых бесед вопросы о положении народа, о необходимых реформах.
Второй раз имя Потёмкина появляются в Камер-фурьерском журнале 9 февраля. Он показан среди 42 приглашённых на большой воскресный приём и обед. Но могли быть тайные свидания, о которых официальный журнал хранит молчание. О первых шагах к сближению рассказывают письма. Сначала Екатерина пишет Потёмкину по-французски, называет его «милым другом», обращается к нему на «Вы». Она просит его выбрать «какие-нибудь подарки для «духа», затем посылает ему что-то – «для духа Калиостро». Этот шифр легко читается. «Духи Калиостро» – согласно учению модного в Европе графа-авантюриста – руководят чувствами людей. Подарок предназначался самому Потёмкину».
7 февраля Екатерина писала Потёмкину:
«Когда Великий Князь уйдёт от меня, я дам Вам знать, а пока что развлекайтесь как можно лучше, не в ущерб, однако, честным людям, к коим я себя причисляю. Прощайте, мой добрый друг...».
И такое письмо написано на третий день после первой встречи…
А вскоре ещё одна записочка, по мнению исследователей, относящаяся к 14 февраля:
«Мой дорогой друг, будьте любезны выбрать мне какие-нибудь подарки для духа и сообщите мне, если можете, как Вы поживаете? Не имея никаких непосредственных сношений и из-за отсутствия господина Толстяка, я вынуждена беспокоить вас. Посему приношу Вам свои извинения».
Загадочные строки. Виднейший исследователь писем и документов екатерининского времени, создатель блистательных документальных фильмов о Суворове, о Потёмкине и о Екатерине Великой Вячеслав Сергеевич Лопатин разгадал их смысл. Оказывается, Екатерина II, любившая делать подарки близким людям, предлагала Потёмкину выбрать себе что-то по душе.
В записочке много иносказательного, ведь её автор – Императрица. Даже имена заменены кличками, известными лишь узкому кругу людей. «Толстяк» – это обер-гофмаршал двора князь Николай Михайлович Голицын, преданный слуга Императрицы, брат генерал-фельдмаршала Александра Михайловича Голицына. Оба – близкие люди Петру Александровичу Румянцеву, который женат на их родной сестре. Тайна встреч Екатерины Второй и Потёмкина находилась в надёжных руках. Мало кто был посвящён в их отношения, и уж, конечно, нигде и ничто не протоколировалось».
А письма следовали одно за другим. Они датированы 14, 15, 16 и 18 февраля. Возможно, были и другие, которые не сохранились. 15 февраля Потёмкин присутствовал на обеде, на котором ещё был и А.С. Васильчиков, доживавший во дворце последние дни.
О Васильчикове Императрица упоминала в «Чистосердечной исповеди», даже не называя его по имени.
Постепенно тон писем менялся. Очевидно, во время тайных свиданий Императрица дала понять Потёмкину, что он ей нужен не как боевой генерал или не только как боевой генерал, которому она собирается поручить ответственное дело, а как близкий человек…
И это, видимо, поставило Григория Александровича в некоторое замешательство. Он сразу твёрдо дал понять, что фаворитом быть не намерен – это претило его представлениям о чести и достоинстве, было несовместимо с его Православным воспитанием. Один из биографов князя подметил, что даже самый зловредный и сардонический мемуарист эпохи, некий Вигель, от которого не было никому пощады, и тот признавал, как он выразился, «моральный характер» Потёмкина.
Из переписки напрашивается вывод, что Потёмкин дал понять Государыне: ни на какие отношения, не освещённые Православной церковью, пойти не может. Очевидно и то, что Императрица дала согласие стать его супругой. Когда-то, вскоре после переворота, подобное предложение уже делал Государыне Григорий Орлов. Но высшие сановники намекнули ей, что готовы повиноваться Императрице Екатерине, а госпоже Орловой – никогда. Теперь она уже могла принимать решение без оглядки на кого бы то ни было.
И вдруг 21 февраля Императрица на целый день затворилась в своих покоях во дворце и никого не принимала. Двор застыл в недоумении. Случилось же это после бала-маскарада, который был дан накануне. На том маскараде Императрица танцевала только с Потёмкиным и несколько раз уединялась для разговора с ним. Возможно, именно тогда он дал ей понять, что не пойдёт ни на какие отношения, не освещённые церковью, и попросил признаться в тех увлечениях, которые были у неё при дворе до встречи с ним. Очевидно, он сказал ей о сплетнях и о том числе увлечений, которые приписывали ей сплетники, поскольку в «Чистосердечной исповеди» Императрица обронила такую фразу:
«Ну, господин Богатырь, после сей исповеди, могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? Извольте видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих: первого по неволе, да четвёртого от дешперации (отчаяния – Н.Ш.). Я думала на счёт легкомыслия поставить никак не можно; о трёх прочих, естьли точно разберёшь, Бог видит, что не от распутства, к которой (здесь и деле сохранены орфография и пунктуация Императрицы – Н.Ш.) никакой склонности не имею, а естьлиб я в участь получила с молода мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Беда в том, что сердце моё не хочет быть ни на час охотно без любви…».
Письмо состоит как бы из ответов на поставленные Потёмкиным вопросы и возражений против некоторых его упрёков.
Возможно, в тот же день 21 февраля 1774 года после того, как Потёмкин прочитал «Чистосердечную исповедь», состоялось объяснение, потому что Императрица направила ему вечером ещё одну записочку: «Я, ласкаясь к тебе по сю пору много, тем ни на единую черты не предуспела ни в чём. Принуждать к ласке никого не можно, вынуждать непристойно, претворяться – подлых душ свойство. Изволь вести себя таким образом, что я была тобой довольна. Ты знаешь мой нрав и моё сердце, ведаешь хорошие и дурные свойства, ты умён, тебе самому представляю избрать приличное по тому поведение, напрасно мучишься, напрасно терзаешься. Един здравый рассудок тебя выведет из беспокойного сего положения; без крайности здоровье своё надседаешь понапрасну».
А 27 февраля, выполняя волю Государыни, Потёмкин написал ей прошение о назначении его генерал-адъютантом:
«Всемилостивейшая Государыня!
Определил я жизнь мою для службы Вашей, не щадил её отнюдь, где был только случай к прославлению высочайшего имени. Сие поставя себе простым долгом, не помыслил никогда о своём состоянии, и, если видел, что моё усердие соответствовало Вашего Императорского Величества воле, почитал себя уже награждённым. Находясь почти с самого вступления в армию командиром отдельных и к неприятелю всегда близких войск, не упускал я наносить оному всевозможного вреда, в чём ссылаюсь на командующего армией и на самих турок.., принял дерзновение, пав к освященным стопам Вашего Императорского Величества, просить, ежели служба моя достойна Вашего благоволения и когда щедрота и высокомонаршая милость ко мне не оскудевают, разрешить сие сомнение моё пожалованием меня в генерал-адъютанты Вашего Императорского Величества. Сие не будет никому в обиду, а я приму за верх моего счастия, тем паче, что, находясь под особливым покровительством Вашего Императорского Величества, удостоюсь принимать премудрые Ваши повеления и, вникая в оные, сделаюсь вящее свободным к службе Вашего императорского Величества Отечества».
И вот перед нами письмо уже совершенно определённого содержания:
«Гришенька не милой, потому что милой. Я спала хорошо, но очень немогу, грудь болит и голова, и, право, не знаю, выйду ли сегодня или нет. А есть ли выйду, то это будет для того, что я тебя более люблю, нежели ты меня любишь, чего и доказать могу, как два и два четыре. Выйду, чтоб тебя видеть. Не всякий вить над собою столько власти имеет, как Вы. Да и не всякий так умён, так хорош, так приятен. Не удивлюсь, что весь город бессчётное число женщин на твой счёт ставил. Никто на свете столь не горазд с ними возиться, я чаю, как Вы. Мне кажется, во всём ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих. Только одно прошу не делать: не вредить и не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны. Нет человека, которого он более мне хвалил и, по-видимому, мне, более любил и в прежнее время и ныне, до самого приезда твоего, как тебя. А есть ли он свои пороки имеет, то ни тебе, ни мне непригоже их расценить и расславить. Он тебя любит, а мне оне друзья, и я с ними не расстанусь…».
Императрица не хотела, чтобы Потёмкин с первых дней пребывания в столице был вовлечен в борьбу придворных группировок. Помнила она и о рекомендательных письмах, которые писал Григорий Орлов Румянцеву, когда Потёмкин отправлялся в армию, о том, как хвалил граф молодого генерала.
На следующий день, 28 февраля, Екатерина сообщила в письме, что приказала заготовить указ о пожаловании Потемкина чином генерал-адъютанта Её Императорского Величества.
1 марта весь двор узнал о новом назначении. Из Москвы приехал граф Алексей Орлов, встревоженный известием. Он прямо спросил у Екатерины о слухах, дошедших до него:
– Да или нет?
– Ты об чём, Алехан? – смеясь, ответила вопросом на вопрос Екатерина.
– По материи любви, – сказал граф Орлов.
– Я солгать не умею, – призналась Государыня.
Да, она полюбила, и ничто уже не могло помешать её счастью.
«С первых шагов своего возвышения Потёмкин не только постоянно дежурит во дворце, – рассказывает в своей книге B.C. Лопатин, – но и становится единственным докладчиком по военным делам. Именно по его совету Екатерина решает направить в Оренбуржье против Пугачёва Суворова, который наконец-то получает чин генерал-поручика (17.3.1774). Потёмкин, хорошо знавший генералов и офицеров действующей армии, рекомендует ей дельных людей, на которых можно положиться.... Поначалу новый генерал-адъютант живёт у своего зятя Н.Б. Самойлова, затем переезжает к сенатору и камергеру И.П. Елагину, верность которого Екатерине была испытана во время дела канцлера графа А.П. Бестужева. 15 марта следует новое пожалование: Потёмкин назначается подполковником в лейб-гвардии Преображенский полк...»
Сближение с Императрицей и возвышение Потёмкина были стремительны. 10 апреля Григорий Александрович переехал в Зимний дворец, где ему отведены покои. 21 апреля, в день своего рождения, Екатерина пожаловала ему ленту и знаки Ордена Святого Андрея Первозванного.
Дипломатический корпус с большим вниманием следил в те дни изменениями при российском императорском дворе.
Прусский посланник граф В.Ф. Сольмс доносил Фридриху II:
«По-видимому, Потёмкин сумеет извлечь пользу из расположения к нему Императрицы и сделается самым влиятельным лицом в России. Молодость, ум и положительность доставят ему такое значение, каким не пользовался даже Орлов».
Английский посланник писал в Лондон:
«Потёмкин действительно приобрёл гораздо больше власти, чем кто-либо из его предшественников».
И все в один голос отмечали высокие личные достоинства нового избранника Российской Императрицы.
Но это ещё не все... Вскоре в Лондон полетела очередная депеша, в которой автор её, Гуннинг, оказался очень близок к истине:
«...Если рассматривать характер любимца Императрицы, которому она, кажется, хочет доверить бразды правления, нужно бояться, что она куёт себе цепи, от которых легко не освободится...».
Впрочем, она ведь и не хотела от них освобождаться на протяжении всей своей жизни, вплоть до последнего часа Потёмкина на этой земле.
Вячеслав Сергеевич Лопатин, тщательно проанализировавший письма того периода, подсчитал, что Екатерина в 28-ми записочках называет Потёмкина «мужем» и «супругом» 30 раз, а себя именует женой 4 раза...
Он доказал, что венчание Григория Александровича Потёмкина и Императрицы произошло 8 июня 1774 года в праздник Святой Троицы, и описал это событие:
«Стояла светлая белая ночь, когда шлюпка отвалила от Летнего дворца на Фонтанке, затем вошла в Неву, пересекла её и двинулась по Большой Невке. Там, в отдалённой, глухой части города возвышался Храм Святого Сампсония Странноприимца, основанный по повелению Петра Первого в честь Полтавской победы… Храм сохранился до наших дней. Чуть более 500 шагов отделяют его от берега Большой Невки. В соборе перед красным иконостасом… духовник Императрицы Иван Панфилов и обвенчал её с Григорием Александровичем Потёмкиным. Свидетелями были: камер-юнгфера Марья Саввишна Перекусихина, камергер Евграф Александрович Чертков и адъютант Потёмкина, его родной племянник Александр Николаевич Самойлов, поручик лейб-гвардии Семёновского полка».
Поскольку, во имя сохранения тайны, лишних людей привлечь было нельзя, за дьячка во время венчания был Самойлов. Впоследствии он вспоминал, что, когда произнёс фразу «жена да убоится мужа», священник вздрогнул – женой-то становилась Государыня. Но Екатерина сделала мягкий жест, мол, всё правильно.
Здесь к месту добавить, что Платон Зубов, последний генерал-адъютант Императрицы, на старости лет, находясь в ссылке в своём имении, признался управляющему своим имением Братковскому, что, как не пытался, так и не сумел подорвать авторитет Потёмкина в глазах Екатерины.
– Императрица, – говорил он с досадою, – всегда шла навстречу желаниям Потёмкина и просто боялась его, будто строгого и взыскательного супруга.
Сразу после соединения морганатическими узами с Императрицей Потёмкин показал, что не собирается быть только «мебелью» при дворе.
В.В. Огарков в книге «Г.А. Потёмкин, его жизнь и общественная деятельность», писал:
«Подобная роль для честолюбивого, гордого князя, для человека такого ума, какой был у Потёмкина, явилась неудобною. Мы видим, что уже в эти (1774–1776) два года почти ни одно решение Государыни не обходится без совета с Потёмкиным, многое делается по его инициативе, так что, в сущности, он является главным её советником, и притом советником авторитетным. Нужно сказать, что многие его действия исполнены известного такта и благородства, исключавшего представление о «чёрной» зависти ко всякому успеху, сделанному помимо его. Так, он настоял на усилении армии Задунайского новыми подкреплениями из России и на не стеснении его инструкциями».
Кстати, о добром отношении Потёмкина к своему учителю говорят и другие источники. В частности, в одном из своих донесений, датированном 15 марта 1774 года, прусский посланник Сольмс указывал:
«Говорили, что Потёмкин не хорош с Румянцевым, но теперь я узнал, что, напротив того, он дружен с ним и защищает его от тех упрёков, которые ему делают здесь».
В скором времени Потёмкин стал членом Государственного Совета, вице-президентом Военной коллегии, получил чины генерал-аншефа подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. Чин очень высокий и почётный, ибо полковником лейб-гвардии, по положению, мог быть только Император, в данном случае, Императрица. Государыня пожаловала ему орден Святого Андрея Первозванного, осыпала прочими милостями.
Конечно, те чины, назначения и награды, которые Григорий Александрович получил в 1774 году, кто-то мог счесть превышающими его заслуги. Но, заметим, он являлся законным супругом Российской Государыни. Но главное – он оправдал их в последующем с лихвою. Возникает и ещё один вопрос: правомерно ли считать Потёмкина фаворитом? Правомерно ли уравнивать этого российского исполина, российского гения со всеми теми лицами, коих принято так именовать?
Чтобы ответить на этот вопрос, вновь обратимся к исследованиям Вячеслава Сергеевича Лопатина, который писал:
«Круг обязанностей Потёмкина очень широк. Как глава Военной коллегии, он ведает кадровыми перемещениями и назначениями в армии, награждениями, производством в чины, пенсиями, отпусками, утверждением важных судебных приговоров. В его архиве сохранились сотни писем и прошений, поданных самыми разными людьми, начиная от простых солдат и крепостных крестьян и кончая офицерами и генералами. Как генерал-губернатор Новороссии, он принимает меры по обеспечению безопасности границ своей губернии, формирует и переводит туда на поселение пикинерные полки. Чтобы заполучить для новых полков опытных боевых офицеров, Потёмкин добивается для них привилегий в производстве в чины.
Екатерина... довольна его успехами, ласково именует Потёмкина «милой юлой», полусерьёзно-полушутливо жалуется на его невнимание к ней из-за множества дел и напоминает слишком самостоятельному «ученику» о необходимости соблюдать субординацию.
Нет таких вопросов, по которым бы она не советовалась с Потёмкиным. Государыня обсуждает с ним отношения с сыном и невесткой, причём касается таких интимных подробностей, как связь великой княгини с графом Андреем Разумовским, близким другом наследника престола...».
С первых дней возвышения Потёмкин, конечно, не без помощи Императрицы, сумел правильно определить своё место при дворе. Он старался сглаживать конфликты, использовать полезных людей для интересов государства.
К тому времени наступил окончательный перелом в ходе русско-турецкой войны.
5 июля 1774 года в деревне Кучук-Кайнарджи начались переговоры, и 10-го числа состоялось подписание выгодного для России мирного договора.
10 июля в честь заключения мира с Турцией, для победы над которой Потёмкин сделал немало, ему было пожалованы графское достоинство, шпага, осыпанная алмазами, и портрет Императрицы для ношения на груди, а уже 21 марта 1776 года «исходатайствовано княжеское достоинство священной римской империи». В 1775 году он получил орден Святого Георгия второй степени за прошедшую кампанию.
Но это было позднее, а пока появилась возможность сосредоточить все силы на борьбу против пугачевщины. Граф Никита Иванович Панин, воспитатель наследника престола и глава Коллегии иностранных дел, предложил послать против Пугачёва своего брата Петра Ивановича. Императрица была в сомнениях, поскольку знала о планах Никиты Панина относительно ограничения Самодержавной власти и о его прожектах, касающихся передачи трона Великому Князю Павлу Петровичу.
Потёмкин счёл возможным пойти на назначение Петра Панина, поскольку считал его исключительно честным и порядочным человеком, не способным к интригам.
Интересна реакция Григория Александровича на известие о заключении мира с Портой. Одному из своих добрых знакомых, правителю секретной канцелярии Румянцева П.В. Завадовскому он писал:
«Здравствуй с миром, какого никто не ждал... Пусть зависть надувается, а мир полезный и славный. Петр Александрович – честь века нашего, которого имя не загладится, пока Россия – Россия».
Вот как оценивал Потёмкин своего учителя графа Румянцева! Что же касается зависти, то на большом приеме в Ораниенбауме, организованном по случаю этого события, на лицах иностранных дипломатов было написано, каково их отношение к успехам России. Лишь датский и английский министры оставались спокойны, все остальные представители западных стран едва скрывали свою досаду.
Вместе с указом о назначении Панина, подписанным Императрицей, Потёмкин направил ему письмо следующего содержания:
«Я благонадежен, что Ваше Сиятельство сей мой поступок вмените в приятную для себя услугу. Я пустился на сие ещё больше тем, что мне известна беспредельная Ваша верность Императрице».
Между тем, в Москве готовилось празднование мира с Портой, назначенное на июль 1775 года. В январе Императрица и Потёмкин отправились в столицу, где остановились в старинном дворце, в Коломенском.
«На московский период приходится кульминация семейной жизни Екатерины и Потемкина, – считает В.С. Лопатин. – По-прежнему все важные дела идут либо на совет, либо на исполнение к «батиньке», «милому другу», «дорогому мужу». Ратификация мирного договора султаном и манифест о забвении бунта и прощении участников возмущения, указ о сбавке цены с соли и устройство воспитательного дома, сложные отношения с крымским ханом и упразднение Сечи Запорожской, разработка положений губернской реформы и многие другие вопросы, занимающие Екатерину Вторую и её соправителя, нашли отражение в личной переписке… В Москве Императрица встретилась с матерью Потёмкина, своей свекровью, и оказала её особые знаки внимания, одарив её богатыми подарками…».
Всё, казалось бы, безмятежно на семейном горизонте. Но чаще возникали ссоры, которыми заканчивались обсуждения государственных дел.
Празднования на время примирили супругов. 8 июля Москва торжественно встретила Петра Александровича Румянцева, блистательного победителя турок, а 10-го числа начались торжества поразившие своим великолепием даже дипломатический корпус.
На 12 июля были назначены народные гулянья на Ходынском поле, которые затем внезапно отложили на неделю. Поступило сообщение о болезни Императрицы. Но что это была за болезнь? Сама Государыня поясняла в письмах своим корреспондентам, что причиной, якобы, были «немытые фрукты». Не скоро исследователи докопались до истины.
В.С. Лопатин так пояснил случившееся:
«12 или 13 июля Екатерина подарила своему мужу девочку. Это был пятый ребёнок Екатерины. Первым был Павел, второй Анна, затем дети Григорий Орлова – сын Алексей (будущий граф Бобринский) и… дочь Наталья (будущая графиня Буксгевден). И, наконец, дочь Елизавета, рождённая в законном браке, от горячо любимого мужа.
Елизавета Григорьевна Тёмкина воспитывалась в семье племянника Потёмкина А.Н. Самойлова. Вряд ли она знала, кто её мать. Тёмкиной не было и 20 лет, когда её выдали замуж за генерала И.Х. Калагеорги, грека на русской службе.
Кисть В.Л. Боровиковского запечатлела её облик. На двух портретах изображена молодая женщина, черты лица которой напоминают отца, а фигура – мать. Что это? Посвящение в тайну? Или талант портретиста, умевшего уловить такие тонкие детали? У Елизаветы Григорьевны было несколько сыновей и дочерей. Потомство её здравствует и по сё время.
После рождения дочери отношения между супругами, казалось бы, должны были ещё более упрочиться. Но этого не произошло. Семья не складывалась. Многие историки и писатели ошибочно именовали Потёмкина фаворитом. Фаворитом он не был ни на один час. Напомним, что в феврале 1774 года, по приезде в Петербург, он почти тут же сделался женихом, ибо сразу объявил Императрице, что ни на какие отношения, не освещённые церковью, как человек Православный, не пойдёт. И она дала согласие стать его супругой. А уже в июне он стал законным супругом Государыни. Коим оставался до последнего дня своей жизни, ибо церковный брак расторгнут не был. Сие обстоятельство наложило отпечаток на его жизнь, не позволив поставить между собою и Государыней в качестве супругу какую-то другую женщину.
Как решили свой личный вопрос Потёмкин и Императрица, известно лишь им самим. Мы можем лишь констатировать случившееся, основываясь на письмах и документах. Вот что пишет B.C. Лопатин:
«Кризис в отношениях Екатерины II и Потёмкина длился с конца января по конец июля 1776 года. О его фазах можно судить по письмам Императрицы своему мужу и соправителю. Тяжелое впечатление оставляют эти письма при чтении: ссоры, размолвки, взаимные упреки и обвинения – вот их главное содержание. Чтобы понять происходящее, следует напомнить о том, что Екатерина играла отнюдь не декоративную роль в управлении государством. Она знала цену власти и умела пользоваться ею. Слишком часто она видела, как меняются люди под бременем власти. Недаром, заканчивая «Чистосердечную исповедь», она просила Потёмкина не только любить её, но и говорить правду. Известно изречение Екатерины: «Мешать дело с бездельем». Современники отмечали её умение шуткой, непринужденной беседой ослаблять гнёт власти и государственных забот. Она любила до самозабвения играть с маленькими детьми, с чужими детьми, потому что своих почти не знала. Признаваясь Потёмкину в пороке своего сердца, которое «не хочет быть ни на час охотно без любви», она как бы говорила: жить без любви и взаимной ласки невозможно. Екатерина пыталась сохранить для себя и своего избранника тепло семейного уюта, оградить свой интимный мир от страшной силы государственной необходимости. С Потёмкиным это оказалось невозможным. Она сама вовлекла его в большую политику и.... потеряла для себя.
«Мы ссоримся о власти, а не о любви», – признаётся Екатерина в одном из писем. Первой она поняла суть этого противоречия, первой почувствовала необходимость отдалиться от Потёмкина (как женщина), чтобы сохранить его как друга и соправителя.
А.Н. Фатеев на основании изучения переписки Екатерины Великой и Потёмкина сделал вывод:
«Перед нами пара, предоставившая друг другу полную свободу в супружеских отношениях. Государственные же отношения сделались ещё более скреплёнными, и между соправителями образовались самые искренние чувства взаимного уважения и сотрудничества».
Потёмкин, по его мнению, был по характеру своему, плохо приспособлен к семейной жизни. Историк писал:
«Арабская поговорка изображает семейного человека львом в клетке, а он всю жизнь оставался пустынными львом на свободе».
Разрыв и первая утешительница Потёмкина
Итак, отставка…
Потёмкин отнёсся к ней без особых переживаний. Он лишь просил:
«Ежели мне определено быть от Вас изгнанному, то лучше пусть это будет не на большой публике. Не замешкаю я удалится, хотя мне сие и наравне с жизнью».
Разлад назрел к весне 1776 года. Он постепенно назревал, но поначалу неизбежность расставания была видно только самим супругам, но постепенно это стали замечать многие. В мае Кирилл Григорьевич Разумовский сообщил своему земляку и наставнику сына Михаилу Ивановичу Коваленскому, что для Потёмкина, который вот-вот получит отставку у Императрицы, «утешительницей» становится шестнадцатилетняя фрейлина Екатерина Сенявина.
По удивительному совпадению она тоже, как и Императрица, была Екатериной Алексеевной.
Синявина, происходившая из знатной семьи, была определена во фрейлины ещё в одиннадцать лет. Такое практиковалось. Это почётное пожалование. Исполнение обязанностей при дворе при этом было не обязательно. Во фрейлины Екатерину пожаловала Императрица вместе с её родной сестрой, примерно того же возраста. Обе были, по отзывам современников, необыкновенными красавицами.
Впоследствии граф П.В. Завадовский назвал сестёр нимфами. Императрице особенно полюбилась юная Катенька, которую она почти постоянно держала при себе. Екатерина Сенявина присутствовала на приёмах, на балах и обедах, часто состояла в свите Государыни.
Так в Камер-фурьерском журнале было отмечено, что 6 июня 1776 года в Царском Селе «в комнатах Его Королевского Высочества начался при Гоф-музыке комнатный концерт, во время которого пели, во-первых, Его Королевского высочества секретарь (Гортчинский), после оного по-французски господин Обер-шталмейстер Его Высокопревосходительство Лев Александрович Нарышкин и госпожа фрейлина Синявина».
Императрица даже взяла Сенявину в довольно длительную поездку в Ярополец в гости к З.Г. Чернышёву. Юная фрейлина исполняла там музыкальные произведения собственного сочинения.
В июне 1776 года она играла и пела в Царском Селе для прусского принца Генриха.
Екатерина Алексеевна родилась в семье знаменитого адмирала Алексея Наумовича Сенявина, предположительно в 1761 году. Плюс – минус один-два года. Сенявины – род героический. Дальним родственником приходился Екатерине и знаменитый адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин, возглавивший в 1807 году Вторую Архипелагскую экспедицию русского флота, победитель турок в Афонском сражении и при Дарданеллах, при Императоре Николае Первом – командующий Балтийским флотом.
Но каковы же были отношения с нею у Григория Александровича? Вряд ли можно найти точные достоверные документальные подтверждения. Мы уже видели одно такое увлечение Потёмкина – влюблённая барышня помогла вытащить Потёмкина из добровольного заточения, он даже бывал у неё в гостях и родители, возможно, полагали его женихом, но имя этой его пассии осталось неизвестным.
То же и с Екатериной Сенявиной. Вполне возможно Григорий Потёмкин и положил на неё глаз, но нет данных, что были какие-то у них серьёзные отношения.
Самойлов, кстати писал об одном золотом правиле Потёмкина:
«Если он иногда имел сокровенные связи, то не обнаруживал оных явно, не тщеславился, подобно многим знаменитым людям, своими метрессами»
А вот Гавриил Романович Державин писал:
«Многие почитавшие Потемкина женщины носили в медальонах его портреты на грудных цепочках».
О том же в 1774 году с некоторой ревностью упомянула в одной из своих записочек Императрица:
«Весь город, бесчисленное количество женщин на ваш счёт ставят. И правда, нет большего охотника с ними возиться».
На то же обстоятельство указывал и Массон Шарль Франсуа Филибер, одно время по протекции своего брата преподававший в Петербургском Инженерном и Артиллерийском кадетском корпусе.
«Когда его не было, все говорили лишь о нём; когда он находился в столице, никого не замечали, кроме него».
Сенявина вполне могла покорить Потёмкина своими незаурядными музыкальными дарованиями.
Нельзя сказать, что расставание с Императрицей становилось трагедией для Потёмкина, ведь решение, скорее всего, было обоюдным.
«Мы ссоримся о власти, а не о любви».
Ну что ж, Екатерина Сенявина была умна, очень красива, начитана, образована и воспитана, да вот только Потёмкин, связанный брачными узами с Государыней, не мог нечего предложить ей, кроме короткого романа.
Конечно, любимая фрейлина Императрицы могла надеяться на то, что Потёмкин сделает предложение. Ни она, ни её родители не знали, что Григорий Александрович связан брачными узами с Императрицей. Брак не был расторгнут.
В конце концов, стало ясно, что Потёмкин предложения не сделает. Зато один из наиболее именитых и расторопных вздыхателей и поклонников 35-летний генерал-майор граф Семён Романович Воронцов оказался очень настойчив. Выбора не было. Екатерина Алексеевна Сенявина к всеобщей радости и своих родителей, которых стала уже волновать неопределённость отношений с Потёмкиным, и всей родни дала согласие.
Венчание состоялось 18 августа 1781 года, и уже 16 мая 1782 года графиня Екатерина Воронцова родила сына Михаила. Злые языки тут же подметили, что столь «плотно вписавшаяся в календарь беременность» говорит о крайней необходимости для невесты столь скорого замужества. Другие полагают, что тень Императрицы стояла за этой свадьбой. Конечно, Государыню не столь уж и волновали связи Потёмкина, с которым супружеские отношения остались лишь на уровне официально-церковном. Но и присутствие при дворе возлюбленной князя её не устраивало – слишком много было разговоров по этому поводу. В какой-то степени это замужество избавляло Потёмкина от ответственности за эту его связь.
Впрочем, называют и другую дату свадьбы – 18 августа 1780 года. И тогда сплетни повисают в воздухе, как повисают в воздухе подозрения о возможном отцовстве Григорий Александровича Потёмкина.
Впрочем, супружество продолжалось недолго. 25 августа 1784 года графиню Воронцову сразила чахотка.
Что же касается сына Семёна Романовича и Екатерины Алексеевна, то, опять же, некоторые биографы задают вопрос: «Какую фамилию на самом деле должен был бы носить Михаил Семенович Воронцов, знаменитый герой войны 1812 г., не менее знаменитый генерал-губернатор Юга России, фактически наследовавший Потёмкину и как «светлейший князь», и как правитель Крыма. Его редкая, неворонцовская, щедрость и блестящие административные таланты, проявившиеся также именно на Юге, наводят на ряд размышлений».
Но ответ на этот вопрос получить уже невозможно. Его унесла в могилу «утешительница» Потёмкина после разрыва его с Императрицей очаровательная Екатерина. Потёмкин мог и не знать о своём отцовстве, если даже таковое и было, ну а что касается графа Семёна Романовича Воронцова, то и подавно. Правда, хорошо известно, что граф не любил Потёмкина.
Воронцов оказался хорошим семьянином, хоть и недолго наслаждался семейным счастьем, и прекрасным отцом, воспитавшим двоих детей.
Его нелюбовь к Потёмкину проявилась и в том, что он добавил хворосту в костёр клеветнических вымыслов о Григории Александровиче, написав в 1799 году, когда его дочь уже в период царствования Павла Петровича пожаловали во фрейлины:
«При прежнем царствовании я бы не согласился на это и предпочел бы для моей дочери всякое другое место, пребыванию при дворе, где племянницы князя Потёмкина по временам разрешались от бремени, не переставая называться порядочными девицами».
Ну и коли уж мы коснулись явно клеветнического выпада в адрес Потёмкина, то самое время сказать пару слов и по поводу автора клеветы.
В своих записках генерал-аншеф князь Юрий Владимирович Долгоруков, автор военных мемуаров, отозвался о Семёне Романовиче Воронцове как о человеке талантливом, но плутоватом и отметил, что тот «угодничал» сначала перед Орловыми, когда они были в силе, а потом перед Потёмкиным, который способствовал в получении им высокого дипломатического поста. Ну а после смерти Светлейшего забыл о сём, и подверг порядки при дворе Императрицы Екатерины гнусной, недостойной мужского звания клевете. Причём написал так, как не осмелился бы сделать это при жизни Государыни.
Потёмкин на пути к супружеству
Потёмкин на пути к супружеству
По окончании кампании 1770 года Пётр Александрович Румянцев направил в Петербург генерал-майора Григория Александровича Потёмкина с победной реляцией, причём сделал это не случайно, а, следуя далеко идущим планам. В письме, адресованном Императрице, он сообщал:
По окончании кампании 1770 года Пётр Александрович Румянцев направил в Петербург генерал-майора Григория Александровича Потёмкина с победной реляцией, причём сделал это не случайно, а, следуя далеко идущим планам. В письме, адресованном Императрице, он сообщал:
«Ваше Величество видеть соизволили, сколько участвовал в действиях своими ревностными подвигами генерал-майор Потёмкин. Не зная, что есть быть побуждаемым на дело, он искал от доброй воли своей везде употребляться. Сколько сия причина, столько и другая, что он во всех местах, где мы ведём войну, с примечанием обращался и в состоянии подать объяснения относительно нашего положения и обстоятельств сего края, преклонили меня при настоящем конце кампании отпустить его в Санкт-Петербург…».
Да, действительно, Потёмкин прекрасно изучил не только характер театра военных действий, но глубоко вник и в политическую обстановку, разобрался в отношениях между турками и татарами, что было для Государыни очень важно.
Но Пётр Александрович Румянцев думал не только об этих, пусть даже и весьма важных обстоятельствах. От своей сестры Прасковьи Александровны Брюс, которая была близкой подругой Императрицы, он знал о сердечных неудачах Государыни, знал, что давно уже наметилась трещина в её отношениях с Орловым, но и новый избранник Васильчиков не удовлетворяет всем требованиям, которые она предъявляла к тому, кому вверяла своё сердце. Румянцев опасался, что стремясь иметь рядом мужское плечо, на которое можно опереться, Императрица может ошибиться в выборе этого плеча. А это дурно скажется на государственных делах. И, направляя в Петербург Потёмкина, он хотел лишний раз напомнить о нём Государыне, ведь не было секретом, что она симпатизировала этому человеку и даже принимала участие в его судьбе.
Многие искали, но не все могли найти ответ на вопрос, отчего вдруг Екатерина Вторая приблизила ко Двору ещё совсем молодого офицера, так уж особенно в ту пору себя ничем не зарекомендовавшего.
А если это любовь? Но что такое любовь? По словам архимандрита Паисия Величковского, первая добродетель – вера, а вторая добродетель – любовь к Богу и людям. Святой старец писал: «Любовь обнимает и связывает воедино все добродетели. Одною любовью весь закон исполняется, и жизнь богоугодная совершается. Любовь состоит в том, чтобы полагать душу свою за друга своего, и чего себе не хочешь, того другому не твори. Любви ради Сын Божий вочеловечился. Пребывающий в любви – в Боге пребывает; где любовь, там и Бог».
С любовью к России, с любовью к людям ступила на путь государева служения Императрица Екатерина Вторая.
У нас нет оснований, полагать, что приближение ко двору Потёмкина было проявлением каких-то особых чувств к нему со стороны Государыни. В её эпистолярном наследии, относящемся ко времени переворота, он почти и не упоминается.
Даже в пространном письме к Понятовскому, датированном 2 августа 1762 года, о Потёмкине говорится, как мы уже упоминали, лишь один раз, но даже возраст указан неверно... О своих чувствах к Потёмкину Государыня ничего не говорит, а если женщина не говорит о том сама, разве кто-то вправе что-либо за неё домысливать? А вот то, что в те годы рядом с нею был Григорий Орлов, Екатерина Вторая признаёт: «…сердце моё не хочет быть не ни на час охотно без любви…» и говорит: «Сей бы век остался, если б сам не скучал». Это признание показывает, что хоть власть завоевана, да счастья в жизни личной нет, и любовь, живущая в сердце, выходит за рамки узкого понимания этого чувства.
В первые годы её царствования проявление широкой сердечной любви было совершенно особым, непонятым хулителями всех мастей, понимавших любовь так, как ныне понимают её нынешние демократы.
Хотя термина «заниматься любовью» в годы Екатерины Великой и не было, само подобное словосочетание, появись оно случайно, было бы понято совершенно иначе. Сотворять любовь значило бы укреплять мощь Державы на благо людям, что б жили они, по определению Государыни, в довольстве.
Сердце Государыни не могло охотно жить без любви, но, если Григорий Орлов, по словам её сам скучал, любовь Екатерины в высоком понимании этого слова проявлялась в борьбе, суровой борьбе за могущество Российской Державы, а, стало быть, за благоденствие подданных.
Это всецело относилось и к Потёмкину. Вячеслав Сергеевич Лопатин писал: «Среди окружавших Государыню гвардейских офицеров Потёмкин выделялся своей учёностью и культурными запросами».
Григорий Александрович, как уже упоминалось, очень много читал, и чтение развивало его ум, а не являлось просто одним лишь удовольствием. Этим он уже был близок Екатерине, которая в бытность свою Великой Княгиней подружилась с хорошей, доброй книгой. Люди начитанные всегда находят немало тем для разговоров.
Потёмкин был принят в узкий кружок личных друзей Государыни не только как активный участник переворота и статный красавец, но – и это скорее всего в первую очередь – как человек высокой культуры и всегда приятный, умный собеседник, с которым и время легко летит и за которого не стыдно ни за столом, ни в салоне.
О его развитости свидетельствует и умение быстро, на ходу сочинять четверостишия, когда это очень к месту. Его литературные способности тоже привлекали Императрицу-философа, Императрицу-писательницу.
Посвящал ли он стихи Государыне? Судя по восторженному, трепетному отношению к ней можно с высокой достоверностью утверждать, что не мог не посвящать. Но, увы, они не сохранились, как и многие его письма и записочки личного характера, адресованные её в более поздние времена, в 70-е годы.
Почему-то многочисленные и до предела бестактные исследователи интимной стороны жизни Императрицы Екатерины Великой упрямо не замечают её исполненного отчаяния признания, сделанного в письме к Григорию Александровичу Потёмкину. Письмо то было писано приблизительно в феврале 1774 года и получило название «Чистосердечной исповеди». Оно, кстати, не скрыто за семью печатями. Одна из первых его публикаций сделана ещё в 1907 году А. С. Сувориным в книге «Записки Императрицы Екатерины Второй», о которой мы уже упоминали, и которая, кстати, репринтно переиздана в 1989 году.
Павел Васильевич Чичагов, первым возвысивший голос в защиту Государыни, писал: «При восшествии на престол ей было тридцать лет (точнее 33-ред.), и её упрекают за то, что в этом возрасте она была не чужда слабостей, в значительной доле способствовавших популярности Генриха IV во Франции. Но мы ведь к нашему полу снисходительны. Нелепой мужской натуре свойственно выказывать строгость в отношении слабого, нежного пола и всё прощать лишь своей собственной чувственности. Как будто женщины уже недостаточно наказаны теми скорбями и страданиями, с которыми природа сопрягла их страсти! Странный упрёк, делаемый женщине молодой, независимой, госпоже своих поступков, имеющей миллионы людей для выбора».

П.В. Чичагов, сын знаменитого екатерининского адмирала В.Я. Чичагова, не понаслышке, не по сплетням изучивший золотой век Екатерины и имевший все основания писать о нём правду, а не «сладострастно» измышлять с приставками «думается» и «иначе и не могла поступать» указал: «Всё, что можно требовать разумным образом от решателей наших судеб, то – чтобы они не приносили в жертву этой склонности (имеется в виду любовь – Н.Ш.) интересов государства. Подобного упрёка нельзя сделать Екатерине. Она умела подчинять выгодам государства именно то, что желали выдавать за непреодолимые страсти».
Петру Александровичу Румянцеву было известно многое из того, что делалось при Дворе, и он надеялся, что у Потёмкина есть серьёзный шанс занять место в сердце Государыни. Потому-то для Григория Александровича эта поездка в столицу и имела далеко идущие последствия. Представленный Императрице Екатерине Второй после долгого перерыва, он оставил след в её сердце.
Известный биограф Потёмкина, наш современник Вячеслав Сергеевич Лопатин, издавший личную переписку Потемкина и Екатерины Второй, отмечает:
«Камер-фурьерский журнал за октябрь и ноябрь 1770 года свидетельствует о том, что боевой генерал был отменно принят при дворе. Одиннадцать раз он приглашался к царскому столу, присутствовал на первом празднике георгиевских кавалеров, ставшем с тех пор традиционным собранием воинов, прославившихся своими подвигами. Гостивший в Петербурге брат прусского короля принц Генрих после нескольких бесед с Потёмкиным предрёк ему большое будущее.
Правда, в это самое время звезда братьев Орловых находилась в зените. Григорий Орлов пользуется полной благосклонностью Екатерины. Его братья Алексей и Фёдор прославили свои имена в Чесменской битве.
«Подлинно Алехан, описан ты в английских газетах, – писал Алексею младший брат Владимир. – Я не знаю, ведомо ли тебе. Конечно, так хорошо, что едва можно тебя между людьми считать». Алексей Орлов получил орден св. Георгия 1-й степени, Фёдор – 2-й. Но Государыне не выпускает из поля зрения Потёмкина».
Перед Императрицей был уже не придворный чиновник, а закалённый в боях генерал, не раз продемонстрировавший свою верность России и преданность престолу. Екатерина же ценила в людях мужество и отвагу.
Содействовала сближению Потёмкина и Императрицы графиня Прасковья Александровна Брюс, в девичестве Румянцева, действовавшая по поручению своего брата Петра Александровича. Потёмкин был удостоен особого внимания – он получил разрешение писать Императрицы лично, правда, поначалу было оговорено, что её словесные ответы он будет получать через своего друга придворного поэта Василия Петрова и личного библиотекаря Императрицы Ивана Порфирьевича Елагина.
Между тем, пришло время возвращаться в армию. Даже Григорий Орлов удостоил Потёмкина своих рекомендательных писем.
Война продолжалась. Позади был победоносный 1770 год. Турок били везде – и на суше и на море. Чесменское сражение полностью лишило Османскую империю флота. Но впереди ещё было более трёх лет войны, которые Потёмкин почти полностью провёл в действующей армии.
Императрица не забывала о нём, к тому же частенько напоминала ей об этом, якобы, влюблённом в неё генерале сестра Петра Александровича Румянцева Прасковья Александровна Брюс.
И вот в декабре 1773 года Григорий Александрович получил от Императрицы личное письмо, в котором она писала: «Господин генерал-поручик и кавалер. Вы, я чаю, столь упражнены глазением на Силистрию, что Вам некогда письма читать; и хотя я по Сю пору не знаю, преуспела ли Ваша бомбардирада, но, тем не меньше, я уверена, что всё то, что Вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему Вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, которого службу Вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то Вас прошу по-пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно написано? На сие Вам имею ответствовать: к тому, чтобы Вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к Вам весьма доброжелательна. Екатерина».
Прочитав письмо, Потёмкин понял, что пришла пора действовать. Каждой строкой, каждой фразой Императрица давала понять, что желает видеть его, и как можно скорее. О том же сообщил ему и Румянцев, получивший письмо от своей сестры.
Как уже упоминалось, Ар.Н. Фатеев справедливо заметил: «У великих людей есть какое-то предчувствие места и времени свершения или, по крайней мере, выбора своего великого дела».
Этот выбор сделал Григорий Александрович Потёмкин, когда, отказавшись от беспечной столичной жизни и службы при дворе, попросился в действующую армию. Теперь выбор за него сделала Государыня, о которой настало время сказать более подробно.
Завидую !
Да всё на фото, собственно. Еще о лучшей картине 2015 года (по моему мнению) и итоги года...
С Новым Годом, товарищи !
Послушал всяких комментаторов, которые подводили итоги года и почти в унисон трубили о том, что год был трудным и ничего хорошего не припоминается.
А уж либерасты так те в один голос орут что год был ужасный, провальный и всё такое, короче - Путин уходи! Запад приходи!
А вот я считаю что год был трудным, да с этим не поспоришь, хотя лично я никаких особых трудностей не заметил, да и потом - если какого -то слишком ръяного кричальщика про трудности спросить - "А какие собственно, вот лично тебя преследовали трудности ?"- то тут же гражданин начнёт путаться в показаниях и с трудом приведёт примеры " трудностей".
При дальнейшем же разборе "трудностей" окажется, что все те проблемы о которых начнёт вещать "всёпропальщик" он создал себе сам , собственными руками.
Яркий пример - публицист Юрий Мухин, который не смотря на ласковое предупреждение власти ( первый раз получил два года условно за создание экстремисткой организации) посчитал что он самый умный (естественно, он же родом из Днепропетровска), поменял название организации и продолжил экстремистскую деятельность...за что сейчас находится под домашним арестом и против него возбуждено уголовное дело.
Так вот - я считаю, что не смотря на незначительные трудности, год был замечательным!
Почему ?
Да по тому, что в этот год большинство нормальных людей окончательно избавилось от иллюзий относительно " хорошего и пригожего" Запада, который всем (в том числе и нам ) желает только добра.
А эти иллюзии, не смотря на омерзительный и лживый лик тупиковой ветви развития цивилизации у многих ещё присутствовал.
Теперь о запомнившемся событии в культурной жизни.
Я прекрасно понимаю, что зависть это смертный грех, но глядя на этот шедевр...завидовал, блин, ну почему я не написал подобный - а ведь, как говорится, Вася Ложкин с языка снял.
Что - то подобное вертелось в голове и даже образы подбирал, не вышло...опередили.
Вот он шедевр !

В каждом мазке кисти - правда ! Особенно в той её части, что представлена под названием "Заграница".
Если кто сомневается ( а такие ещё всё же есть) можно ознакомится с этим роликом.
Осторожно, в кадре присутствуют голые муди на сцене.
Или вот, как иллюстрация к персонажу, который ест из горшочка с надписью "дерьмо" :
Германия. В 2001 году Майвес подал объявление в интернете о поиске человека, который согласился бы быть съеденным. На объявление откликнулся Юрген Брандес. Житель Берлина.
Как следует из видеозаписи, которую вели сексуальные партнёры, Майвес после очередного занятия сексом отрезал Брандесу пенис. После того, как Брандес принял большую дозу алкоголя и болеутоляющих средств, Майвес убил его. Мясо партнёра он сохранил в морозильной камере и питался им в течение нескольких месяцев. В частности, он готовил барбекю , поджаривая рёбра Брандеса.
Новогодний романс.
Новогодний романс

Начало зимы казалось безрадостным… Дни всё короче – ночи длиннее. А на душе печаль. Она наваливалась в редкие часы, а то даже минуты отдыха от службы.
Небольшой гарнизон, утонувший в лесах, заброшенный в паутину рек и озер неповторимого Валдайского края. И лишь тонкая дороги, рассекающая вековой лес, связывает с небольшой железнодорожной станцией, островком относительной цивилизации. А дальше - дальше узловая станция, но до неё пара десятков километров.
А в самом гарнизоне – служба. Служба у всех, у кого на плечах погоны. Работа у тех, у кого погон нет. Но у всех одно важное дело - хранение боеприпасов и производство некоторых видов вооружения.
Счастливы те, кто счастлив в семейной жизни. А каково тому, кто вечера проводит в одиночестве, вспоминая то, что скрыто за лесными массивами. Не скажешь:- за горизонтом. Горизонта просто нет, он разорван в мелкие клочья остроконечными вершинами елей, прорезан свечками берёз.
Остаётся только выйти к реке, медленно промерзающей от первых морозов, да и написать…
Уж льдинки по реке плывут, шурша ворчливо,
Пал на поля снежок, заплатки налепив,
А тополь всё стоит на взгорке сиротливо –
Он также как и я печально молчалив.
Пустынно всё вокруг, давно уж рощи голы,
Где соловей сплетал свой песенный венок,
Но не осенний вид наполнил сердце болью,
А тополь, что грустит – как я он одинок.
Ещё вчера сиял луч солнечной надежды,
И всё казалось мне, что сбудутся мечты,
Но с грустью понял я, что одинок как прежде,
И понял, что меня уж забываешь ты.
А тополь всё стоит на взгорке сиротливо,
И гонит от себя он стаи белых мух.
Он ждёт свою весну, с надеждой, терпеливо,
А я уж без надежд завидую ему.
А зима наступает, хоть и медленно, но неотвратимо. Вьюжит, пуржит, заметает дороги. И вот уже на службу идти приходится по темноте, а уж со службы-то и подавно.
Дневная суета отвлекает, но вечер, вечер снова вдвоём с молчаливым телефонным аппаратом.
И вспоминается весна, минувшая весна…
Дождь прошёл, подсыхает трава,
А по небу лазурь разливается,
И кружится моя голова,
И стихи в моём сердце слагаются.
Расцветает на Солнце сирень,
Вот уж яблони цвет распускается –
В этот вешний сверкающий день
О любви и о счастье мечтается!
О, мечты! Вы зовёте меня
В дали дальние, дали туманные...
Птички как колокольцы звенят...
И мечтаю я встретить желанную…
И встретил, и жизнь наполнилась иным содержанием, и дела спорились, и служба шла веселее.
И иные лились стихи - радостные, словно из души…
Если ты проснёшься ночью светлой
И на небо глянешь, загрустив,
Знай, что это я прислал привет свой
Звёздной почтой Млечного пути.
Если днём тебя коснётся радость,
Если рассмеёшься без причин,
Знай, что я тебе, моя отрада,
Шлю любви безоблачной лучи.
Если осень грусть тебе навеет,
Зашуршит у ног опавший лист,
Знай: моя любовь тебя согреет,
Ведь огонь её горяч и чист.
А меня кружит судьба Земная,
И сбиваюсь я порой с пути.
Только знай, что ты – моя родная,
И родней тебя мне не найти!
И вдруг всё ушло, истаяло, скрылось за массивами лесов, лабиринтами рек, ещё недавно сверкающих на солнце, но теперь ставшими свинцовыми, а кое-где уже одевшимися в пока ещё тёмный от тёмной воды под ним, лёд.
Меня тревожит одиночество,
Упрямо душу теребя,
Не потому ли мне так хочется
Увидеть наяву тебя.
Взглянуть в глаза твои бездонные,
Услышать голос чудный твой,
Но предо мной стекло оконное,
Ну а за ним лишь ветра вой.
Но все эти мысля, мечты, чаяния уходят в пустоту.
А утром снова служба, снова заботы, снова насущные дела. А за ними незаметно близится Новый год, который приносит радость всем, всем, всем, но на этот раз всем, кроме меня…
Сегодня тихо падал снег,
Мороз ослабил натиск свой,
И словно замер жизни бег,
Когда я вспомнил образ твой,
И думал, думал о тебе,
Любуясь стройностью берёзок:
"Что значишь ты в моей Судьбе?"
Но всё несбыточно, всё – грёзы…
И вдруг… Это было неожиданно, это казалось невероятным…
Был конец декабря,
и уже я не думал о встрече;
Был конец декабря,
и почти позабыл я тебя.
Мне шептал снегопад:
«Посмотри всё на свете не вечно,
У любви же твоей,
как у хрупкой снежинки судьба.
Покружит над землёй –
белый вальс проиграет ей ветер,
И сверкнёт над тобой
недоступной своею красой.
Вот такую снежинку
себе не радость ты встретил,
Только к ней прикоснись –
обернётся хрустальной слезой».
Был поверить готов
в эту истину очень простую,
И боролся, как мог,
с безмятежной мечтою своей.
И себя убеждал,
что мечту я лелею пустую,
И себя убеждал,
что пора позабыть мне о ней.
За оконным стеклом
я не видел морозных узоров,
Лишь разводы от слёз,
что снежинки с Небес принесли,
И решил, что напрасно
в ночную, тоскливую пору,
Я о встрече с тобой
Богородицу слёзно молил.
А наутро мороз
на стекле вытер насухо слёзы,
Но я понял не вдруг,
от чего же так стало светло –
То звонил телефон,
как снежинки звенят на морозе,
Голос в трубке звенел,
разливая по сердцу тепло.
Был конец декабря
и стоял Новый Год на пороге,
В ярких солнечных бликах
на стеклах сияли цветы…
«Я с вокзала звоню…
я к тебе уже, милый, в дороге…
Пусть же сбудутся все
сокровенные наши мечты!»
*.*.*
Вновь конец декабря,
и стоит Новый Год на пороге,
И прошедшего каждый
сегодня листает листы,
Чтоб не сбиться с пути,
чтобы верными были дороги…
Я желаю всем нам…
чтобы помыслы были чисты!
Потёмкин стал "искать взглядами... победительницу свою..."
Потёмкин стал «искать взглядами... победительницу свою…»
(Продолжение)
Потёмкин впервые увидел свою будущую супругу Екатерину Алексеевну, только что вступившую на престол, когда ему не исполнилось ещё и 23 лет.
О сердечных его увлечениях до того времени ничего неизвестно. Но что же дальше? 23 года – возраст по тем временам уже не такой уж и малый. Петра Александровича Румянцева, его учителя в боевых делах, в том возрасте уже женили. Да и только ли его?!
О первом увлечении рассказывает племянник Потёмкина Александр Николаевич Самойлов, сын его сестры Марии Александровны, выданной замуж за графа Николай Александровича Самойлова, капитана лейб-гвардии Преображенского полка, который впоследствии «дослужился в чин тайного советника, был сенатором и ордена Святой Анны кавалером».
После переворота 28 июня 1762 года, вступившая на престол Императрица Екатерина Алексеевна, приблизила ко двору наиболее ярких и отважных участников тех событий. Потёмкин был отмечен особым вниманием за своё воспитание, за начитанность, умение поддержать интересный разговор, за необыкновенный такт в общении с людьми и в то же время твёрдость в отстаивании своей точки зрения.
Он стал активным участником мероприятий, связанных с коронацией Императрицы, которые проходили в Москве. Двор после торжеств надолго задержался в Древней Столице.
В этот период, как выразился Александр Николаевич Самойлов, «при первоначальном служении Григория Александровича при дворе», было увлечение одной очаровательной придворной, принадлежащей к высшему свету, да всё оборвалось, ибо, по словам Самойлова, «когда столь лестные надежды приготовляли его к скорому возвышению, постигло его несчастие».
Самойлов подробно остановился на том весьма трагичном эпизоде из жизни Григория Александровича не случайно. Происшествие то обросло множеством самых невероятных сплетен. То, что у Потёмкина были проблемы с одним глазом, достаточно известно, он даже на портретах изображён чаще всего в профиль, да с таким расчётом, чтобы левый глаз не попадал в «объектив» художника.
Потёмкин родился 13 сентября 1739 года, значит, 23 года ему исполнилось во время торжеств по случаю коронации, которая происходила в сентябре-месяце. А когда возвращались в Москву, ему шёл 24-й год. Представьте себе, каково было совсем ещё молодому человеку, стоявшему на пороге возвышения, лишиться зрения не один глаз?
Но сплетникам не было до того дела. Они судачили, мол, глаз Потёмкин потерял во время дуэли на шпагах из-за дамы. Один Придворный выколол ему глаз. Ну, это ещё, куда ни шло. А вот то, что братья Орловы все вместе заманили его в отдалённую комнату дворца и избили нещадно, да так, что глаз выбили, ни в какие ворота не лезет, тем более, что именно Григорий Орлов протежировал Потёмкину, ну а в 1963 году никакой опасности Григорий Александрович для фаворита, находящегося в зените славы, не представлял. Да и в 1772 году вовсе не Потёмкин занял место фаворита, а Васильчиков. Жалко, что Валентин Пикуль поддался на эту же удочку и безобразно описал в романе «Фаворит» сцену избиения Орловыми Потёмкина. Пять братьев, да на одного? Не по-русски, по-турецки как-то. Это Елдоган целую эскадрилью поднял, чтобы подлым ударом, по-османски из-за угла, в спину, наш самолёт сбить, да причём тот самолёт, что уже выполнил задание и израсходовал боекомплект.
Но что же случилось с Потёмкиным на самом деле?
Обратимся к воспоминаниям А.Н. Самойлова «Жизнь и деяния генерала-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического: Г.А. Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. Воспоминания. Дневники. Письма»:
«В 1763 году, по возвращении высочайшего двора из Москвы, Григорий Александрович занемог, и, бывши от природы крепкого сложения, от самого детства никакими припадками не страдая, болезнь сия в нём ознаменовалась прежестокою горячкою; а как он не токмо тогда, но и во все течение жизни своей, не имел большой доверенности к врачебной науке и к медикам, сверх того хотел быть и был во всем оригинальным; то, отложа при сём случае все пособия, обыкновенно употребляемые, не вверясь никакому доктору, велел отыскать некоего крестьянина, прослывшего весьма искусным в излечении от горячек, и по решимости, которая была в его характере всегда замечательна, вверил себя тому обманщику. Сей, приготовя неведомо какую припарку, велел оною ему голову и глаза обвязать. Григорий Александрович, повинуясь мнимому целителю, не позволил однако ж обвязать себе обоих глаз припаркою, чтоб не лишиться удовольствия смотреть на свет, но голова и правый глаз оною были обвязаны. По крайней мере, сие сопротивление было спасительно, что он вовсе зрения не лишился; ибо припарка притянула пресильный жар к голове, а более к обвязанному глазу, от чего болезнь усилилась до нестерпимости. Тогда сорвал он припарку и почувствовал, что тем глазом не видит, причём заметил на страждущем глазе род нарости, которую в первом движении душевной скорби поспешил снять булавкою, но после сей операции усмотрел он, что на зрачке того глаза бельмо».
То есть, глаз не вытек, он просто потерял зрение. Но, во-первых, он стал безжизненным, и уже это бросалось в глаза, а, во-вторых, как говорит Самойлов, образовалось бельмо. Конечно, это привело в отчаяние красавца Потёмкина, на которого, по отзывам многих современников, заглядывалось великое множество представительниц прекрасного пола.
А.Н. Самойлов рассказал далее:
«Не можно изобразить всех горестных ощущений, которые тогда омрачали сердце Григория Александровича, который, быв прекраснейшим мужчиною, исполненный склонностями к нежному полу, обольщенный надеждами счастия и возвышения, отличный дарованиями и качествами при внешних своих достоинствах, вдруг поражен был сею внезапностию. Горесть о потере глаза возродила в душе его мысли мрачные и отчаянные; им овладела сильная меланхолия. Он отказался от наслаждения дневным светом, заперся в своей спальне, в коей чрез целые 18 месяцев окна закрыты были ставнями; не одевался, редко с постели вставал, допустил отрастить свою бороду, и не принимал к себе никого во все время, кроме самых ближних и искренно к нему приверженных…»
Конечно, же родные и близкие, да и друзья, которых немало было у доброго сердцем Григория Потёмкина, переживали, говоря словами Самойлова, «приверженные к нему отчаивались, чтобы он когда-либо возвратился к прежней жизни».
Вот тут Самойлов проливает свет на увлечение князя, которое осталось за кадром, и практически никто из биографов о нём не упоминал. Да и понятно, ведь сближение с Императрицей и супружество затмили все остальные его возможные отношения с иными представительницами прекрасного пола.
Тем не менее, то увлечение, о котором упомянул Самойлов, заслуживает нашего внимания, поскольку оно явилось одной из причин возвращения Потёмкина в светское общество.
Самойлов рассказал:
«Некоторая знатного происхождения молодая, прекрасная и всеми добродетелями украшенная девица (о имени коей не позволяю себе объявить), которую он прежде несчастного припадка отличал в сердце своём, бывши сама к нему неравнодушною, беспокоясь о странности положения его и изъявляя к нему соболезнование, отозвалась к известным ей искренним друзьям его таким образом:
– Весьма жаль, что человек толь редких достоинств, пропадает для света, для Отечества и для тех, которые умеют его ценить и искренно к нему расположены.
Друзья Григория Александровича, пользуясь случаем, пересказали ему о сём и не упустили украшениями возбудить в нём лестных для каждого молодого человека надежд, а он, по врожденной наклонности к полу и по скуке, истощившей его в уединении, почувствовав сильнее прежнего к оной девице влечение, решился переменить жизнь и явиться в общество. Она же, узнавши о том, ускоряя довершить своё над ним торжество, начала проезжаться мимо окошек дома, в котором он жил; а сие понудило отшельца обрить отрощенную чрез 18 месяцев бороду и, появляясь к окну, искать взглядами проезжающуюся победительницу свою.
Впоследствии чрез друзей произошли между ними объяснения и приглашения его в дом её родителя, который и прежде его любил, ласкал всегда как сына, и может быть имел искренно такое к нему расположение.
Но одичавший от общества чрез долгое уединение Григорий Александрович не мог на приглашение еще решиться и написал к ней: «что он хочет явиться в свете, не для света, но для неё одной, то и не иначе согласится на сие, как получа на то от собственной руки её приказание».
За сим остановки не последовало. Григорий Александрович, наконец, представился в тот дом, но и пред девицею, к которой сердце его стремилось, не хотел иначе одетым быть, как в форменном сюртуке, с повязанным по глазу белым платком…»
Интересен и рассказ Александра Николаевича Самойлова о том, как был возвращён Потёмкин во дворец.
Императрица не раз спрашивала о Потёмкине, но среди придворных всегда бывает немало таковых людишек, которым невыгодно появление возле их хозяина человека высоких достоинств. Конкуренция. Ведь он может занять какой-то пост, откусить какой-то кусок от царственного пирога, который бы им хотелось прибрать к своим рукам. Чего только не выдумывали завистники Потёмкина, сделавшиеся от неуёмной своей зависти его врагами. Какое-то время им удавалось отговаривать её.
Но рядом с Государыней был человек добропорядочный – Григорий Орлов, да не один, а со своими братьями, кои совершенно напрасно обвиняли в том, что они поколотили Потёмкина. Им это и в голову не могло прийти.
Александр Николаевич Самойлов разоблачил клевету и клеветников, рассказав правду:
«Наконец, князь Григорий Григорьевич Орлов, коего честность и возвышение духа всем известны, испросил дозволение у Императрицы поехать с братом его графом Алексеем Григорьевичем и представить её величеству уединившегося Потёмкина.
И так сии известные великодушием, заслугами, приверженностию и верностию к Государыне два брата приехали к нему неожидаемо, и для предупреждения, чтоб не допустить его скрыться от них, вошли в его спальню разными дверьми. Первое слово князя Орлова было:
«Тезка, государыня приказала мне глаз твой посмотреть».
Но при всём благоговении своём к монархине, Григорий Александрович не желал сему повиноваться. Между тем граф Алексей Григорьевич, предусмотря сие прежде и условясь с братом заблаговременно, имея, как всем известно, от природы силу чрезъестественную, зашед сзади Григорья Александровича, схватил его поперек, и как он не мог сопротивляться, то князь Григорий Григорьевич, сняв с глазу платок и видев на оном бельмо, сказал:
«Ну, тезка, мне не так про тебя говорили, и всё сказывали, что ты проказничаешь; изволь одеться: Государыня приказала привезти тебя к себе».
Так вот не драка, ради изгнаний из дворца, а возвращение во дворец было на самом деле. Орловы требовали, чтобы он собирался во дворец.
«На сие, – как рассказал А.Н. Самойлов, – Григорий Александрович отговаривался, что для появления у двора не имеет пристойного платья; но один из них пошел в его гардероб, нашёл старый фрак, который принудили его надеть, и отправились с ним во дворец».
Ни о той даме, которая дала первый толчок к тому, чтобы Потёмкин вышел из заточения, ни о других его увлечениях в тот период более упоминания нет.
Далее всё затмило его сближение с Императрицей, венчание с ней, его необыкновенной возвышение и необыкновенная деятельность, неутомимая деятельность на благо России.
Первые враги и первая опала
И вот Потёмкин снова при дворе, снова принят, как один из придворных, общение с которым наиболее приятно и приносит удовольствие.
Александр Николаевич Самойлов писал об этом так:
«Императрица, познавши причину несчастного его приключения, странность, которую он предпринимал, и желая способностям его дать пристойное поприще, приняла его с большою милостию, соизволила допустить его во все малые собрания и внутренние беседы, во Дворе бываемые, в которых имел он случай оказывать познания, приобретённые им от уединенных его занятий, природное остроумие и непринужденную ловкость в обращении. Всеобъемлющий ум Государыни, проницательность и великие сведения во всех частях учёности, среди попечений о управлении обширнейшей Империи, при занятии превыспренних дум её о изложении законодательства, искал отдохновения в беседах, составленных из сословия просвещённейших её подданных, в коих каждый мог свободно раскрывать пред нею свои дарования.
Тут Григорий Александрович имел всегда случай оказывать возвышенность своих понятий и способность ко всему великому. С сего времени он стал ближайшим при Её Величестве и, сделавшись непринуждённым в присутствии её, увеселял остроумными своими изречениями; а Государыня находила великое удовольствие собеседовать с человеком, который в состоянии был постигать высочайший разум её и с приятностию ответствовать на утонченные разговоры Ее Величества – словом сказать, Императрица оказывала к нему всевысочайшее своё благоволение.
Тогда завистники, души низкие и недальние умы, начали почитать его опасным, затверживали неумышленные слова его и, толкуя всякую речь его во вред ему, и всякой поступок в злоумышление, старались очернить его пред теми, которые имели силу вредить ему. Сверх сего Григорий Александрович, достигнув в уединении многих познаний, не мог преодолеть врожденного свойства пылкости: в характере его недоставало умеренности, без коей при дворе трудно существовать, и хотя он был почтителен и вежлив к достойным людям, но не мог по молодости удержаться, чтобы не осмеивать тех, кои заслуживали порицание и тонкую сатиру. Сия черта свойств его возбудила против него сильных, и он не возмог долго удержаться при вторичном и счастливом своём появлении ко двору: чрез несколько времени последовало неожидаемое им удаление; так что ввечеру, отбывши из дворца с милостию Императрицы и с приветствиями от всех придворных, на другой же день поутру получает повеление отправиться немедленно в Швецию с препоручением весьма маловажным; против желания, оставя льстившие его надежды, уехал…»
Это было что-то наподобие, если и не удаления от двора, то, во всяком случае, проявление некоторой холодности в отношении.
Александр Николаевич Самойлов указал:
«По возвращении Григория Александровича из Швеции он не имел более у двора той приятности, какою пользовался до отбытия своего, но однако ж всегда был уважаем. Привязанность его к военной службе при сём случае не была больше развлеченною; он не пропускал ни одного полкового строя, чтобы на оном не быть, и вникал в практику тактики с прилежанием; между тем получил он по старшинству чин камергера, и особенная к нему милость монархини ознаменована при сём, ибо в сей чин поступил он последним».
19 апреля 1765 года Потёмкин получил чин поручика, в котором: «исполнял казначейскую должность и надзирал за шитьём мундиров». Надо сказать, что ко всем обязанностям Григорий Александрович относился с присущей ему добросовестностью. В частности, «надзирая за шитьём мундиров» и занимаясь вопросами обмундирования, он настолько глубоко вник в дело, что затем, в период своего управления Военной коллегией, провёл полезнейшую для русской армии реформу, избавив военную форму от «неупотребительных излишеств».
О том периоде жизни Григория Александровича А.Н. Фатеев писал: «Можно сказать одно, что его петербургское времяпрепровождение не напоминало того же знати и гвардейской молодежи. Он предался ревностному изучению строевой службы и манежной езды. В этих вещах проявил большую ловкость, чем в великосветских салонах и эрмитажных собраниях... Приглашаемый на малые собрания, состоящие из самых близких Императрице особ, Потёмкин не отличался ни изящными манерами, ни ловкостью, подобной той, какую проявлял в конном строю. Как эрмитажный гость, он приводил в конфуз хозяйку. Благодаря геркулесовой силе, ему случалось ломать ручки от кресел, разбивать вазы и пр... Однако ему уже тогда прощалось и сходило с рук, о чем другие не решались подумать. Императрица Екатерина II знала и ценила его службу, не имеющую ничего общего с великосветским гвардейским времяпрепровождением».
Она, в отличие от некоторых своих предшественниц на престоле русских царей, ценила, прежде всего, деяния своих подданных, направленные на благо Отечества.
О поисках Императрицей способов к улучшению участи народа свидетельствует и созванная ею в 1767 году «Комиссия об уложении». В работе Комиссии, о которой будет подробно рассказано в последующих главах, Потёмкин принял активное участие.
19 июня 1766 года он был назначен командиром 9-й роты лейб-гвардии Конного полка, а в 1767 году с двумя ротами этого полка был направлен в Москву для «несения обязанностей по приставской части».
Там же он стал ещё и опекуном «татар и других иноверцев», которые сделали его своим депутатом, дабы он отстаивал их права «по той причине, что не довольно знают русский язык».
Уже тогда он начал изучать нравы и обычаи малых народов, их историю, быт, что позже очень помогло ему в деятельности по управлению Новороссией и другими южными губерниями.
Известно, что в тот период Григорий Александрович близко сошёлся с автором записок об освобождении крестьян и сочинений по истории России Елагиным. Потёмкин поддерживал идею освобождения крестьян. Кстати, рассматривала этот вопрос и Екатерина II. Но надо учитывать время и не забывать, в каком состоянии тогда находилась Россия. Императрице было известно, что идея освобождения крестьян не вызывает энтузиазма среди большинства помещиков. Власть же её ещё была недостаточно укреплена, чтобы можно было идти решительно против крупных землевладельцев. Необходимо также учесть, что многие помещики и заводчики зачастую находились под большим влиянием своих управляющих, почти поголовно иноземцев, прибывших в Россию не для освобождения народа, а для финансового его закабаления ради личной наживы. Эти управляющие доводили эксплуатацию крестьян и заводских рабочих до ужасающих пределов – ведь им надо было и хозяину необходимые средства выделить, и себе во много раз большие в карман положить. За счёт чего же это можно сделать? Разумеется, за счёт еще большего разорения народа.
«Комиссия об уложении» должна была решить немало серьёзных и важных вопросов государственного устройства. Не случайно Екатерина II ввела в её состав многих своих сподвижников, в числе которых был и Потёмкин. Он являлся депутатом от иноверцев и состоял членом подкомиссии духовно-гражданской.
В 1768 году, видя успехи Потёмкина на государственном поприще, Императрица сделала его камергером и освободила от воинской службы. Но судьба вновь распорядилась по-своему – в том же году началась русско-турецкая война, и, едва заговорили пушки, Потёмкин стал проситься в действующую армию.
2 января 1769 года маршал собрания «Комиссии об уложении» А. В. Бибиков объявил:
«Господин опекун от иноверцев и член комиссии духовно-гражданской Григорий Потёмкин по Высочайшему Ея Императорского Величества соизволению отправляется в армию волонтером».
Давая на то своё соизволение, Императрица сказала: «Плохой тот солдат, который не надеется быть генералом».
Мы привыкли считать, что слова эти, только слегка изменённые, принадлежат Александру Васильевичу Суворову. Однако А.Н. Фатеев отдает их авторство Екатерине II. Вполне возможно, что Суворов, с большим уважением относившийся к Императрице, однажды услышав их неё, часто затем повторял. Многие крылатые фразы мы приписывали тем или иным деятелям необоснованно. Так, ординарный профессор Императорской военной академии Генерального штаба генерал-майор Д.Ф. Масловский приводит в одном из своих трудов, написанных и вышедших в XIX веке, хорошо нам известные слова Потёмкина: «В военном деле нет мелочей». Ясно, что он их взял не из брошюр о Красной Армии и не со стендов советских воинских частей, до которых не дожил, а из бумаг Потёмкина...
Однако вернёмся к решению Императрицы отпустить Потёмкина на театр военных действий. Она, конечно, понимала, что направляется он не на легкую увеселительную прогулку, а едет туда, где льётся кровь и витает смерть. Но, имея сама отважное сердце, Екатерина II уважала отвагу в своих подданных. О себе же она говорила:
– Если бы я была мужчиною, то смерть не позволила бы мне дослужиться до капитанского чина.
Позади у Григория Александровича был период, когда пришлось ему исполнять, как оригинально выразился один из биографов, «винегрет должностей». Впереди ожидали новые испытания.
(Продолжение следует…)
Очаковский роман Потёмкина
Очаковский роман Потёмкина
«Время ли башмачки для любовницы в Париже заказывать?»
В июльский день 1788 года в лагере русской армии, осаждавшей Очаков, произошло некоторое оживление в общем-то рутинной осадной жизни. Войска готовились к штурму. Работы было много. Возводились всё новые и новые осадные батареи, роты и батальоны поочерёдно отправлялись в тыл на тактические занятия.
Там они учились преодолевать различные укрепления, взбираться на крепостные стены, вести рукопашный бой. А егеря ещё и тренировались в меткой стрельбе, при действиях в рассыпном строю. Именно егеря Бугского егерского корпуса Михаила Илларионовича Кутузова предназначались для того, чтобы не позволять туркам стрелять по нашим солдатам штурмующих крепости колонн.
Работы много, но вся она была обычна и привычна. Скучновато. Войска рвались на штурм, но Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический почему-то не спешил, хотя и из Петербурга торопили – кабинетные стратеги и на Императрицу давили, распуская слухи о медлительности Князя, да и самому Князю при удобном случае старались намекнуть, мол, пора бы уже бросить войска на приступ. А потери? Кабинетным стратегам людей не жалко.
И вдруг среди будничных забот такое происшествие! За обедом в большом шатре, где присутствовали не только приближённые к Князю особы, но и военные агенты, и посланники иностранные, он вдруг обратился к французскому посланнику графу Филиппу де Сегюру, как раз в то время прибывшему в лагерь:
– А скажите мне, граф, правда ли, что в Париже башмачки для барышень отменные шьют, всем на зависть?
Сегюр подтвердил. И похвастал, что в мире нет лучше обуви, нежели французская.
– Ну, так вот что! – решительно заявил Потёмкин, повернувшись к своему адъютанту подполковнику Боуру. – Ехать тебе немедля в Париж за башмачками для Прасковьи Андреевны… Закажешь там всяких – и на лето, и на осень, и на зиму, и на весну… Не скупись! Мне для такой красавицы ничего не жалко.
Прасковья Андреевна Потёмкина присутствовала при сём разговоре, не вступая в него, и лишь скромно склоняя голову в знак согласия. Хотя и на её лице можно было прочесть некоторое недоумение такой щедростью. Точнее не самой щедростью – Светлейший был щедр всегда и во всём, да и умел быть щедрым на широкую ногу, тем более и возможности на то имел основательные. Но тут случай особый. Армия, ему подчинённая, крепость осаждает, а главнокомандующий о башмачках для возлюбленной размышляет, да ещё во всеуслышание… Не лучше ли о пушках, да ружьях говорить, не лучше ли за боеприпасами гонцов слать?!
К вечеру весть лагерь знал о том, что произошло на обеде. Судачил народ беззлобно, скорее даже с лёгкой, доброй иронией, мол, чудак наш князь, то в Калугу за тестом посылает, то в Сибирь за огурцами, а тут «в самую энту Хранцию».
За каким таким тестом или за какими такими огурцами посланцы князя ездили в Сибирь и Калугу, к делу не относится, а вот о башмачках есть смысл поговорить.
Пока и наши в лагере, и иностранцы, что облепили главную квартиру Светлейшего, судачили о поручении, данном адъютанту, адъютант этот получал подробнейший инструктаж Светлейшего перед срочным своим выездом в Париж. А поручение не простым было? Как всё учесть, как предусмотреть, какие конкретно «башмачки» для штурма понадобятся? Слушал адъютант да запоминал – записывать-то нельзя было, дело секретное! Уж слишком необычны и разнообразны были эти самые башмачки, которые так князю понадобились.
Отправить-то срочно Светлейший своего адъютанта отправил, да в дороге особо поспешать не велел. Пояснил, что слухи о таковом вот поручении должны бы в Париж прежде него самого добраться. Пусть и там порадуются, пусть и там посудачат, да языки свои змеиные европейские почешут.
Выехал Боур поутру, а гонцы от военных агентов, да посланников давно уж скакали к своим дворам, дабы потешить начальство своё сообщением о новом чудачестве всесильного Потёмкина. Оно, конечно, может и пустяшное, да ведь в политике и дипломатии нет мелочей. Кстати, Потёмкин не раз говорил, что и в военном деле нет мелочей, а потому всё старался учитывать, перед тем как очередное дело начинать.
Вот отчего он со штурмом не спешил? Что только не придумали злопыхатели! И нерешительный, и неспособный… Да что там перечислять – все свои недостатки клеветник обычно тому, на кого клевещет, приписывает.
Ну а уж судачили сплетники, кто как мог, да с таким возмущением, более на зависть походящим: «Время ли башмачки для любовницы в Париже заказывать? Очаков, Очаков брать надо!»
Что же? Или Светлейший и сам не знал, что крепость сокрушить необходимо, и сокрушить чем скорее, тем лучше, да ведь с умом надо к любому делу подходить, наперёд всё видеть и понимать…
Но ведь никто из критиканов и злопыхателей не учитывал, какова реальная обстановка, никто не интересовался тем, что Екатеринославская армия насчитывала к началу кампании 1788 год 82 464 человека, а порта собрала против неё свыше 300 тысяч. И главная задача порты – битва за Крым. Турки собиралисьнанести главный удар на Кинбурн и Херсон, овладев которыми, посадить у Очакова десант на корабли и перевезти его на полуостров. В этих сложных условиях Потёмкину предстояло выбрать наиболее целесообразный способ противодействия многочисленному противнику.
Обвиняя Потёмкина в том, что он слишком долго двигался со своей Екатеринославской армией к Очакову, дабы осадить его, историки не учитывали немаловажную деталь. Дело в том, что 60 вражеских судов направлялись к Днепровско-Бугскому лиману, готовясь атаковать и захватить Кинбурн, Глубокую Пристань и Херсон, разрушить главные базы русского флота в лимане. Именно поэтому Потёмкин не спешил удаляться от Херсона, чтобы своевременно принять меры для защиты важных опорных пунктов.Нельзя будет осаждать Очаков, имея в тылу крупные силы врага, захватившие выгодные пункты.
К концу мая под Очаковом сосредоточились крупные морские силы порты: 13 линейных кораблей, 15 фрегатов, 47 галер и множество мелких судов. Лишь после разгрома этих сил в лимане и уничтожения вражеских кораблей Суворовым, расстрелявшем их из пушек, замаскированных на берегу Кинбурнской косы, можно было двинуться к Очакову с целью его осады.
Весной 1788 года в Петербурге бытовало мнение, что с падением Очакова окончится война. Потёмкин же, объективно оценивая состояние вооруженных сил Османской империи, не сомневался, что воевать придётся ещё не один год. В этих условиях он не мог пойти на штурм, который неизбежно должен был принести потери в унтер-офицерском и офицерском составе. Для войны нужна была армия, которую ещё предстояло пополнить новыми подразделениями. Для этого требовались офицеры и унтер-офицеры.
Суворову, торопившему его, Потёмкин обещал приложить все силы к тому, чтобы Очаков достался дешево. Суворов понял замысел Светлейшего, понял, обещанияне были пустословием. Далеко не все жители Очакова приветствовали войну. Потёмкин знал о том и стремился использовать антивоенные настроения. Создав в крепости сильную агентуру, он рассчитывал добиться с её помощью добровольной сдачи Очакова. Вот одна из главных причин неторопливости действий и задержки сильной бомбардировки крепости вначале.
Обложив Очаков 1 июля, Потёмкин начал построение осадных батарей лишь со второй половины июля. И только после того, как стало известно о провале агентуры – головы казнённых, надетые на колья, турки выставили для обозрения на крепостных стенах, – Потёмкин открыл мощную бомбардировку крепости, при которой огонь уже вёлся на уничтожение.
Была и ещё одна причина. Как известно, в сентябре 1787 года Севастопольская эскадра сильно пострадала от бури. Документы свидетельствуют, что активно действовали в первые месяцы кампании 1788 года, то есть в мае – июне, лишь военно-морские силы в лимане. Севастопольская эскадра находилась на ремонте, для завершения которого требовалось определённое время. Пока турецкие корабли стояли у стен Очакова, они не могли мешать починке русских кораблей в Севастопольской гавани. Турки сами задерживали свой флот у Очакова, боясь оставить без него крепость. Вообразим теперь, что она бы пала в первых числах июля. Турецкий флот сразу бы двинулся к Севастополю и предпринял атаки на русскую эскадру.
«Медление» Потёмкина раздражало в основном тех, кто завидовал князю, но одновременно надеялся на награды, которыми были бы осыпаны и те, кто далековато находился от линии огня. Но Потёмкин пользовался полным доверием своей законной, венчанной супруги, своей Государыни.
Императрица Екатерина всегда была на его стороне. Михаил Гарновский, управитель дел Потёмкина в Петербурге, отметил: «Она нимало Очаковым не беспокоится, и всё, что его светлость предпринимать изволит, произносит с хвальбою. Досадует на одно только, что его светлость подвергает себя опасности. Какую пользу принесёт Очаков, если виновник приобретения его постраждет?»
А беспокоиться были причины. Потёмкин отличался необыкновенной, безудержной храбростью. В молодости он сражался с врагом в первых радах своих воинов. Так было 4 января 1770 года при Фокшанах, так было во время осады Силлистрии осенью 1773 года, когда он едва не погиб. Так было после Кинбурнской победы Суворова в 1787 году, когда он отправился на небольшой шлюпке на обозрение Очаковских укреплений и внимательно изучал их, несмотря на огонь врага, падающие неподалёку ядра и шлёпающиеся в воду пули. Так было и во время рекогносцировки Очаковской крепости после осады её в начале лета 1788 года.
Потёмкин провёл тщательную рекогносцировку крепости, во время которой приближался на дистанцию не только артиллерийского, но и ружейного огня противника. Очевидцы вспоминали, что был он во время рекогносцировки в своём расшитом золотом мундире, при орденах, словно дразня вражеских стрелков.
Одно из ядер разорвалось поблизости от него. Был убит наповал казак и смертельно ранен генерал Синельников. Получил контузию и Потёмкин. Она затем стала предметом самой безобразной сплетни, распускаемой о Григории Александровиче его врагами. Злопыхатели придумали, что образованнейший человек своего времени, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, необыкновенный красавец и любимец женщин, Потёмкин страдал ужасной привычкой – при всех, в любом, в том числе и женском, обществе он якобы грыз ногти... Представьте себе мужчину, страдающего такой привычкой и одновременно обожаемого женщинами. Нужно учесть, что обожательницами были не так называемые нынешние «телки», любимицы псевдорусских «князей из грязи», которым, быть может, это и по вкусу, а представительницы лучших домов и дворянских родов России.
Однако обратимся к письму Екатерины II, написанному 14 августа, то есть спустя полтора месяца после злополучной рекогносцировки. Императрица упрекала Потёмкина за небрежение к опасности, упоминала и о так называемой «дурной привычке»: «Беспокоит меня твоя ногтоеда, о которой ты меня извещаешь письмом от 6 августа после трехнедельного молчания; мне кажется, что ты ранен, а оное скрываешь от меня. Синельников, конечно, был близок к тебе, когда он рану получил; не тем ли ядром и тебе зацепило пальцы?»
После контузии Потёмкин часто подносил болевшие пальцы к губам, но не выгрызал ногти, а просто дул на них, что вошло в привычку. На эти боли он и пожаловался Императрице. Не хвастался же он перед ней, в самом деле, тем, что грызет ногти! Чего только не напридумывали о князе... Бездельники, которых он не выносил, не могли простить ему презрения к ним и в то же время любви и чуткости, с которыми он относился к солдатам. Очевидцы вспоминали, что, часто бывая на передовых позициях, Потёмкин говаривал солдатам:
– Слушайте, ребята, приказываю вам однажды и навсегда, чтобы вы предо мною не вставали, а от турецких ядер не ложились на землю.
И «медление» в действиях под Очаковом тоже объясняется желанием сохранить жизни русских воинов, а вовсе не боязнью ответственности. Ответственности Потёмкин не боялся, но это не означает, что он мог пуститься на серьёзное дело, не продумав его деталей.
Вот мы и подошли к основной цели направления адъютанта в Париж.
Да… Он ехал за башмачками для любимой женщины Светлейшего князя, официально за башмачками, уж больно модными – такими, что прямо всем на зависть.
Эх, Париж, мечта прогейропезированного люда всех времён. Да, вот только сам Светлейший в Париже никогда не был, да и адъютант его подполковник Боур вряд ли бывал там. Тем не менее, Светлейший строго настрого повелел ему – никаких светских развлечений не чураться, да о башмачках почаще речь заводить на балах и приёмах – расспрашивать, где и какие пошить лучше… И средств не жалеть. Всё, всё должно быть на широкую ногу и на «радость» змеиных языков сплетников.
А дорога до Парижа в ту пору долгая, да и ехал в ту сторону Боур медленно. А слухи о цели его поездки уже достигли провонявших от выливаемых на них из окон домов содержимого ночных ваз парижских улиц, столь обожаемых нашими либерастами. Впрочем, теперь вазы в прошлом. Эмигранты из России отучили от этого. Эмигранты первой волны. Ну а эмигранты волн недавних рассказали ещё и о том, что оказывается не обязательно смешивать воду для мытья физиономий в раковине, что существуют этакие вот приборы, что смесителями называются…
Но в ту пору ещё в Париже приличные дамы вполне могли отойти в сторонку и, особенно не стесняясь, и без ваз обойтись, освободив себя от излишней жидкости и прочего в шикарных залах, к примеру, Версальского дворца. Что естественно – то не безобразно!
А вот то, что адъютант Светлейшего князя мчится в их провонявший град за башмачками для любовницы своей – это столь достопочтенную публику возмутило до крайности.
Так кто же, в конце концов, эта дама? Кто она – Прасковья Потёмкина?
Прасковья Андреевна, по отзывам современников, славилась своей красотой и была фавориткой светлейшего князя Г. А. Потемкина.
В частности, действительный тайный советник, член Государственного Совета, мемуарист Александр Васильевич Кочубей писал, что «она была женщиной взбалмошной и безнравственной, имела много связей, прежде чем вышла второй раз замуж за офицера Измайловского полка, который также ещё до свадьбы, был у неё на содержании»
После же развода с мужем, внучатым племянником Светлейшего, Прасковья Андреевна, отправилась в лагерь под Очаковом к Григорию Александровичу Потёмкину, с которым, видимо, окончательно не прерывала связей с давних пор.
Итак, подполковник Боур спешил в Париж. Ещё даже в восемнадцатом веке приближение к европейским городам путники ощущали издалека, когда и городов-то ещё видно не было. Вонь в окрестностях распространялась неимоверная. Всё это было следствием изливания содержимого ночных ваз и прочих нечистот прямо через окна на улицы, на тротуары, ну попадись нерасторопный прохожий, могло с лихвой достаться и прохожему. Недаром в парижские моды вошли широкополые шляпы – защита от неожиданных «душевых» излияний, ну и обувь на высокой подошве, чтоб не замочить ног в зловонных лужах на тротуарах и мостовых.
Впрочем, всё это достаточно хорошо, полно и главное достоверно описано в книгах Владимира Мединского.
Ну а адъютанту Потёмкина предстояло все эти прелести вкусить непосредственно.
Когда прибыл в Париж, там его ждали с нетерпением. Кто-то потому что не поверил в этакое вот невоенное поручение в дни войны, кто-то хотел насытиться конкретными деталями, что бы понести дальше благодарным слушателям.
Тамошние шелкопёры, веками страдающие патологической ненавистью к России и ко всему русскому, уже навострили перья, чтобы сочинить что-то этакое хлёсткое.
Ну а Боур, не скупясь, удовлетворял всеобщее любопытство, посещая не только мастерские по пошиву модной женской обуви, но и светские салоны, балы, даже театры.
Делал это широко, открыто, шумно, одновременно, уже без шума и показухи, находя время тайно посетить адреса, которые дал ему Светлейший Князь, строго настрого приказав, выучить наизусть и записи уничтожить.
Прежде всего, он получил необходимые средства для своей, мягко говоря, совсем не открытой всеобщим взорам деятельности. Вести с собой такие суммы было рискованно – Европа славилась бандитами и правительственными, и уличными. Каждый грабил по своим возможностям. Кто целые страны, именуемые колониями, вытрясал, а кто путников на дорогах подлавливал.
Начал адъютант Светлейшего с посещения любовницы министра иностранных дел Франции. Вручил её крупную сумму и получил целый пакет документов, касающихся международной политики, веками направленной против России. Потёмкин выбрал удачное время. Франция кипела и бурлила, но ведомства-то работали, куда ж без них. Революции революциями, но есть направления государственной деятельности, где без специалистов никак не обойтись.
В мастерских шили башмачки для русской неотразимой красавицы, возлюбленной Потёмкина, а Боур продолжал свои визиты.
Ещё одно дело наиважнейшее. Светлейший не спешил со штурмом Очакова по целому ряду причин, некоторые из коих мы уже разобрали. Была и ещё одна, немаловажная.
Очаков был опутан подземными минными галереями, построенными французскими инженерами по последнему слову той ещё фортификационной техники.
Для чего они нужны, эти галереи? Очень просто, французские инженеры, за деньги, конечно, строили их, чтобы русские колонны, начиная приступ, уничтожались взрывами мощных зарядов.
Эти заряды устанавливались на наиболее вероятных направлениях движения колонн, с таким расчётом, чтобы можно было уничтожить как можно больше солдат России, с которой, кстати, Франция в ту пору вовсе как будто бы и не воевала.
Собственно, она не воевала и во время пугачёвского бунта. Да вот только в организации бунта, как мощного удара в спину, приняла самое деятельное участие.
А парижские графоманы из кожи лезли вон, желая написать броские, убийственные и, конечно, талантливые, как им казалось пьесы.
И написали… И уже репетировали спектакли.
А Боур посетил кое-кого в ведомстве военного министра и, вручив крупную сумму, получил столь необходимые карты и схемы.
Башмачки между тем шили разные. Не напрасно мы упомянули об огромных высоких подошвах. Самые ценные документы прятали именно в этих вот постаментах для ног.
Наконец, дело было сделано. А тут и приглашения на премьеры спектаклей подоспели. Каждому хотелось, чтобы адъютант загадочного для них русского князя посмотрел именно их спектакль, а потом поведал князю, как оценили его поступок в Париже.
Боур всех благодарил и всем обещал непременно быть. Но именно в час начала спектаклей сел в свою дорожную карту, в которой были уже уложены многочисленные башмачки, да и скомандовал: «Трогай!»
И только ветер в ушах. Отъехали на приличное расстояние и остановились. Решил Боур отмыть в небольшом пруду обувь свою, да копыта лошадей, ну и привести в порядок ходовую часть кареты, тоже запачканную на парижских улицах.
И вот, наконец, домой, в Россию, прямо в лагерь под Очаковом.
Ну а что же в Париже? Там, конечно, в конце концов, разгадали, в чём тайный смысл визита за башмачками. Да было уже поздно. Боур был уже в лагере, а башмачки, те которые не с секретом, поочерёдно занимали свои места на прелестных ножках Прасковьи Андреевны Потёмкиной на радость ей и Светлейшему князю.
Прасковья Андреевна Потёмкина, супруга троюродного брата Григория Александровича, Павла Сергеевича Потёмкина была не единственным увлечением Светлейшего.
Григорий Александрович был статным красавцем, женщины сходили по нему с ума.
Его племянник Александр Николаевич Самойлов, который присутствовал при венчании Потёмкина с Императрицей, а в последствии воспитывал их дочь, так описал в своих мемуарах наружность своего дядюшки:
«Была какая-то очаровательная привлекательность в его наружности. Редко удачное сочетание женской мягкости и мужской твёрдости. Изящный, тонкий характер всей фигуры, до зрелого возраста сохранявший молодую свежесть. Лицо продолговато-овальной формы отличалось чистотой, ровным румянцем, белизной и оттенялось светло-каштановыми, вьющимися шелковистыми волосами. Тонкая, приятная улыбка красиво очерченных полных губ, и рот при детском, звонком смехе обнажал ряд ровных зубов как бы из молодой слоновой кости. Всё это освещали глаза цвета бирюзы, которую он так любил. Из них один погиб, отсюда прозвище князя "Полифем". Энергичный вид придавали ему брови, приподнятые к концам, разделенные правильно очерченным, несколько крупноватым орлиным носом. Широкая выпуклая грудь и округлые плечи при высоком росте и пропорциональности всего постава напоминали сложением античную статую. Сходство с нею усиливал наклон головы и стройный стан. Наружность его отдаляла от созерцателя мысль об искусственной гордости или властности, сквозившей в нем на общественных собраниях или перед фронтом. И даже угловатость решительных движений, опрокидывавших гостиные предметы, напоминала в нем «богатыря-смолянина», каким и величала его Екатерина».
Поклонниц было много. Гавриил Романович Державин писал: «Многие почитавшие Потемкина женщины носили в медальонах его портреты на грудных цепочках»
И, несмотря на всё это о связях его до переворота, данные почти не сохранились. Но об одном увлечении того времени мы всё же расскажем в следующей главе…
Продолжение следует.
После свадьбы... "лежачего не бить"
Венчание Григория Орлова.
А после свадьбы было постановление Сената: Орлова с женою разлучить и сослать обоих в монастыри - его в мужской, её в женский
(Продолжение)
Екатерина Николаевна Зиновьева была кузиной – двоюродной сестрой – Григория Григорьевича Орлова. Родилась она в декабре 1758 года в семье генерал-майора Николая Николаевича Зиновьева, которого Императрица Екатерина Алексеевна вскоре после вступления на престол назначила обер-комендантом Петропавловской крепости. Её мать, Авдотья Наумовна, была дочерью флотоводца Наума Акимовича Сенявина, первого вице-адмирала русского флота, начальник Днепровской флотилии.
Род Сенявиных знаменит в России. Брат Авдотьи Наумовны, адмирал Алексей Наумович, командовал Донской, а затем Азовской военными флотилиями.
Кстати, и адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин, известный победами над турками в Дарданелльском (10-11 мая 1807 г.) и Афонском (19 июня 1807 г.) сражениях и особенно тем, что возглавлял 2-ю Архипелагскую экспедицию Балтийского флота (1805-1807 гг.), приходился дальним родственником Екатерине Николаевне.
Были у неё и два родных брата – Александр и Василий, письма к которым приведены выше. Но нас в данном случае интересуют братья двоюродные, а точнее, один из них.
У отца Екатерины Николаевны была родная сестра Лукерья Ивановна, в замужестве Орлова. Её-то сыновья и прославились в царствование Императрицы Екатерины Второй, а особенно знаменитым стал именно Григорий Орлов, полюбивший юную кузину Катеньку.
В 1773 году произошло событие, которое в дальнейшем серьёзно отразилось на его судьбе. Ушёл из жизни родной дядя, брат матери, Николай Иванович Зиновьев.
Принадлежавшее ему село Коньково он завещал пятнадцатилетней дочери своей Екатерине, которая выросла в нём в роскоши и неустанных родительских заботах.
Григорий Орлов часто бывал в Конькове, ведь его усадьба была совсем рядом, в Нескучном. Он и прежде отдавал должное необыкновенной красоте своей юной кузины, да совсем ещё мала была она. А вот теперь подросла, расцвела необыкновенно и осталась одна. Родители ушли из жизни почти одновременно – в один год.
Орлов с энтузиазмом взялся помогать Катеньке в решении наследственных дел, в организации хозяйства, которое было у неё немалым.
Как и когда вспыхнула взаимная любовь между Григорием Григорьевичем и Катенькой, сказать трудно. Документального подтверждения подобные факты, как правило, не имеют, ведь всегда остаётся какое-то таинство в отношениях между возлюбленными.
Надо полагать, что юная кузина давно уже отмечала и внешнюю привлекательность двоюродного брата, и его удаль богатырскую, а уж наслышана была о нём столько самого лестного и восторженного, что девичье сердце не могло не открыться для самой первой искренней и горячей любви.
К тому времени, возможно, и не без протекции Григория Орлова, Катенька Зиновьева стала фрейлиной Императрицы и оказалась в придворных кругах, где многим, зачастую и сама того не желая, вскружила головы. От женихов отбоя не было, но все получали отказ. Её сердце было занято, хотя не сразу узнали окружающие, кем занято оно.
Императрица, конечно же, узнала, что Орлов относится к Катеньке совсем не как к родственнице. Но она давно переболела этой своей любовью и осталась равнодушной к сообщениям о романе Григория с юной кузиной. Императрица уже приняла важное для себя решение и только ждала удобного момента, чтобы начать осуществление замысла. И вот такой случай представился. Орлов получил отставку…
Поняв бесполезность попыток вернуть любовь Государыни, он отправился в Москву, в своё Нескучное, и стал бывать в Конькове гораздо чаще, нежели прежде.
Правда, поначалу всё ещё на что-то надеялся и ждал вестей из столицы. И лишь в 1774 году, узнав, что возле Императрицы появился Григорий Потёмкин, уехал за границу. Понял, что надежд на возвращение в Зимний Дворец у него теперь не осталось. Потёмкин – это не Васильчиков. Потёмкина он знал и уважал. Ну а что касается соперничества, так ведь не Потёмкин «вытеснил» его из дворца, а Васильчиков, формально Васильчиков. Решение принимала, с кем ей быть, сама Государыня.
Что же касается Григория Орлова и его юной кузины, то сплетен, домыслов и предположений в литературе встречается великое множество, а потому обратимся сначала к достовернейшему источнику. В 1997 году издательство «Наука» выпустило книгу «Екатерина II и Г.А. Потёмкин: личная переписка 1769-1791». На титульном листе значится, что «издание подготовил В.С. Лопатин. Вячеслав Сергеевич всю свою жизнь посвятил доскональному изучению «золотого века Екатерины». Ещё в 1996 году «Наука» издала подготовленный им фундаментальный труд «А.В. Суворов. Письма». Его документальный фильм «Суворов», снятый в конце семидесятых к 250-летию великого нашего полководца, 11 лет не пускали на экран. Странно, поскольку фильм был правдив и патриотичен. Но кому-то из партократов не понравилось то, что автор полностью на достоверных и наглядных фактах развенчал мнимое величие Наполеона как полководца. Выступающая на словах за Россию некоторая часть партократии из окружения ярого русофоба Суслова, по умолчанию старалась сдерживать книги и фильмы, показывающие правду о величии наших замечательных предков.
Но я несколько отклонился от темы. О Вячеславе Сергеевиче упомянул, чтобы привести цитату из комментариев к тому переписки, где говорится о роковой любви Григория Орлова.
В.С. Лопатин в комментариях пишет:
«Княгиня Екатерина (Ульяния) Николаевна Орлова (урождённая Зиновьева – (1758-1781), двоюродная сестра князя Г.Г. Орлова, фрейлина Императрицы. Её любовь и преданность заставили Орлова пойти против мнения братьев и против церковных установлений, запрещающих браки между близкими родственниками.
5 июня 1777 года в тот самый день, когда шведский король удивил Панина и Екатерину своим неожиданным прибытием, Орлов обвенчался с Зиновьевой в церкви Вознесения Христа Копорского уезда Петербургской губернии. Князь показан на официальных приёмах через четыре дня после венчания, его жена – через десять.
Екатерина (одобрявшая этот брак) пожаловала 28 июня 1777 года княгиню Орлову в статс-дамы.
Однако, уже в августе Санкт-Петербургская консистория возбудила дело о незаконности брака.
Императрица вступилась за Орлова и лично писала архиепископу Гавриилу «о знаменитых заслугах князя передо Мною и Государством», прося прекратить дело, которое тянулось до февраля 1780 года…»
Интересно, что покои Орлова в Зимнем Дворце, так же как и покои Потёмкина были оставлены им пожизненно. Потёмкин останавливался в них, когда приезжал в столицу, Орлов же там бывал редко, а после женитьбы в 1777 году на Екатерине Зиновьевой и вовсе оставил их.
После свадьбы «лежачего не бить».
Ну а теперь попробуем более подробно остановится на том, что произошло в жизни Григория Григорьевича Орлова, посмотреть, попробуем выяснить, что же всё-таки известно о бракосочетании Григория Орлова и Екатерины Зиновьевой?
Современник писал: «О кратковременном супружестве знаменитого князя Григория Григорьевича Орлова известно весьма немного, и личность княгини Орловой представляется в каком-то тумане. Её брак со своим двоюродным братом, который был гораздо старше её летами, представляется чем-то загадочным. Задумал ли князь Орлов жениться на девице Зиновьевой вследствие любви и действительного увлечения ею, или в силу оскорблённого самолюбия и пошатнувшегося положения при дворе Екатерины: кто знает!»
Те современники Орлова, которым всегда и до всего есть дело, лишь бы дело это попахивало жареным, не могли смириться с чьим-то счастьем.
Случаи, когда между двоюродными братом и сестрой возникали отношения, прямо скажем, более чем просто родственные, не так уж и редки.
Вспомним Бунинский рассказ «Натали». Вспомним, наконец, кинофильм «Гусарская баллада», где хоть и не показаны таковые отношения, но поручик Ржевский задаёт главной героине, переодевшейся в мундир корнета, весьма прозрачный вопрос: «Скажите ка мне лучше, с наречённою моей у вас амурных счётов нет, надеюсь?»
Но это произведения художественные. А в жизни!? Светлейшему Князю Потёмкину те, кому до всего есть дело, приписывали любовные связи со всеми его племянницами, дочерями его родных сестёр – родство не столь уж дальнее. И эти выдумки пасквилянты обсуждали со сладострастием, забывая, что «моральный характер» поведения Григория Александровича признавал даже весьма и весьма сардонический пасквилянт эпохи Георг-Адольф Вильгельм фон Гельбиг – секретарь саксонского посольства при дворе Екатерины II, распространявший лживый миф о так называемых «Потёмкинских деревнях». Екатерина Великая даже потребовала, чтобы отозвали дипломата-сплетника, написав о нём: «Вы восторгаетесь моим… царствованием, между тем как ничтожный секретарь саксонского двора, давно уже находящийся в Петербурге, по фамилии Гельбиг, говорит и пишет о моём царствовании всё дурное, что только можно себе представить ...».
Так вот уж Гельбиг бы постарался расписать всё в самом дурном свете, если бы нашёл хотя бы малую зацепку – не нашёл.
И в то же время при дворе и в столичных салонах спокойно судачили об этаких связях. А на Орлова набросились единым фронтом… Быть может, потому что он уже потерял необъятную власть?!
Негодования начались за год до бракосочетания. То распускались слухи о том, что девица Зиновьева ждёт ребёнка от князя, то придумывали небылицы о том, что князь просто хочет прикрыть свой грех.
Интересно другое – церковь противилась браку, но ведь Орлов венчался со своей любимой в церкви, правда венчался в небольшой деревенской церквушке. Возможно, местный священник не решился отказать всесильному Орлову. Хоть и стало уже известно о его отставке, да отставка то казалась какой-то довольно странной – Императрица продолжала обходиться с Григорием Орловым довольно милостиво. Этого нельзя было не заметить.
Правда, гостей из высшего света на свадьбе не было – не решились, видно. Что же касается родных братьев Григория Григорьевича и родных братьев Екатерины Николаевны, сведений об их участии или неучастии в свадебных торжествах нет. Известно лишь то, что родные братья Орлова не одобряли его решения. Ну а родные братья Екатерины Николаевны, судя по переписке её с ними, всё-таки смирились с её выбором.
А впрочем, горячо любящим друг друга жениху и невесте так ли уж важны гости? Быть вместе, рядом, задыхаясь от счастья полного единения и духовного, и самого высшего, благословлённого Богом, и всего того, что непреодолимо влечёт друг к другу – вот что наиболее желанно!
Григорий Орлов, в сущности добрый по натуре, не чуравшийся в годы военные общения с солдатами, как с людьми, а не как с нижними чинами, в тот день был особенно щедр. Всем, кто пришёл поздравить своего господина, он подарил по рублю. И сказал, даже слегка прослезившись:
– Гуляйте, ребята, пейте за здравие невесты. Пейте за счастье моё с моею княгиней!
Итак, венчание состоялось. Не нам судить Орлова и его кузину. Да, с одной стороны, слишком близкое родство. А любовь?! Чувства?
Сенат специально собрался по вопросу об этом браке. Решение было жёстким: князя Григория Григорьевича Орлова с женою разлучить, брак считать недействительным, а Орлова и Зиновьеву отправить в монастыри.
Когда приговор принесли на подпись члену Сената генерал-фельдмаршалу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, он отодвинул его в сторону и с сарказмом сказал, что среди документов недостаёт выписки из постановления «о кулачных боях», в которой прямо говорится, что «лежачего не бить»! А потом прибавил:
– Ещё недавно мы все сочли бы за особое счастье приглашение на его свадьбу.
Императрица Екатерина кассировала постановление Сената, и брак вновь стал действительным. Ну а новоиспечённой княгине Орловой Государыня оказала милость высочайшую, сделав её статс-дамой. Кроме того она подарила ей свой портрет, а 22 сентября 1777 Своим Указом наградила Орденом Святой Екатерины и осыпала подарками.
Французский дипломат, барон Мари Даниель Бурре де Корберон в 1775 года прибывший в Россию в составе дипломатической миссии и живо интересовавшийся всем происходящим в столице, в своих записках отметил, что такое решение Императрицы «вызвало большую сенсацию».
Понимая, что оставаться в столице, да и вообще в России в такой обстановке неблагоразумно, молодая чета Орловых отправилась в Швейцарию, чтобы провести там медовый месяц без посторонних косых взглядов и негодований.
И Григорий, и его юная жена Катенька были необыкновенно счастливы. Катенька обратилась к поэзии и из Швейцарии отправила брату стихи, посвящённые обожаемому супругу:
Желанья наши совершились,
И все напасти уж прошли,
С тобой навек соединилась,
Счастливы дни теперь пришли.
Любимый мной,
И я с тобой!
Чего ещё душа желает?
Чтоб ты всегда мне верен был,
Чтоб ты жену не разлюбил.
Мне всякий край
С тобою рай!
Как бы в Петербурге ни осуждали женитьбу Орлова, а всё же твёрдость Орлова и его юной невесты, их самоотверженное стремление друг к другу не могли не вызвать уважение у многих, а у кого-то и плохо скрываемое восхищение. И не случайно, стихи, положенные на музыку и превратившиеся в романс, стали более чем популярны среди столичных жителей.
Вернувшись из зарубежной поездки, Орловы около двух лет прожили в столице, не выходя в свет и не устраивая никаких пышных балов и приёмов. Их гостями бывали лишь братья Григория Орлова и братья Екатерины Николаевны.
Секретарь саксонского посольства при дворе Екатерины II Георг-Адольф Вильгельм фон Гельбиг вспоминал об этой паре в своих мемуарах следующее:
«Княгиня сумела возвратить спокойствие в сердце Орлова; он предпочитал теперь частную жизнь прежнему бурному и блестящему существованию».
Английский посланник при дворе Екатерины II Гаррис Джеймс, лорд Мальмсбери отмечал:
«Орлов неразлучен со своей женою. Никакая побудительная причина не заставит его принять участие в делах».
Одно удручало супругов. Попытки завести детей оканчивались трагически. Дети рождались мёртвыми. Видимо играло свою роль столь близкое родство супругов, не случайно запрещаемое церковью.
Полагая, что заграничные доктора могут помочь в этом вопросе, Орловы отправились за границу. Они объехали почти все западноевропейские страны. Юную княгиню осматривали тогдашние знаменитости, но случалось, что этаких вот знаменитостей разыгрывали из себя шарлатаны. Так что Орловы попадали в руки не только медицинских знаменитостей, но и мошенников. Барон Фридрих Мельхиор Гримм, немецкий публицист, критик и дипломат, который был постоянным на протяжении многих лет корреспондентом Императрицы Екатерины II, в своих письмах называл эти поездки по врачам «охотой за шарлатанами».
Между тем, здоровье юной супруги постепенно ухудшалось по причинам, непонятным Григорию Орлову. Он ещё не терял надежды, что всё-таки станет отцом, да и Императрица Екатерина писала его супруге, чтобы по возвращении в Россию непременно привезла маленького Орлова.
Но неожиданно на одном из приёмов у врача настоящего, а не мнимого, Орлов услышал, что не о детях думать надо, а о том, как спасать саму княгиню, хотя и это уже проблематично, ибо болезнь переходит в необратимую стадию. Но какая болезнь? Откуда же болезнь, у совсем молодой и недавно ещё полной сил, здоровья и энергии женщины? Ответ сразил Орлова. У его супруги – чахотка.
Он не поверил. Снова провели обследование, прошли консультации у лучших медиков. Диагноз подтвердился...
Да и состояние резко ухудшилось.
Григорий Григорьевич не отходил от своей жены до последнего часа. Она угасала быстро, и вместе с нею угасал он, теряя своё богатырское здоровье не от болезни, а от переживаний.
Светлейшая Княгиня Екатерина Николаевна Орлова умерла фактически у него на руках. Это случилось 16 июня 1781 года в Лозанне. Ей шёл двадцать четвёртый год. Орлову не исполнилось и сорока восьми…
Княгиня Орлова была поначалу похоронена в Лозанне, но затем Григорий Григорьевич перевёз её тело в свинцовом гробу в Россию и предал земле в Александро-Невской лавре, в Благовещенской усыпальнице.
Императрица отозвалась на случившееся участливым, сочувственным письмом:
«Привыкши столько лет брать величайшее участие во всех до вас касающихся делах, не могла я без чистосердечного и чувствительного прискорбия уведомиться о рановременной потере любезной вашей княгини, моля Бога, да сохранит ваше здоровье и дни до позднего века...».
После похорон Григорий Григорьевич был в каком-то отрешённом состоянии. Братья перевезли его в Москву, в Нескучное, надеясь, что время – лучший лекарь, что он отойдёт, справится со своим горем. Но видно слишком много бед и разочарований выпало на его долю. После необыкновенного взлёта нелегко падать – не всем удаётся выдержать падений. Орлову на какое-то время удалось, потому что рядом была его Катенька, его юная княгиня, его обожаемая супруга. Злой рок вырвал и её у некогда всемогущего фаворита Императрицы.
Он так и не смог смириться с этой потерей. Неделями отказывался от пищи, не смыкал глаз, начинал заговариваться, порою, по отзывам современников, впадая в детство.
Григорий Григорьевич Орлов пережил супругу почти на два года и умер 13 апреля 1983 года…
Императрица вспоминала о впечатлении, произведённом на неё известием об этом:
«Потеря князя Орлова так поразила меня, что я слегла в постель с сильнейшей лихорадкой и бредом: мне должны были пускать кровь...»
А буквально за несколько дней до его кончины – 8 апреля 1783 года – был подписан Манифест о присоединении Крыма к России.
И в этом, и во многих других свершениях Золотого Века Екатерины есть немалая доля заслуг того, кто был одним из главных виновников вступления на Престол Великой Государыни, ведь он стоял рядом с ней в первые, самые нелёгкие годы её царствования. Его братья были верными соратниками Императрицы, а Алексей Орлов не только уничтожил турецкий флот при Чесме, но и ценой своей репутации спас Престол и Россию от самозванки Таракановой, пытавшейся сокрушить Российскую Империю по заданию всё тех же шакальих стай Запада, ненавидящих Русский мир с времён незапамятных и до нашего времени.
Роковая любовь Григория Орлова
Роковая любовь Григория Орлова
Прочитав это заглавие, иные читателя, возможно, подумают: ну, вот, мол, опять о любви Орлова к Императрице Екатерине. Что уж тут нового сказать можно? Всё и так всем известно.
Но в данном случае речь пойдёт совсем о ином, далеко не рядовом увлечении Григория Григорьевича Орлова, даже не увлечении, а страстной, горячей и, безусловно, искренней и бескорыстной любви. Эта любовь была всепобеждающей по своей сути, но порицаемой общественным мнением, и порочной по церковным канонам. Потому что посетила Григория Орлова любовь не просто к женщине, а к совсем ещё юной девушке, к его двоюродной сестре – дочери родного дяди по материнской линии Екатерине Зиновьевой. И любовь эта стала терновым венцом последних лет жизни светлейшего князя Григория Григорьевича Орлова, генерал-фельдцейхмейстера, сподвижника Императрицы Екатерины Второй, проложившего ей путь к Престолу Русский Царей, но отставленного и удалённого от двора по его же собственной вине.
Впрочем, обо всём по порядку…

Переговоры о мире с турками
1770 год был славен блистательными победами Г.А. Потёмкина при Фокшанах 4 января, П.А. Румянцева при Рябой Могиле 17 июня, Ларге 7 июля, и Кагуле 21 июля, а также А.Г. Орлова при Чесме 24 – 26 июня. После разгрома турок в Кагульском сражении недобитые остатки армии Османской империи разбежались, и собрать их ранее следующей кампании не предоставлялось возможным. После Чесменской победы турки потеряли весь свой флот до единого корабля. Точнее, уцелело одно судёнышко, которое просто не успело вследствие своей тихоходности прибыть своевременно к месту морского сражения.
Россия получила право требовать на мирных переговорах выгодных условий и значительных для себя территориальных уступок. В 1771 году Императрица Екатерина направила в Фокшаны на мирные переговоры – мирный конгресс, как тогда говорили – Григория Григорьевича Орлова, назначив его первым российским полномочным представителем, дав ему в помощники опытного дипломата Алексея Михайловича Обрескова.
Фокшаны ознаменованы первым серьёзным успехом молодого генерала Григория Александровича Потёмкина, одержавшего важную победу 4 января 1770 года и провалом, как полагают некоторые историки, всесильного ещё в то время Григория Григорьевича Орлова, в переговорах. Впрочем, дело вовсе не в тех, кто вёл переговоры, а во вполне законных, но губительных для агрессивной политики Турции требованиях России, заключающихся в признании за Россией свободы торговли и мореплавания на Черном море и независимости Крыма от султана. Никто из турецких переговорщиков не имел полномочий согласиться на такое, поскольку кара султана была жестокой.
Однако граф Никита Иванович Панин настаивал на том, что именно Орлов виновен в провале, поскольку покинул переговоры и помчался в Петербург. Правда была лишь в том, что Григорий Григорьевич действительно, бросив всё, сломя голову полетел в столицу. И были на то причины…
Во время затянувшихся переговоров, которым и конца видно не было, Григорий Орлов получил письмо от своего брата Алексея, в котором тот сообщал, что место его при Императрице или уже занял или вот-вот займёт корнет лейб-гвардии Конного полка Алексей Семёнович Васильчиков, уже пожалованный в начале августа 1772 года камер-юнкером, а в начале сентября камергером.
Из письма Григорий Орлов узнал то, о чём давно уж судачил весь Петербург и о чём докладывали своим правительствам посланники европейских стран. К примеру, прусский посланник Сольмс писал в срочной депеше Фридриху:
«Не могу более сдерживаться и не сообщить Вашему Величеству об интересном событии, которое только что случилось при этом дворе. Отсутствие графа Орлова обнаружило весьма естественное, но, тем не менее, неожиданное обстоятельство: Её Величество нашла возможным обойтись без него, изменить свои чувства к нему и перенести своё расположение на другой предмет. Конногвардейский корнет Васильчиков, случайно отправленный с небольшим отрядом в Царское Село для несения караулов, привлёк внимание своей Государыни, совершенно неожиданно для всех, потому что в его наружности не было ничего особенного, да и сам он никогда не старался выдвинуться и в обществе очень мало известен. При переезде царского двора из Царского Села в Петергоф Её Величество в первый раз показала ему знак своего расположения, подарив золотую табакерку за исправное содержание караулов. Этому случаю не придали никакого значения, однако частые посещения Васильчиковым Петергофа, заботливость, с которой она спешила отличить его от других, более спокойное и весёлое расположение её духа со времени удаления Орлова, неудовольствие родных и друзей последнего, наконец, множество других мелких обстоятельств открыли глаза царедворцам. Хотя до сих пор всё держится втайне, никто из приближённых не сомневается, что Васильчиков находится уже в полной милости у Императрицы; в этом убедились особенно с того дня, когда он был пожалован камер-юнкером».

Письмо брата ошеломило Григория Орлова.
Как так, да не может такого быть! Он, он один до сих пор занимал место не только в тех комнатах, куда теперь, судя по письму, поселили Васильчикова, а в сердце Императрицы, в её мыслях, во всей её жизни. Ведь благодаря ему и его братьям она вступила на Императорский Престол, благодаря ему не попала в пожизненное заточение вместе с сыном Павлом – в жуткое заточение, подобное тому, в котором оказался Иоанн Антонович только за то, что родился в Брауншвейгской семье, рвавшейся управлять чуждой ей Россией.
Что делать? Орлов сорвался с места, собрался по-военному быстро и помчался в Петербург. Он спешил, он считал, что ещё не поздно всё поправить, что стоит ему предстать пред светлые очи Императрицы и объяснить с ней, как всё вернётся на круги своя. Он снова станет любимым, слова станет самым необходимым для неё в её жизни.
Летел на крыльях быстрой тройки, которая сколь бы быстрой не была, даже при частой смене лошадей на специально предназначенных для того станциях, не могла домчать даже самого срочного курьера до Петербурга ранее через восемь, а то десять – в зависимости от погоды и состояния дорог – суток.
Пусть не десять, пусть даже восемь суток – но восемь суток полного неведения, полного отсутствия информации. А что там, в Петербурге, что происходит во дворце? И кто этот негодник, который посягнул на почти уже собственность Орлова, на женщину, принадлежащую только ему одному? Имя его Орлову ничего не говорило.
Григорий Григорьвич ещё не понял, ещё не осознал, что долгие годы рядом с ним была не просто женщина, рядом с ним была Императрица, Государыня Российская. И пусть верно то, что он и его братья были главными виновниками того, что Екатерина Алексеевна сумела войти на Престол Русских Царей, она ведь на него уже взошла и вырвалась тем самым на высоту, недосягаемую для своих подданных – в том числе и тех, кому обязана этим восшествием. Он ещё к тому времени не осознал, что она Государыня!
Он мчался в Петербург, негодуя оттого, что у него совершенно, по его мнению противозаконно отняли дорогую игрушку, и в негодовании своём он всё ещё не мог понять, что отняли вовсе не игрушку, принадлежащую ему, отняли не просто женщину, а женщину особого рода. Да и не отняли вовсе. Она решала быть ли ей отнятой у одного и принадлежать ли кому-то другому или нет. Она, она и только она одна!
Да, ему случалось видеть её и встревоженной своим неустойчивым положением великой княгини при равнодушном к ней великом князе. Да, ему приходилось выводить её даже из состояния минутной растерянности, минутной слабости, но он не увидел в ней огромный, недюжинный потенциал великой женщины, способной преодолеть все преграды на пути к высшей цели, поставленной перед собой однажды и навсегда.
Вся жизнь его до сих пор была разделена на три периода – период до знакомства с великой княгиней Екатериной; период горячей любви, любви тайной, опасной для них двоих и оттого казавшейся ещё более сильной, всепобеждающей и период, когда вся Россия была у её ног, а он понял иначе – он понял, что это у его ног Россия, хотя после переворота уже никаких усилий не предпринимал, чтобы упрочить это своё положение.
И вот оно, это положение, сильно пошатнулось. Да полно – пошатнулось ли? Всё это выдумки, выдумки и не более того. Вот сейчас он ворвётся во дворец, вот сейчас предстанет перед нею, и она простит, и всё будет по-прежнему.
Чтобы не думать о худшем, он старался вспоминать о том лучшем, что было в его жизни…
Мчался, окунаясь от дорожного безделья в вспоминая о своём прошлом тридцативосьмилетний пока ещё, как ему казалось, всесильный Орлов и как тоже казалось ему, возлюбленный Государыней, почти что муж, даже, по мнению его, муж, если не по имени, то по существу.
Он вспоминал о своём отце, отставном генерал-майоре Григории Ивановиче Орлове, в семье которого появился на свет 17 октября 1734 года, вспоминал о том, как рос в тёплой, дружеской атмосфере вместе с четырьмя своими братьями, как под руководством отца проходил вместе с ними азы военного дела и военного искусства. Как закалял их отец, как заставлял приумножать физическую силу, на которую и без того не поскупилась сама Природа, сделавшая их здоровяками. Все братья отличались высоким ростом и богатырским телосложением.
Вспоминал, как в 1749 году поступил в Петербургский сухопутный шляхетный кадетский корпус, после которого в чине подпоручика был направлен в лейб-гвардии Семёновский полк.
А потом грянула Семилетняя война. И он отличился в первых же боях, приобрёл авторитет своей невероятной храбростью и дерзостью в схватках с врагом.
Вспомнилось ожесточённое сражение близ прусской деревушки Цорндорф. Битва с войском прусского короля Фридриха II шла с переменным успехом. Орлов уже в начале её получил ранение, но остался в строю, продолжал сражаться, когда ранили его во второй раз. Своим богатырским видом он внушал ужас противнику, а русские воины шли за ним в бой, презирая опасность.
Во время одной из схваток совсем рядом прогремел взрыв, Орлова засыпало землей, и товарищи уже мысленно простились с ним. Но он поднялся, несмотря на то, что был ранен уже в третий раз. Ему кричали, чтобы отползал в лазарет, что его прикроют. Но он и не думал выходить из боя, и снова увлёк своих солдат в контратаку.
В том сражении прусская армия потерпела поражение и бежала с поля боя. Орлову за подвиги его был пожалован чин капитана и дано ответственное и почётное поручение – доставить в Петербург взятого в плен адъютанта прусского короля графа фон Шверина.
Вот это поручение и перевернуло его судьбу. Весной 1759 года он привёз фон Шверина в Петербург.
Императрица Елизавета Петровна не пожелала видеть пленника. А великий князь стелился перед ним как раб перед господином и даже добился того, чтобы разместили графа в одном из лучших столичных домов. Туда стал являться сначала с официальными, а затем и дружескими визитами.
Великий князь Пётр Фёдорович неизменно брал с собой великую княгиню Екатериной Алексеевной.
Так и произошло знакомство Григория Григорьевича с будущей Императрицей. Так незаметно, тайно от всех завязалась любовь, которая сильно отразилась на последующих событиях и, в конце концов, привела к свержению с престола Петра III.
Пришло время, когда Орлов купался в зените славы. Единственного чего не хватало, так это оформления законного супружества с Государыней. Он постоянно намекал на это, а то и просто требовал, чтобы Екатерина стала его женой. Она уклонялась. Уклонялась, как объясняла ему, потому, что не достаточно ещё укрепилась на троне, чтобы делать подобные шаги. Напоминала о постоянных заговорах, которые разоблачала и ликвидировала, кстати, опять же зачастую не без помощи авторитетных в гвардии братьев Орловых.
Да и высшие сановники протестовали против замужества Государыни. Граф Панин на заседании Государственного Совета прямо заявил:
– Матушка, Государыня, мы все повинуемся повелению Императрицы, но кто же будет слушаться графиню Орлову?
Григорий Григорьевич тогда ещё не понял, что в этом вопросе, несмотря на антагонизм отношений, мнение Императрицы совпадало с мнением Панина.
Но Орлов вскоре оставил эту свою затею, уверившись в том, что и без супружества он супруг, пусть не по имени, так по существу, а уверившись, стал терять чувство понимания реальности. Он был моложе Екатерины на пять лет. А известна истина – мужчин чаще всего тянет к более молодым особам прекрасного пола. Ну и Орлов не был исключением. Он добился в жизни всего, чего только можно было добиться. Он был всесилен, хотя и не стремился участвовать в государственных делах. Ему было достаточно и одного только сознания этой своей силы.
Но он уже решил, что всесилен и в отношении Государыни, что она без него – никто, что она без него – шагу сделать не может. А она делала, она делала шаг за шагом. Ей было, порою, трудно, очень трудно, она искала в нём опоры, но не находила, и потому продолжала поиск уже за пределами этак вот наскоро слепленной и не узаконенной своей семьи с Орловым.
А он стал поглядывать на других женщин, даже влачиться за молодыми и привлекательными придворными дамами, что, конечно, не оставалось незамеченным.
Дальше, больше. Однажды, во время загородной поездки Императрица застала его, уединившегося с юной красавицей, но скандала не было – всё обошлось спокойно, даже без упрёков.
Вот, когда он должен был насторожиться, вот когда должен был серьёзно задуматься над тем, почему же так легко сошло ему всё это с рук? Ведь он не мог не убедиться за минувшие годы в том, что Императрица, всегда неукоснительно соблюдая верность своему избраннику, строго требует такого же отношения к себе. А тут ни сцен ревности, ни наказания соперницы. Императрица подошла к той, которую только что обнимал Григорий Григорьевич, и, положив руку на плечо, успокоила её:
– Не надо смущаться. Я уверена в вашей порядочности и уважении ко мне. Не бойтесь, что доставите мне огорчение. Наоборот. Это я вам обязана за ваше поведение.
Обязана за поведение? Не в этих ли словах разгадка? Как он не заметил, что с какого-то момента его внимание к другим дамам перестало раздражать Екатерину, а, напротив, она словно собирала факты. Но для чего? Для наказания фаворита? Нет, она не наказывала и не собиралась наказывать его. Эти факты нужны были ей и только ей одной, её душе, её сердцу. Они нужны были для оправдания решения, которое она все никак не могла принять. Недаром в своей «Чистосердечной исповеди», адресованной Потёмкину, она сказала об Орлове, что «сей бы века остался, если б сам не скучал». То есть, если бы ему не наскучили хоть и не узаконенные, но семейные отношения с женщиной, которая старше него на пять лет, хоть она и не простая женщина, хоть она и Императрица. Наскучила семейная жизнь, и захотелось чего-то нового, особенного, необычного.
Впрочем, скорее всего, не только Орлов заскучал, но и Государыне порядком надоел такой возлюбленный, который постоянно поглядывал по сторонам. И она перестала реагировать на эти поглядывания.
Сохранились донесения иностранных дипломатов об Орлове такого характера:
«…У него есть любовницы в городе, которые не только не навлекают на себя гнев Государыни за свою податливость Орлову, но, напротив, пользуются её покровительством.
Сенатор Муравьёв, заставший с ним свою жену, чуть было не произвел скандала, требуя развода; но Царица умиротворила его».
Много не понял раньше, да не понимал и теперь, мчащийся в столицу ещё несколько недель назад всесильный временщик, а теперь почти что рядовой сановник, не возлюбленный Государыни, а её подданный.
Он всё ещё верил в успех своей гонки в Петербург. Верил даже тогда, когда на одной из станций его встретил царский фельдъегерь и передал пакет от брата Ивана Григорьевича, в котором было его письмо и личное послание Императрицы. Императрица предписывала «избрать для временного пребывания ваш замок Гатчину», поскольку в тех областях, по которым проезжал Орлов был карантин по поводу чумы.
Не случайно Императрица отправила Григория Орлова в Гатчину. Ведь и сама Гатчина и дворец возводимый теперь в ней, были её подарком Григорию Григорьевичу, как считают биографы, за дворцовый переворот 28 июня 1762 года, в результате которого она вступила на Российский Престол.
Собственно, покупала она в 1765 году не дворец, а небольшую Гатчинскую мызу, которая была в собственности князя Бориса Александровича Куракина.
Мыза… Что это – населённый пункт, хутор? Это наименование употреблялось XVII-XVIII веках в Санкт-Петербургской губернии по большей в той местности, что располагалась на бывшей территории Ингерманландии.
Мызами именовались отдельно стоящие помещичьи усадьбы с сельскохозяйственными постройками при них. Когда-то они являлись субъектами административно-территориального деления Ингерманландии.
К примеру, Царское Село в прошлом тоже именовалось мызой Саарской. Оттого и можно довольно часто встретить в старых письмах, воспоминаниях название Сарской Село. Уже с одним «а», уже ближе к Царскому…
Территория Гатчинской мызы позволяла возвести дворец, строительство которого и началось 30 мая 1766 года.
Итальянец Антонио Ринальди, ставший придворным архитектором, сделал проект, в результате исполнения которого получилось строение, напоминающее средневековый замок, причём довольного вида, вполне соответствующего настроению хозяина, которому предстояло отправиться туда уже не по собственной воле, а по повелению Императрицы.
Чтобы Григорий Григорьевич осознал всю серьёзность её требования, Екатерина пересылала своё послание через Ивана Григорьевича. Именно Ивана все лихие и дерзкие братья Орловы слушались как старшего, а после ухода в мир иной их родителя, почитали почти как отца. Иван советовал неукоснительно исполнить просьбу Государыни. Он-то уж точно знал, что отставка Григория окончательна и бесповоротна.
В письме говорилось о том, что желательно, чтобы Орлов в столице не появлялся в течение года. Императрица также извещала, что назначает ему ежегодное жалование в 150 тысяч рублей, а кроме того жалует значительные средства на строительство дома и обустройство домашнего хозяйства, дарует 10 тысяч крепостных, серебряные сервизы и мебель. Ему было разрешено пользоваться императорскими каретам, а слугам его – носить ливрею императорского дома.
Она писала также:
«Я никогда не позабуду, сколько я всему роду вашему обязана, и качества те, коими вы украшены и поелику Отечеству полезны быть могут».
Что же произошло? Когда же Императрица переменила своё отношение к Григорию Григорьевичу?
Быть может самой первой и наиболее весомой причиной, было известие об увлечении Григория Орлова своей кузиной Екатериной Зиновьевой? Ведь познакомился Григорий Орлов с юной Катенькой в 1771 году, когда ей было всего 13 лет. Но уже тогда она поражала своей красотой, впоследствии воспетой Гавриилом Романовичем Державиным.
Как ангел красоты, являемый с небес,
Приятностьми она и разумом блистала,
Помогли и придворные сплетники, которые и Императрицу в своё время не щадили, выдумывая всяческие небылицы, ну и про Григория Орлова сочинили, будто он в пьяном виде «тринадцатилетнюю двоюродную сестру свою Екатерину Николаевну Зиновьеву, иссильничал…». Эта сплетня впоследствии попала в знаменитое сочинение князя Михаила Щербатова «О повреждении нравов в России».
Но так ли это было, да и вообще, могло ли такое быть? Ведь, во-первых, сиротой Екатерина Зиновьева осталась в пятнадцать лет, а когда ей было тринадцать, встречи Григория Орлова с нею происходили при родителях, причём, родители не принимали всерьёз увлечения их племянника Григория своей дочерью. Родство-то очень близкое! И разница в возрасте велика – 24 года. Конечно, в ту пору такая разница не казалась столь большой, бывало, что родители дочерей замуж и более старшим по возрасту, но не в столь же юном возрасте. Да и главная причина была всё же в очень и очень близком родстве.
Косвенно сплетню опровергают сохранившиеся письма Катеньки Зиновьевой, в которых она говорит о своих чувствах к Григорию Орлову. К насильникам таких чувств девушки, подвергшиеся насилию, не питают. Напротив, они испытывают к ним отвращение…
Вот строки из письма Катеньки Зиновьевой к брату Василию:
«Я его люблю более, нежели когда-нибудь его любила, и, по милости Всемогущего, я очень счастлива… Для нас обоих недостает только вас. Вы, пожалуй, скажете, что я глубоко заблуждаюсь и подумаете, что я его не люблю. Я неизменчиваго характера, но обо всем судят по себе; почему он и думает, что я его более не люблю…»
Это написано в 1777 году, когда Катеньке было девятнадцать, но слова: «нежели когда-нибудь его любила…» говорят о её давней и постоянной любви, возможно пришедшей к ней с самых первых встреч с Григорием Орловым.
А вот небольшая записочка самого Григория Григорьевича, адресованная её родным, а своим двоюродным братьям:
«Государи мои А. и В. Николаевичи! Благодарствую за ласку вашу ко мне и за любовь, которую вы к сестре вашей являете, вам благодарен и, найдя случай все cиe сказать, скажу, что я всегда остаюсь ваш покорный слуга. Ваш Г. Орлов.
Далее приписка замой Екатерины Николаевны:
Дорогие братья, душеньки мои, как пред вами виновата! Умоляю, простите меня! Тысячу раз благодарю тебя, мой дорогой Вася… все твои письма я получила, мой милый, и благодарю тебя за память. Я вполне чувствую, мои дорогие, всю меру вашего ко мне горячего участия… Мы, слава Богу, в наилучших отношениях с моим дорогим князем. Ради Бога приезжайте, мои дорогие друзья, к Святой; умоляю тебя об этом, мой милый Вася. Ты это можешь сделать и привези Александра; постарайся так устроить свои дела, чтобы к Святой быть здесь; не откажи мне в этом и привези также свою жену».
Но это письма более позднего времени. А пока Орлов осмысливал то, что внезапно свалилось на него вместе с письмом, полученным от брата Алексея в Фокшанах, а теперь от брата Ивана и от Императрицы – в дороге, на небольшой станции, в доме станционного смотрителя.
Много высказано в литературе различных версий, порой, диаметрально противоположных по поводу отставки Орлова. Лучше всего придерживаться того, что писала сама Государыня.
Вспомним, что сказано ею в «Чистосердечной исповеди». Своему избраннику, своему будущему супругу Екатерина Алексеевна прямо заявила об Орлове:
«Сей бы век остался, естьли б сам не скучал. Я сие узнала в самый день его отъезда на конгресс из Села Царского и просто сделала заключение, что о том узнав, уже доверки иметь не могу, мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешперации (отчаяния – Н.Ф.) выбор кое-какой, во время которого и даже до нынешнего месяца я более грустила, нежели сказать могу, и иногда более как тогда, когда другие люди бывают довольные, и всякое приласканье во мне слёзы возбуждало, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как сии полтора года».
Так что же всё-таки произошло? В «Чистосердечной исповеди Императрица не пояснила этого, лишь сделав намёк…
А не тот ли этот конфликт, описание которого приводится в некоторых книгах, причём со ссылкой на «анонимного биографа»?
«Когда Её величество Зиновьеву, бывшую при дворе фрейлиной, за её непозволительное и обнаруженное с графом (Орловым Г.Г. – Н.Ш.) обращение при отъезде двора в Сарское Село с собою взять не позволила, то граф был сим до крайности огорчён и весьма в том досадовал. Так, что однажды при восставшей с Императрицею распре отважился он выговорить в жару непростительно грубые слова, когда она настояла, чтобы Зиновьева с нею не ехала: „Чорт тебя бери совсем“».
Тут и Царское (Сарское) Село фигурирует и косвенное указание на то, что Орлов де, сам уже «скучал» при Государыне. То есть, по-видимому, поглядывал на других женщин. Это и привело, как писала Императрица, к тому, что она позволила себе «сделать из дешперации выбор кое-какой». То есть, приблизить Васильчикова.
Но кто же такая Зиновьева и почему вдруг Григорий Орлов так обиделся на то, что её не взяли в Царское Село?
Продолжение следует.
Экзамены - позади
Абитуриентка Глава четвёртая
Начались занятия - Экзамены - позади
Но вот экзамены остались позади, и начались занятия. К этому времени все перезнакомились. Наташа сдружилась с двумя сёстрами-близнецами. Они выделялись большими, по-настоящему русыми косами. Их звали Вера и Люба… Прямо вера и любовь. Не хватало только надежды и Премудрости – Софии. Была ещё Таня, весёлая такая, со стрижечкой короткой, симпатичная и умненькая девочка.
То, о чём говорили в первые дни знакомства, в самом начале первого курса, существенным не было по вполне ясной причине – тогда и не о чем почти было разговаривать и спорить. Разговоры касались самых простейших, всё ещё детским тех. Это уже позднее, после нескольких месяцев учёбы, иногда развёртывались целые дискуссии и на религиозные, и на исторические темы. Говорили даже о современности.
Да и возраст невелик. Всем было лет по семнадцать – восемнадцать – девятнадцать. Разве что староста постарше, посерьёзнее. Он отслужил срочную службу, а потому оказался не только старше, но и несколько более опытным в жизни, чем остальные. Его выбор профессии был более осознанным.
Преподаватель по истории объявила на первом занятии, что порядок таков: сначала изучаются несколько тем, потом по ним проводится зачёт.
Лекции слушали в МГУ. Не в основном здании, а в построенном несколько позже основного, ближе к метро «Университет».
Встречались обычно у выхода из метро. А погода стояла изумительная. Наташе иногда очень не хотелось идти на занятия, но она шла, потому что лекции были не только необходимы. Они были интересными.
Ей нравились лекции по Закону Божьему. Читал их моложавый священник. Читал вдохновенно. После лекций долго отвечал на вопросы.
Вопросы студенты задавали самые различные. И по теме, и чисто жизненные.
Во времена нынешние вопросы веры особенно сложны для некоторых. Годы атеизма оставили след. Большое значение имело то, что долгое время вера была под запретом. А потом, когда её как бы разрешили, «впереди паровоза» побежали самые лютые безбожники и жулики, «заподозрить» которых в искренней вере Бога, мог только слепой. Если бы это было иначе, не разваливалась бы и не обнищала бы страна в «лихие девяностые».
Конечно, лектор старался избегать политики или, во всяком случае, напрямую не касался её. Но люди верующие живут ведь среди населения страны, среди тех, кто верит, и кто не верит или верит по-своему.
Наташа и её друзья, несмотря на то, что готовились к экзамену, а затем к собеседованию по Закону Божьему, были, конечно, стерильны в знании этих всех вопросов, а потому с большим вниманием слушали то, что говорилось на лекции и то, что отвечал лектор студентам.
Им давали знания, которые составляли основу христианской религии. И поначалу никаких сомнений в том, что слушали, не возникало. Хотя вопросы неизбежно должны были возникнуть. И первый главный вопрос, который всегда волновал Наташу – как же это так получается: Бог, Создатель, Творец, Всевышний – один на всех, что признают все религии. Однако, на Земле образовались разные конфессии, приверженцы которых отстаивают каждый свои представления о Боге, причём отстаивают иногда до драки. Имеются в виду религиозные войны, которых немало знает история. Собственно, войны и подразделяются на религиозные, с одной стороны. Это в том случае, когда сильные мира сего, пряча истинные грабительские задачи, посылают свои войска, якобы, во спасение своего Бога. Или чисто грабительские, когда такие диктаторы, как, к примеру, Наполеон, лишь слегка прикрываются лживыми лозунгами, а иногда и не скрывают то, что идут именно грабить.
Преподаватель привёл на лекции первый приказ Наполеона по Итальянской армии: «Я вас поведу в самые плодородные на свете равнины! В вашей власти будут богатые провинции, большие города! Вы там найдёте честь, славу и богатство!»
Он говорил о том, что Наполеон отождествлял такие несопоставимые понятия как честь и богатство. Ведь богатство, по мнению агрессора, можно было «найти» лишь путём мародёрства, путём грабежа. Он и сам показывал в том пример.
А как католическая церковь относится к войнам? То есть к убийству!
Папа римский ещё в древние века обратился с призывом к европейским странам распространять католичество силой. Когда же шведские крестоносцы были разбиты Александром Невским на Неве в 1240 году, а на Чудском озере в 1242 году, папа римский проклял новгородцев, мужественно защищавших свою землю. За что проклял? За то, что не позволили врагу топтать свою землю, бесчестить жён, убивать стариков и детей и грабить, грабить, грабить, якобы, во имя Бога.
А ведь католики считают себя христианами…
В те дни, начиная учёбу, пока на первом курсе Богословского института, Наташа ещё полагала, что Христос и христианство связаны неразрывно, ибо христианство – есть учение Христа. Потом частенько приходилось удивляться многому.
Основным предметом была история. Она была ориентирована в большей степени на духовные аспекты. Наташа интересовалась историей давно, а часто возникавшие дома разговоры о том, что вся беда в разделении науки этой на светскую и духовную. Под влиянием разговоров она решила поступать на исторический факультет именно Богословского института.
Но лекции ей было посещать довольно трудно. Как-то по пути в здание МГУ, где проводились они, она сказала Тане, что, наверное, ей придётся некоторые лекции пропускать.
– Почему? – удивилась Таня. – Мне казалось, что они тебе нравятся.
– Очень нравятся, – согласилась Наташа. – Но дело в другом. Трудно ездить. Ведь мне приходится ехать сначала на трамвае или автобусе до метро, затем делать пересадку на «Кузнецком мосту». А там сама знаешь, какие толпы. И потом ещё сколько остановок до метро «Университет»!
– Ну и что?
– И всё это время на ногах. А у меня проблемы…
– С ногами? А я смотрю, ты прихрамываешь иногда…
Наташа пояснила, что умеет ходить и, не прихрамывая, но, это требует определённых усилий. А если забывает, то сразу начинает прихрамывать.
Таня попросила рассказать, если, конечно, можно.
– Отчего же… Расскажу, – согласилась Наташа, тем более, в тот день они встретились пораньше, чтобы погулять по парку и просто поговорить о всякой всячине.
– Раз тебе трудно ходить. Давай лучше посидим на лавочке, – предложила Таня.
– Не то чтобы трудно, но… просто устаёт сустав и начинает побаливать.
Они направились к берегу и выбрали лавочку, с которой открывался вид на Москву-реку. По реке ещё ходили теплоходы.
Посмотрев на них, Наташа заметила:
– Мама рассказывала, что раньше их называли речными трамвайчиками.
– Слышала… Теперь тоже иногда так зовут, но больше – теплоходами.
Устроившись на лавочке, Наташа некоторое время собиралась с мыслями и, наконец, начала рассказ. Время до лекции было ещё много, Наташа рассказывала довольно долго, поскольку Татьяна иногда задавала уточняющие вопросы. Она слушала внимательно, сочувственно покачивая головой.
А история же Наташи, вкратце, такова...
Продолжение следует…
Ссылки на предыдущие части :
Бойфренд с сайта BMW
Полина Трофимова Мария Шестакова.
Плата за игру. Глава 12
Бойфренд с сайта BMW
Весь следующий день после гибели странного соседа Юры, Лора не виделась со своей подругой. Девять дней, кладбище, поминки. Но едва всё это осталось позади, как сама поспешила в офис.
– Что случилось? почему такая взъерошенная? – спросила у неё Анна Ивановна.
– Будешь тут взъерошенной.
– Да что такое?
– Вчера были на могиле. Родители его, друзья, знакомые… А за нами следили. Остановились два джипа поодаль. Какие-то люди пошли.
– Так, может, просто на кладбище приехали… Сколько братков после разборок похоронено…
– Нет. Следили именно за нами. Когда мы у могилы остановились, и они остановились. А когда назад пошли, они поспешили удалиться, а потом за нами ехали…
– И много было? Что, целая банда? – переспросила Анна Ивановна, явно не доверяя рассказу подруги.
– Человека три или четыре. Да не поймёшь. Кто-то отходил, кто-то подходил.
– И что, так уж за вами и ехали? – снова недоверчиво спросила Анна Ивановна.
– Ну, так особо не следила, но вроде ехали. А потом мне показалось, что возле кафе один из тех джипов точно был. И такое впечатление, что раньше нас туда приехал.
Анна Ивановна взяла авторучку и сделала пометку в блокноте, пояснив:
– Вот это важная деталь.
– Почему? – удивилась Лора.
– Потом, всё потом. Мне ещё надо понять, что к чему. Да, а что дочери говорят? За ними следит кто?
– Младшую я уж не пугаю. Просто прошу быть осторожней. А старшая закрутилась. На кладбище даже не была. Правда, в кафе заявилась с новым бойфрендом.
– Вот как? И когда он появился? – спросила Анна Ивановна.
– Да кто ж его знает? Только шепнуть успела, что состоятельный, весьма приличный. Сегодня вот в Большой театр пригласил…
– Не рано ли? Сорока дней не прошло…
– А-а… – махнула рукой Лора. – Обижена она на отца. Таунхауз её продал. Да ещё и скрывал это. Ну и много чего. Он мне сказал такую фразу, что не поняла сразу… За день или за два как случилось. Узнал, что она прилетает, ну заявил, мол, как же не во время – вот если б через недельку. Что-то его торопило с решением судьбы. А тут объяснения… Надо ж было объяснять, почему машины заложены – и моя, и его, почему дача заложена, да… Ну ты всё знаешь, зачем повторять. Вот я теперь и осталась безлошадной. Иногда у младшенькой своей машину беру – её-то хоть не успел заложить, во время переписали на дочку. А так…
У Лоры зазуммерил мобильный. Она достала его, ответила:
– Легка на помине. Что говоришь? Встретите меня? Подвезёте? Это ещё зачем? Ну, хорошо, хорошо… Да, да, слушаю, слушаю…. Неужели так? Не может быть. Даже не верится. Ну хорошо, хорошо. Подожду вас здесь, у Ани.
Лора убрала мобильник и сказала Ане, которая с интересом прислушивалась к отрывочным фразам.
– Старшая звонила, неуловимая… Сказала, что они меня с Эдиком заберут. Что б одна домой не ездила, мало ли что. И вообще в восхищении. Он, Эдик этот, пообещал разобраться со всеми нашими тайными врагами. И с дачей разобраться, словом отбить её у тех, кому заложили.
– Так они сейчас сюда. Интересно, интересно взглянуть, – недоверчиво проговорила Анна Ивановна. – Что за фрукт? Поглядим.
– Ты как-то недоверчиво говоришь.
– Не верю в современных Монтекристов.
– Почему? – удивилась Лора.
– Узнай ка, подруга моя, где и как они познакомились. Что-то уж больно странно – слишком он «своевременно» появился.
– Знаю! Где ж ещё? В интернете. Она мне говорила.
– С ума сошла. Как же так можно? В интернете? – возмутилась Анна Ивановна.
– Да, нет, я не договорила. На сайте БМВ – есть такой сайт. Ну, владельцы таких крутых тачек там – народ приличный.
– Ну и жаргон у тебя, подруга…
– С кем поведёшься… Муж давно уж на такой язык перешёл, – пояснила Лора.
– Вот и результат, – сказала Анна Ивановна. – Ну а относительно тачек, сейчас посмотрим на их владельца…
Но дочь пришла одна, заявив, что Эдик ждёт в машине.
Анна Ивановна сразу набросилась на неё с вопросами, но та говорила о своём новом кавалере с таким восторгом, что убедить в чём-то было бесполезно.
А вечером и Лора позвонила ей в каком-то бурном возбуждении:
– Ты знаешь, Анечка, вот это прямо манна небесная. Вот это мужик! Домчал меня до дому… За нами следили. Действительно следили, но за ним две машины с его людьми шли. Он с ними был на связи, командовал, мол, видишь «мерс» справа лезет – отсеки, да и бээмвуху не пускай… Так, так…
Словом, действительно нам повезло.
– Сказки мне какие-то рассказываешь, – вздохнув, сказала Анна Ивановна. – И ты сама видела эти машины, которые за тобой гнались?
Но Лора не слушала. Она была взбудоражена каким-то невероятными обещаниями:
– И с дачей, сдачей поможет. Говорит, что отобьём у этих ростовщиков.
– Да откуда ж он взялся, монтекристо такой?
– У них сайт такой. Там все друг за друга горой. И на помощь в беде приходят, – не сдавалась Лора.
– Это он тебе рассказал?
– И дочка подтвердила!
– Я так понимаю, – с некоторой обидой сказала Анна, – что ты в моей помощи больше не нуждаешься?
– Ой, ну что ты, Анечка. Спасибо тебе огромное за поддержку. Ну что я тебя буду от дел отрывать. Пусть уж Эдик помогает.
– И за что, за какие такие коврижки он взялся помогать?
– Говорю же, в дочуру мою, похоже, влюбился.
– Ну и флаг вам в руки, дорогие мои! – в сердцах сказала Анна. – Впрочем, думаю, что ты ещё придёшь ко мне и довольно скоро. Так что надолго не прощаюсь.
И она положила трубку.
Продолжение следует